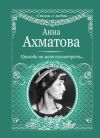Текст книги "Дом Поэта"
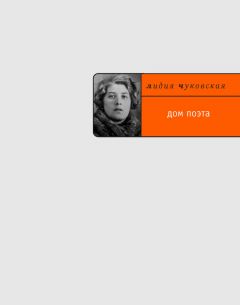
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
2
Но нет – до обиды еще одно лирическое отступление.
В споре с Надеждой Яковлевной я оказалась бы гораздо беспомощнее, если бы у меня не было двух могущественных союзниц: самой «Поэмы без героя» и Анны Ахматовой. «Поэма» – осуществленный замысел, который говорит сам за себя; «Проза о “Поэме”» и многочисленные замечания о «Поэме», записанные Анной Андреевной и постоянно развиваемые ею в беседах с друзьями, дают нам дополнительный ключ к замыслу.
– Как «Пиковая дама» сложна! – сказала мне однажды Анна Андреевна. – Слой на слое (1939).
Через 20 лет, в марте 1959, она сделала у себя в тетради такую запись:
«Поэма оказалась вместительнее, чем я думала вначале. Она незаметно приняла в себя события и чувства разных временных слоев…»[186]186
См.: First Redactions of Роета bez geroja. Prose Texsts // В кн.: Tale without a Hero and Twenty-Two poems by Anna Axmatova. The Hague: Mouton, 1973, c. 131.
[Закрыть] Ахматова, раздумывая об автобиографии, где она намеревалась изобразить Петербург в десятые годы, Петербург времен Первой мировой войны, революционный Петроград, послеблокадный Ленинград, – повторила ту же мысль о «многослойности» пережитого ею и подлежащего воплощению времени: «Сколько слоев!!! Эти темы кое-как затронуты в моей “Поэме без героя”»…[187]187
Книги. Архивы. Автографы: Обзоры, сообщения, публикации. М.: Книга, 1973, с. 61.
[Закрыть] В 1961 году Ахматова заново изумилась глубине своей «Поэмы»: «…она так вместительна, чтобы не сказать бездонна. Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее до дна. Я, как дождь, проникаю в самые узкие щелочки, расширяю их – так появляются новые строфы. За словами мне порой чудится петербургский период русской истории:
Да будет пусто место сие —
дальше Суздаль, Покровский монастырь – Евдокия Федоровна Лопухина. Петербургские ужасы: смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада»[188]188
First Redactions of Роета bez geroja. Prose Texsts, c. 131. [Проза о поэме.]
[Закрыть].
Надежде Яковлевне ничего этого за словами не чудится, Надежда Яковлевна поэмо-невосприимчива, поэмо-непробиваема. Какие петербургские ужасы, какие исторические события, какие временные слои! «Слой» один: «Поэма, порождение романтизма, скользит по жизни», – пишет Надежда Яковлевна на странице 481 [435]. Какие же глубины жизни, исторической и личной, если поэма по жизни «скользит», а время, когда дочитаешь «Поэму» до конца, «сливается в один ком» (480) [435]. Вдумайтесь в эту ситуацию: бедняга автор воображает свое творение чуть ли не бездонным («Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее до дна»), а критик – и не какой-нибудь случайный, со стороны, а присяжный, призванный, тот член тройственного союза, чье призвание «с голосу схватывать» и понимать стихи Мандельштама и Ахматовой – та самая жена Мандельштама, проницательнейшая Надежда Яковлевна полагает, что «Поэма» скользит по жизни, что блеск ее – всего лишь поверхпостный блеск, а «тяга» (как и тяга в том самом, ни к селу ни к городу приплетенном «Мцыри») не очищает, а всего лишь дурманит. Кто заблуждается – автор или критик? Критик имеет полное право не разделять иллюзий и самообольщений автора; но и мы, непризванные, со своей стороны имеем право вмешаться. Вчитаемся в «Поэму» и прислушаемся к защитному лепету бедняги автора.
В своих заметках Ахматова говорит о вместительности «Поэмы», о разных временных слоях, уместившихся в ней – «слой на слое, слой на слое» – в самой же «Поэме» поминает шкатулку с тройным дном.
Бес попутал в укладке рыться…
……………………………….
У шкатулки ж тройное дно…
В первоначальном варианте стояло:
В первоначальном варианте Ахматова подчеркивала два кануна, два основные временные слоя: 1913 год – канун Первой мировой войны (он же – канун нового века: в 1913 году
…по набережной легендарной,
Приближался не календарный
Настоящий Двадцатый Век) —
и второй слой, год 1940-й, канун 1941 года, канун Второй мировой войны и всего, что воспоследовало за этой датой. В шкатулке – в памяти Ахматовой – в ее «Поэме» проглядывались сначала два дна: год 1913-й и год 1940-й. В книге «Anno Domini», в стихотворении «Бежецк», Ахматова некогда писала:
Принявшись за «Поэму», Ахматова не захлопнула страшную дверь, но мужественно перешагнула ее порог – и поначалу разыскала в закромах своей необъятной памяти два слоя, два кануна: канун 1914-го, канун 1941-го. Вот почему в «Поэме» долго существовала строка: «У шкатулки ж двойное дно». Я не знаю, в каком году, какого числа Ахматова изменила строку: перечеркнула «двойное» и поставила вместо «двойное» – «тройное» (полагаю, случилось это в конце пятидесятых), но в мой экземпляр поправка внесена ее рукою 24 апреля 1960 года. Время знаменательное. Вторая половина пятидесятых и начало шестидесятых годов – это та многообещающая пора, когда у всей страны появилась надежда воскреснуть, когда Ахматова, всегда чуждая злободневности и всегда слышащая дыхание времени, начала записывать свои потаенные стихи прежних десятилетий – такие как «Реквием», или «Черепки», или «Стансы» – стихи, при Сталине непроизносимые, незаписываемые, хранимые не на бумаге, а только в чужой или только в ее собственной памяти. Смертью Сталина возвращены были к жизни миллионы людей, сотни стихотворных строк, и наиболее драгоценные – ахматовские. Те, о которых было ею сказано в «Застольной»[191]191
ПАА, с. 21.
[Закрыть]:
…Сколько раз глядела я,
Как они горят.
Сплетней изувечены,
Биты кистенем,
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.
Ахматова вспоминала эти меченые каторжным клеймом стихи чаще всего сама, иногда с чьей-нибудь помощью и, вспомнив, решилась, наконец, доверить их бумаге – и «Привольем пахнет дикий мед», и «Стансы», и «Невидимка, двойник, пересмешник», и «Немного географии», и «С Новым Годом! С новым горем!» – всех сокровищ не счесть. Она рискнула записать их и некоторые даже готовила к печати. (В большинстве случаев – напрасно: «Стансы», например, были выкинуты редакцией из книги «Бег времени», хотя в подготовленную к печати рукопись «Стансы» Ахматовой включены.) И как бы в подхват им, этим каторжным стихам, как бы в продолжение им, в отзвук им – в «Поэме» возникали новые, тоже каторжные, лагерные строфы, удесятеряя собою глубину и многослойность «Поэмы», превращая «Поэму» из памятника давно прошедшему в памятник совершившемуся и совершающемуся. В «Поэме» не только «слой на слое» тех времен, о которых речь, но она и по-другому слоиста: в ней отложились слои разных времен, тех, в которые она создавалась. На первую часть «Поэмы» Ахматова взглянула сперва «Из года сорокового», на две другие – «Решку» и «Эпилог» глянула с башни 1942-го; так в «Поэму», кроме Первой мировой, вошла Вторая – а затем, оглянув время и свое творение с башни пятидесятых-шестидесятых, Ахматова, естественно, стала вводить в «Поэму» горчайший звук нового десятилетия, вырвавшийся, наконец, наружу стон многомиллионных лагерей. Его привезли с собою уцелевшие, воротившиеся. Так явились в «Поэме» строки и слова «допрос», «наган», «каторжанки», «стопятницы», «горсть лагерной пыли» и «по ту сторону ада мы». Так явились лагерные строки и строфы, а шкатулка обрела третье дно.
Сравнение ахматовской «Поэмы без героя» с «Шумом времени» О. Мандельштама, сделанное Надеждой Яковлевной в главе «Черновик», кажется, в первую минуту, правомерным, законным и даже интересным – и там и здесь речь о времени – но это лишь в первую минуту; в следующую, подумав, поймешь полную незаконность сравнения; конечно, между «Шумом времени» и «Поэмой без героя» больше общего, чем, например, между «Божественной комедией» и «Мцыри», но это сопоставление тоже неправомерно, потому что в «Шуме времени» взрослый Мандельштам воспроизводит свое далекое детство и отрочество, нечто, прошедшее давным-давно; «Поэма» же «без героя» написана и о времени давно прошедшем и о том самом времени, в которое она писалась; так, первоначальный вариант «Эпилога», то есть та часть «Поэмы», где речь идет о войне 1941—45 годов, создан был в то самое время, когда война эта длилась. Я не отметки ставлю обоим произведениям, кому тройку, кому пятерку, я только хочу сказать, что «Поэма без героя» по охвату событий гораздо вместительнее прекрасной книги Мандельштама: шум давно минувшего времени сменяется в ней шумом только что миновавшего и еще длящегося – длящегося тогда, когда Ахматова писала свои строфы.
В одном из поздних вариантов стихотворения «Городу Пушкина»[192]192
БВ, с. 415.
[Закрыть] возникла строка «О, встреча, что разлуки тяжелее!» Ахматова говорила мне (25 июня 1960), что таков главный звук переживаемого нами времени: нынешние встречи тяжелее разлук. Та же мысль в стихотворении 1964 года «Светает. Это страшный Суд. / Свиданье горестней разлуки». Каждая новая встреча с домом ли, городом ли, или с человеком, с которым расстался давно, – это встреча с развалинами, а из-за плеча случайно оставшегося в живых человека глядят лица замученных и убиенных.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
Полагаю, что строфы эти возникли в «Эпилоге» в мае 1955 года. (По этой дороге тогда возвращались уцелевшие каторжане, везя с собою на волю воздух каторги; многие по этой дороге тогда возвращались. Ахматова написала о пути туда, пути погребальном, «ушло так много» – и не вернется. Дорога открылась осенью 1941-го, когда Ахматову отправили в эвакуацию; в 1942-м в «Эпилоге» загремела строфа об Урале: «тоннелями и мостами / Загремел сумасшедший Урал», а в 1955-м прогремела новейшая: отзвук тысячи тысяч смертей на этапах и в пересылках.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много…
И в «Эпилоге» же в те же пятидесятые годы возникли строфы, прочтенные мне в июне 1959 года, углубляющие тот же лагерный слой:
А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год, —
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
(Надежда Яковлевна много говорит о пристрастии Ахматовой к двойничеству, но об этом двойнике почему-то не упоминает. Не потому ли, что «Эпилог», как и новые строки в «Решке», она при разборе «Поэмы» вообще вниманием не удостаивает?)
Каторжные строки возникли в «Решке» в конце пятидесятых годов или, самое позднее, – в начале шестидесятых.
Но это ведь «Решка» и «Эпилог». Надежда же Яковлевна с такой настойчивостью концентрирует все свое внимание исключительно на одной, первой, части «Триптиха» и всего лишь на первом варианте второй, – что я вообще начала сомневаться, читала ли она – слышала ли она? – «Поэму без героя» целиком? В 1962, в 1963 годах?
Судя по некоторым цитатам из «Поэмы», разбросанным по «Второй книге», – слышала. Но ведь и слушая можно не слышать.
В своих записях о «Поэме» Ахматова поминает «петербургские ужасы»: проклятье Петербургу, произнесенное Евдокией Лопухиной, убийство Павла, дуэль Пушкина…
…царицей Авдотьей заклятый, —
говорит она о Петербурге в «Поэме». Но в «Поэму» она постепенно ввела и ужаснейший из всех петербургских ужасов: террор тридцатых годов нашего века, ураганным огнем беззвучных расстрелов пронесшийся по всей стране и по Ленинграду, когда
…ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
Ахматова воображала, будто за строфами «Поэмы» читателю вслед за нею примерещится чуть не весь петербургский период русской истории, судьба заклятого города; города, где четкая дробь барабанов или отдаленный, еле слышимый, таящийся в сугробах гул вечно напоминает о прошедших и грядущих казнях: об убийстве Павла или убийстве Пушкина, об эшафоте, на который взошел Достоевский, о массовых казнях 1937-го и о массовых блокадных смертях.
…Как пред казнью бил барабан…
……………………………………
Ровно десять лет ходила
Под наганом
……………………………………
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвьем братских могил.
Вот что уместилось в шкатулке, и вместе с кромешной судьбой Петербурга-Ленинграда – колючая проволока, тайга, погребальный путь в сердце дремучей тайги – вот что сохранилось в теремах, в хоромах пророческой ахматовской памяти.
Я вовсе не желаю свести всю «Поэму» к лагерным или блокадным строфам; о «Поэме» можно сказать, как Ахматовой сказано о музыке:
«Поэма» многогранна, как великая музыка, откуда она родом («И отбоя от музыки нет»), свести ее к чему-нибудь одному – к одной теме, к одной грани – было бы произволом и ложью. Не для того я поминаю о лагерных строфах, чтобы свести к ним «Поэму», а потому, что они – законный ее элемент, и говорить о «Поэме», опуская их, как делает Надежда Яковлевна, беззаконие. В этом смысле особенно интересно узнать, что же разглядела в заветной шкатулке Ахматовой Надежда Яковлевна? «Поэму» это не характеризует, но ее самое, зоркость ее взгляда и меру ее понимания – в высшей степени.
Что разглядела. А ничего. Мелочишку. Вздор. И что же, собственно, разглядывать, если «Поэма» «скользит по жизни», а время, или, вернее, времена, которыми она переполнена, «слипаются в ком»?
«Шкатулка с тройным дном имеет смысл, – бойко поучает нас Надежда Яковлевна, – если в ней действительно можно что-нибудь спрятать, но во время обыска или после смерти все три дощечки вынимаются в один миг. Что же там лежит?» (489) [442].
От этого вопроса захватывает дух. Он поставлен искренне, прямо, без увиливаний, как говорится – ребром.
Сейчас человечество узнает, наконец, что же заключено в «Поэме без героя», которую Ахматова писала 25 лет и о которой – почти столько же.
Привожу ответ, следующий непосредственно сразу после вопроса:
«Ахматова, видимо, решила под конец слить Князева и Мандельштама, пропустив обоих через литературную мясорубку, вот и вышло, что она пишет на черновике Князева, а у гусарского (читай, драгунского. – Л. Ч.) корнета, может, и не было черновиков…» (489) [442–443].
И – всё? Это всё, что находит Надежда Яковлевна в «Поэме без героя», в ахматовской заветной шкатулке? Не заняться ли нам, вместо разбора «Поэмы», изучением вопроса, были ли у Князева черновики, и если были, то имел ли он на них право?..
(Скажу между прочим: имел. На черновики имеет право всякий. А вот на их опубликование – нет.)
Кроме животрепещущего вопроса о черновиках Всеволода Князева, в заветной шкатулке Надежда Яковлевна находит ненавистный ей «культ красавиц»: «столетняя чаровница», как названа Ахматовой в «Решке» романтическая поэма XIX века к негодованию Надежды Яковлевны, —
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем —
и дальше:
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.
«Ахматова совсем иначе относилась к “Поэме”», – пишет Надежда Яковлевна, – и ее отношение мне столь же чуждо, как культ “красавиц”. Она назвала поэму “столетней чаровницей” и снабдила ее дамскими аксессуарами: брюлловское плечико, кружевной платочек… Она говорила о “колдовской силе” поэмы и, очевидно, считала ее порождением романтизма. Не отсюда ли ее поверхностный блеск и соблазн?» (480–481) [435].
Со словом «соблазн» спорить не стану – не понимаю, в каком смысле оно здесь употреблено. Поверхностной «Поэма без героя» может показаться лишь злостно поверхностному, то есть ленивому, взгляду. Что ни слово в главах «Второй книги» о «Поэме без героя», то ошибка, вздор или развесистая клюква. Ахматова никогда не называла «Поэму без героя» – «столетней чаровницей»; она назвала так антипода своей «Поэмы», романтическую поэму XIX века, которая манила ее к себе (как это изображено во второй части) и которую она отвергла, – как это изображено там же и как об этом не один раз говорится в заметках о «Поэме». Выдавать «Поэму без героя» за порождение романтизма – значит извращать ее суть. «Кружевной платочек», «брюлловское плечико» – презрительно перечисляет Надежда Яковлевна содержание шкатулки. За «кружевным платочком» Ахматова умела разглядеть колючую проволоку, из-за плеча плясуньи – увидеть груды мертвых тел, из-за еле слышного гула, таившегося в сугробах – расслышать грохот грядущей орудийной пальбы, взрывы фугасок и стрельбу по заключенным. А между вторым и третьим дном заветной шкатулки благоговейно хранится пепел Клааса – горсть «лагерной пыли».
«Ахматова… считала “Поэму” порождением романтизма… она называла поэму “столетней чаровницей”», – пишет Надежда Яковлевна.
Неправда. Умышленная или неумышленная, но ложь.
«Столетней чаровницей» именовала Ахматова вовсе не свою «Поэму», а романтическую поэму XIX века, неуместную, по ее мнению, в XX. В борьбе со «столетней чаровницей», с романтической поэмой XIX века, в борьбе с петербургской повестью (то есть первой частью) и рассказе об этой борьбе родилась «Поэма без героя». Общеизвестно, сказано и пересказано много раз собеседниками Ахматовой и мемуаристами – пересказано и Надеждой Яковлевной, что невозможной и неуместной считала Ахматова попытку возродить в XX веке поэму XIX и не только ультраромантическую, сугубо романтическую, – как «Кавказский пленник» или «Бахчисарайский фонтан», но и «Евгения Онегина» (которого она, вопреки пушкинскому подзаголовку, смело называла поэмой).
Интонация, созданная Пушкиным для своего романа в стихах, ритмика, строфика столь необычайны и совершенны, что упаси Боже любого поэта от попытки подражания. «Евгений Онегин», гениальностью замысла и совершенством исполнения, надолго остановил, окончил развитие жанра; всякие попытки подражания оканчивались неудачей – даже Баратынский потерпел неудачу. Совершенство неподражаемо, и надо не поддаваться инерции, не следовать ему, а искать наперекор ему нового пути и добиваться на новом пути нового, иного совершенства.
Этот подвиг, по мнению Ахматовой, оказался – в XIX веке – под силу Некрасову, создавшему «Мороз, Красный нос» – новую поэму, чья гармония вовсе не соответствует «онегинской», сотворенную из страданий других – не пушкинских – людей, из иного, не пушкинского, мироощущения, другого ощущения природы. Следующие победы произошли уже не в XIX, а в XX веке – новый вид поэмы создал Маяковский («Облако в штанах»), и Александр Блок поэмой «Двенадцать». «Он ввел в поэму ритмы улицы, мы тогда сразу поняли это», – сказала мне Ахматова. Когда же Александр Блок попытался создать поэму в пушкинском ключе – «Возмездие» – он потерпел неудачу «великолепную, огромную», по выражению Ахматовой (1 января 1962 года).
Надежда Яковлевна хочет уверить нас, будто в «Поэме без героя» Ахматова попыталась возродить поэму XIX века, да еще, к тому же, романтическую; потому Надежде Яковлевне «Поэма без героя» чужда, потому она находит ее поверхностной, далекой от жизни и пр. Если бы Ахматова действительно совершила такую попытку – возродить в XX веке романтику начала XIX – она, безусловно, потерпела бы искомую Надеждой Яковлевной неудачу: в середине XX века, в России, какая уж романтика! Весь пафос середины XX века в России – отбросив все виды романтизма, невольного, навязываемого и вольного, создающего душевный комфорт, отбросив его, увидеть истину, правду, жизнь, как бы эта истина ни была окровавлена, как бы эта правда ни отдавала трупным запахом грязных нар.
Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной полночью енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересадкою в лагерь «Свободный»
С трупным запахом грязных нар, —
Показался мне город этот
Тою полночью голубой.
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными – и тобой[194]194
[Стихотворение приведено в том виде, в каком Л. Ч. его в свое время запомнила. См.: Записки. Т. 1, с. 76].
[Закрыть].
Вот одна из тем «Поэмы без героя» – превращение города «с первым призом за красоту», «где мы когда-то танцевали, пили вино», города, воспетого Пушкиным, Блоком, Мандельштамом и самою Ахматовой, превращение этого романтического города (того, который глядит в окна блоковской «Донны Анны» и первой части «Поэмы без героя» с блоковским боем часов и блоковской вьюгой) – в обыкновенный пересыльный пункт, смрадный и грязный. Одна лишь голубая полночь осталась от этих красот, а столетнюю чаровницу с кружевным платочком Ахматова выгнала —
В темноту, под манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира,
И факел Георг держал —
вот как красиво умирали романтические поэты XIX века – ей не место на пересыльном пункте, где ни жаворонков, ни Байрона, ни факелов; столетняя чаровница не в силах своим кружевным платочком заслонить от Ахматовой истину.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
Красоты Ленинграда в эпоху террора и блокады казались мало того что ненужными – оскорбительными.
О Венеции подумал
И о Лондоне зараз?..
Какая Венеция, какой Лондон! Город, «не ставший моей могилой», – говорит в «Поэме» Ахматова о Ленинграде, но ставший в 30-е годы могилой или пересыльным пунктом, где
…обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки…
Паровозные гудки вместо жаворонков, трупный запах гниющих нар вместо духов первой части:
На площадке пахнет духами…
и смерть после мук – других, не любовных, не тех, из-за которых на пороге возлюбленной стреляется «драгунский корнет со стихами».
«“Поэма” – порождение романтизма»… Я не перестаю удивляться глухоте и слепоте Надежды Яковлевны.
В «Решке» Ахматова рассказывает о своем единоборстве со «столетней чаровницей», и одна из граней «Поэмы без героя» – рассказ о расправе с романтикой.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой
И гнала на родной чердак…
Ахматова гнала свою гостью назад, обратно в XIX век, к Шелли и Байрону, из ХХ-го – из «настоящего двадцатого», военного, лагерного, в котором жила сама.
Надежда Яковлевна упорно забывает, что «Поэма без героя» не одночастная и не двучастная вещь, а трехчастная, триптих; говоря о «Поэме», она постоянно имеет в виду лишь первую часть «1913 год. Петербургская повесть», ту, на которую оборачивается Ахматова во второй части – в «Решке». Да, первая часть не лишена романтизма, от которого автор отрекается, уходит, «отдав ему честь». Романтичность «Петербургской повести» Ахматова преодолевает и даже как бы перечеркивает в третьей – в «Эпилоге». Много тоньше Надежды Яковлевны понял «Поэму» В. М. Жирмунский. Он писал:
«В “Решке”, рассуждая о “Петербургской повести” (то есть о первой части. – Л. Ч.), Ахматова иронически указывала на “столетнюю чаровницу”, романтическую поэму начала XIX века»[195]195
В. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973, с. 173.
[Закрыть].
Иронии в «Решке» Надежда Яковлевна не приметила, а кружевной платочек красавицы подействовал на нее как на быка красная тряпка. Увидав кружевной платочек, она вообще перестала видеть в «Поэме» что бы то ни было, кроме «дамских аксессуаров» и устарелых романтических красот.
В действительности «Поэма» – вовсе не порождение романтизма, как бредится Надежде Яковлевне, а открытая схватка с ним и совершенное, полное одоление его. «Заметили ли вы, – спросила у меня однажды Анна Андреевна (октябрь, 1962) – что первая часть, “Девятьсот тринадцатый год” увиден как бы сквозь гофманиану, а 1941-й изображен с полной реалистичностью»?
Перелом совершается в промежуточной части, во второй, в Intermezzo, в «Решке». «Как в беспамятном жили страхе, / Как растили детей для плахи, / Для застенка и для тюрьмы», – это уже не столетняя чаровница произносит, не ее это слова. Это трезвое осознание реальности и переход к реальнейшему из реальнейших – к «Эпилогу».
Полна реальностей и «Петербургская повесть» – вороньих крыл, мучных обозов, размалеванных вывесок (этим «Поэма» близка одной из «Северных элегий» – «Предыстории» – да и ахматовской поэзии любого времени), но все реалии опущены «столетней чаровницей» в глубину зеркал, в пустоту вышедшего из рамы портрета, в еле слышный нарастающий гул, в видения в пламени свечей, утонувших в хрусталях. Первая часть вся в обаянии, в упоении страшных предчувствий, вся у бездны на краю, вся под крылом, в тени надвигающейся, но еще не наступившей гибели. Из пустой рамы глядит «неоплаканный час» – смертный час застрелившегося юноши.
В «Эпилоге» гибель уже совершилась. Ничего не тонет в хрусталях, никакой яд не вспыхивает синим пламенем. Никакого таинственного пламени – если и встречается пламя, то это догорающее пламя пожара от сброшенной бомбы.
Ахматова сама противопоставила – и не в разговоре, а в «Поэме» – противопоставила «Эпилог» первой части, «Тринадцатому году».
Всё, что сказано в Первой Части
О любви, измене и страсти,
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»…
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
«Зашитый» город – это уже не город видений и призраков, воспоминаний, оснеженных колонн и предчувствий.
«Свободный стих» сбросил со своих крыльев не одну лишь повесть о любви, измене и страсти; освободился он и от гофманианы, и от романтизма. И от петербургского мифа. Петербургский миф, которым питалась первая часть, сменился в «Эпилоге» реальностью вымирающего блокадного Ленинграда.
Террор и война, война и террор… Город «зашитый» – это не город гофманианы (она же отчасти и блоковиана), не один из элементов «петербургского мифа», а реальный Ленинград, реальное военное время, город, мучимый бессонницами не по причине смутных предчувствий наступающей гибели, расплаты за беспутство и ожидания возмездия, этот город лишен сна потому, что он охраняет себя от бомбежек; в «Эпилоге» заклятья уже все совершились, и город стоит не заклятый, а зашитый потому, что ленинградские памятники, для спасения от бомб, были либо закопаны в землю, либо зашиты в рогожу.
Будущий гул, таившийся накануне нового века в петербургских сугробах – он, уже не будущий для автора, в ушах Ахматовой он разразился грохотами войны, революции, грохотами новой войны и новых расстрелов. «Эпилог» – не память о прошедшем, и не покаяние, и не предчувствие – он – живая историческая реальность, сиюминутная для той минуты, когда он писался.
А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый
Побледнел, помертвел, затих… —
говорит Ахматова в «Эпилоге», обращаясь к Ленинграду. В прозаической ремарке, предшествующей «Эпилогу», сказано:
«Белая ночь 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От Гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед которым увечный клен) разбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит…»
Как же изменился этот голос! В первой части «Тринадцатый год. Петербургская повесть» – голос звучал таинственно, рождаясь как бы из глубины зеркал и вещая о будущих бедах, всё было знаком надвигающейся гибели: и самоубийство драгуна, и окаянная пляска козлоногой, и пряная болтовня маскарада, и сирень, которая вяла в кувшинах.
Пятым актом из Летнего Сада
Веет…
……………………………………
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень —
это первая часть.
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век…
Это тоже первая часть. В «Эпилоге» же XX век не приближается, а уже наступил с невиданным в истории человечества бесчеловечьем. Бомбы сброшены, город в развалинах, видно все как на ладони, ухают тяжелые орудия; бомбы, орудийная пальба и пожары уже так привычны, что, сказав об уханье тяжелых орудий, можно добавить: «но в общем тихо». В этой прерываемой бомбами тишине голосу автора привольно рыдать «над безмолвьем братских могил».
В первой части: «ко всем порогам приближалась медленно тень»; «мимо, тени! – он там один», «тень чего-то мелькнула где-то». В «Эпилоге» же, если и упоминается тень, это не романтический символ прошедшего или грядущего (с романтикой Ахматова покончила в «Решке»); слова: «Тень моя на стенах твоих» – простое и законное утверждение своей пожизненой неразрываемой связи с городом Пушкина, Мандельштама и Блока:
с городом, чьими арками, мостами, фонарями, кострами, метелями пронизана насквозь вся поэзия Анны Ахматовой до и после «Поэмы».
Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград…[197]197
БВ, с. 411 [ «Летний сад»].
[Закрыть]
……………………………………
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость![198]198
Там же, с. 57 [ «В последний раз мы встретились тогда…»].
[Закрыть]
……………………………………
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду[199]199
Там же, с. 445 [ «Меня, как реку, суровая эпоха повернула…»].
[Закрыть].
Ахматова и Петербург-Ленинград совпадали не только в ее сознании, но и в сознании современников:
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге, —
писал Пастернак о поэзии Анны Ахматовой.
И когда она сама в эпилоге к «Поэме» утверждает:
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил, —
то речь ведется не о призраках, которыми переполнена первая часть, и не о таинственных отражениях в несуществующем зеркале, а о действительной реальной биографии Анны Андреевны Ахматовой, знатока Петербурга, Ленинграда, Эрмитажа, женщины, прожившей почти всю свою жизнь в Петербурге-Ленинграде, и Анны Ахматовой – поэта, ведущего свою петербургскую родословную от Пушкина; в стихах «Немного географии» она, обращаясь к Мандельштаму, говорит о своем городе:
Надежде Яковлевне осталась невнятной крутая и многозначительная перемена художественной задачи, манеры, стиля, обращения со словом, совершившаяся в «Эпилоге», ей угодно свести всю «Поэму» к одной части, а именно к первой, которую Ахматова назвала «Девятьсот тринадцатый год» и по старинному, по XIX веку, «Петербургская повесть». (В 1913 году ведь только приближался, а не наступил еще «Настоящий Двадцатый Век».)
Для Надежды Яковлевны основных героинь в «Поэме без героя» две: «Козлоногая» в первой и «столетняя чаровница» – брюлловская красавица, в «Решке». Таких, например, героинь, как Россия, беженка Россия, для нее в «Поэме» просто нет. В «Эпилоге» Ахматова отряхает прах предсмертного призрачного бала, преступного бала накануне чумы, и говорит о своей встрече с Россией в первые месяцы войны – Россией-беженкой, такой же беженкой, какой была тогда и она сама:
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.
(В одном из черновых набросков стояло:
…не такого с тобой свиданья
Я, Россия, всегда ждала.)
Это уже не «свиданье в Мальтийской капелле» из первой части, и не свиданье драгуна или его соперника с Коломбиной, это – свиданье Ахматовой и России – реальной Ахматовой с реальной, отступающей, ломающей руки и все-таки непреклонной Россией, да ведь Надежда Яковлевна не видит в «Поэме» ни войны, ни лагеря, ни встречи Ахматовой с Россией: один лишь маскарад, культ красавиц и встреча с чародействующей брюлловской красоткой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.