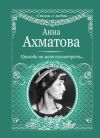Текст книги "Дом Поэта"
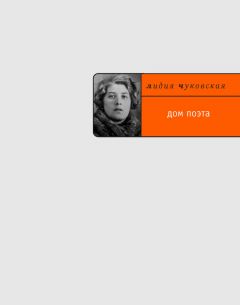
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Ахматова? У нас очень почитают Ахматову, перелистайте журналы. «Реквием»? О нем еще недавно упоминалось в критических статьях. Книга? А почему вы думаете, что книга не выйдет? Это просто временное затруднение с бумагой. Книга у нас в плане. Какого года? Это еще неизвестно. Претензии к составителям? Никаких.
Синяков нету– все шито-крыто.
А читатель лишен принадлежащего ему наследства – поэзии Анны Ахматовой. На неопределенное время[86]86
[ «В 1976-м, в том же издательстве, вышел сборник Анны Ахматовой под тем же названием “Стихи и проза”, – писала Л. Ч. позднее в своем очерке «Процесс исключения», – составителем отдела стихов вместо меня обозначен издательский редактор – Б. Г. Друян; автором предисловия вместо Корнея Чуковского стал Д. Т. Хренков, главный редактор издательства. Освобожденная не от плодов моего труда, но от моего имени, книга Ахматовой не только вышла в свет, но даже двойным тиражом, чему я, разумеется, рада». См.: Лидия Чуковская. Процесс исключения. М.: Время, 2010, с. 61–62].
[Закрыть].
Недавно в другое издательство сдан другой однотомник Ахматовой. В Ленинградском отделении издательства «Советский писатель», в Большой серии Библиотеки поэта, намечены к выходу стихотворения и поэмы, которые подготовил к печати, снабдил статьей и комментарием академик В. М. Жирмунский. Созданию этой книги он отдал несколько последних лет жизни. 80-летний ученый целыми днями, сверх сил, работал в архивах Ленинграда и Москвы. Друзья Ахматовой с большой радостью отдавали ему всё, что имели, все подаренные ею автографы, все свои записи, воспоминания о ней… Ведь это счастье: первое научное издание стихов Анны Ахматовой… Но:
Как поезда с откоса.
Академик Жирмунский умер, успев окончить свой труд, но не успев довести книгу до читателя.
Увидит ли ее читатель? И когда? И с какими изъятиями? («Реквиемом», разумеется, и В. М. Жирмунскому пришлось пожертвовать – как и самой Анне Ахматовой в «Беге времени», как и нам в сборнике «Лениздата».)
Смерть В. М. Жирмунского – большая потеря: для науки, для семьи, для учеников, для друзей. И – для посмертной судьбы наследия Ахматовой. Это еще одна катастрофа, постигшая Ахматову после кончины[87]87
Сейчас (июнь 1974) – по городу распространились слухи, что в ближайшее время в Гослите выйдет однотомник Анны Ахматовой под редакцией и с предисловием Банникова. В то, что это издание состоится, я верю.
[Слухи подтвердились. См.: Анна Ахматова. Избранное / Сост. и послесл. Н. Банникова. М.: Худож. лит., 1974].
[Закрыть].
На родине. А как обстоит дело с ее стихами на Западе?
И там катастрофы. Мы и Запад связаны взаимно. Если катастрофа здесь, то и там, потому что основа западных путаниц или невежеств – это мы. Сколько раз напечатана, например, за границей «Поэма без героя» – и каждый раз в каком-нибудь заново искалеченном виде… (Если бы сборник «Лениздата» вышел – увечья были бы исцелены.) Но кроме путаницы в посмертные беды Ахматовой Запад внес еще одну – и не малую – лепту.
В 1950 году Ахматова написала и опубликовала в «Огоньке»[88]88
1950 г., №№ 14, 36, 42.
[Закрыть] цикл стихотворений «Слава миру». В них прославляется Сталин. Все усилия Анны Андреевны спасти сына были к тому времени исчерпаны. Ей намекнули, что следовало бы воспеть вождя. В сущности, он был ею уже воспет, и не однажды; две строчки из «Стансов», например:
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы
И Самозванца спесь – взамен народных прав…[89]89
Существует вариант:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы… Который из вариантов следует считать окончательным текстом – я не знаю. Когда в 1964 году Ахматова составляла «Бег времени», в машинописном тексте было: «всех Иванов злобы».
[Закрыть] —
дают полный портрет вождя во весь рост.
Но это было не то, что требовалось. Ахматова написала «то»: написала целый цикл стихов в честь Сталина – под названием «Слава миру». Пожертвовала всем – гордостью, заветною ненавистью, собственной славой, и даже – даже своим мастерством. Стихи в честь Сталина неталантливы, банальны, неумелы. «Войны, чтоб жизнь созидать». Попробуйте произнести! И это та же Ахматова, которая написала «Nox» и «Мужество»!
Сочиняя стихи во славу Сталина, Ахматова пожертвовала и ненавистью и вдохновением, но жертва оказалась напрасной.
Сын остался в лагере. Когда Сталин наконец умер, Ахматова продолжила свои хлопоты: Л. Н. Гумилев был освобожден в мае, а реабилитирован окончательно в июне 1956 года.
Стихи в честь Сталина Ахматова перепечатывать запретила. В ее сборник 1961 года они включены не были.
Я присутствовала при том, как в июне 1960 года, в Москве, на Ордынке, Анна Андреевна разорвала на мелкие части листок бумаги, на котором были перечислены эти стихи: издательство Художественной литературы предлагало ей включить их в сборник.
– Анна Андреевна, не надо… Анна Андреевна, вам достаточно зачеркнуть, – говорили ей, а она, бешено и аккуратно согнув лист пополам, оторвала конец листа и рвала его, пока он не был изорван в клочья. «Я все время боялась, что мне это вставят», – сказала она. Потом собрала клочки комом, смяла их в кулаке, вышла на кухню и бросила в помойное ведро.
Мне известно, что во время своего пребывания за границей Ахматова передала издателям просьбу не перепечатывать стихи «Слава миру».
По какому же праву они перепечатали их вопреки запрещению?
Если издателям уж так не терпелось перепечатать весь цикл, печатали бы его в отделе прошений на высочайшее имя – там воспевание Сталина было бы уместнее. Да еще с эпиграфом из стихов, обращенных ко всем нам, современникам Ахматовой:
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача…
Но печатать стихи, добытые у автора многолетней душевной пыткой, печатать, зная, что автор не желает этого, – бесстыдно.
Мало Ахматова вынесла надругательств на родине – надо еще добавлять их на чужбине?
А, тебе еще мало по-русски!
И ты хочешь на всех языках
Знать, как круты подъемы и спуски
И почем у нас совесть и страх.
…К числу посмертных надругательств над Анной Ахматовой я отношу и «Вторую книгу» Н. Мандельштам. Вышедшую, к стыду нашему, у нас в Самиздате в виде рукописи, и на Западе – в виде книги. Первые воспоминания об «общем жизненном пути».
Я часто думаю, что испытала бы Ахматова, прочти она эту книгу. И сразу отталкиваю от себя этот праздный вопрос.
«Вторая книга» Н. Мандельштам не могла попасть в руки Ахматовой, живи они обе – Анна Андреевна и Надежда Яковлевна – хоть до ста лет. При жизни Ахматовой такой поступок, как эта книга, не мог быть не только совершен, но даже замыслен. При жизни Ахматовой Надежда Яковлевна Мандельштам не решилась бы написать ни единой строки этой античеловечной, антиинтеллигентской, неряшливой, невежественной книги.
Мы и сами не отдаем себе отчет, теряя великого поэта, – от каких несчастий спасало нас одно его присутствие на земле. От скольких лжей. От скольких предательств.
И поэт, справедливо жалуясь на свою тяжкую судьбу, не представляет себе, что предстоит ему перенести – после смерти.
Ахматовой после смерти выпало на долю еще одно несчастье: быть изображенной пером своего друга – Надежды Яковлевны Мандельштам.
Глава пятая
Льда суровей, огненней огня…
Анна Ахматова. Пролог
1
«Вакансию первого поэта-женщины я с ходу – у витрины книжного магазина – предоставила Ахматовой …Я допускала существование нескольких мужчин-поэтов, но для женщин мой критерий был жестче – одна вакансия и хватит. И вакансия была прочно занята. Остальных по шапке…»
Так сообщает о начале своей любви к поэзии Анны Ахматовой Н. Мандельштам на странице 512 [464]. Но и Ахматовой, которую Надежда Яковлевна с ходу удостоила первой вакансии, под ее пером на протяжении всех семисот страниц «Второй книги» приходится не очень-то сладко. Грубость и бесчеловечье, принимаемое автором мемуаров за правдивость и природную насмешливость, и тут дают себя знать.
Однажды Мандельштам «не без смущения сказал мне, что женщины все-таки что-то из себя изображают, не совсем естественны (попросту кривляки), – переводит слова Мандельштама на свой язык Надежда Яковлевна. – “Даже ты и Анна Андреевна”… Я только ахнула: наконец-то он догадался! Обо мне и говорить нечего, выдрющивалась, как хотела…» (353) [321–322].
Дальше ожидаешь сообщения, что Надежда Яковлевна «выдрющивалась», а ее лучшая подруга, Анна Андреевна, выпендривалась, но нет, об Ахматовой сказано хоть и уничижительно, но иначе: у нее был, оказывается, «ряд моделей, приготовленных еще Недоброво по образцу собственной жены, “настоящей дамы”, для сознательного выравнивания интонаций, поступков, манер. Спасал только неистовый жест, смущавший, но, очевидно, забавлявший Недоброво, и прирожденная неукротимость» (353) [322]. Из стихов Ахматовой, посвященных Недоброво, из статьи Недоброво, посвященной Ахматовой, не приметно, чтобы друг в друге их что-нибудь забавляло. Как правило, чужая неукротимость забавляет обычно пошляков, людей с низменными душами; какие основания полагать, что Недоброво был низок?.. С манерами же у Анны Ахматовой, если довериться повествованию мемуаристки, дело вообще обстояло неважно.
«Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью». С годами «чуть не хлопая» превратилось в «хлопала». «В бродячие годы старости, когда она проводила зиму, странствуя по Москве… она хлопала дверью перед носом каждой приютившей ее хозяйки» (508) [460]. Вот тебе и «настоящая дама»! Хлопать дверьми – неужели это и есть выравнивание манер и поступков, или, быть может, тот самый неистовый жест прирожденной неукротимости, который «забавлял» Недоброво? А по-моему, хлопанье дверью, да еще в чужом, оказавшем тебе гостеприимство доме – какая же это неукротимость? Это самое заурядное хамство.
Собираю, собираю, коплю черточки душевного и наружного облика Ахматовой, с большой щедростью разбросанные по страницам «Второй книги». Ведь далеко не всем посчастливилось, как мне, быть знакомой с Ахматовой: доверчивый читатель может вообразить, что перед ним правда. Ахматову, сообщает Надежда Яковлевна, «тянуло в круг повыше» (483) [437]… В старости ей стало казаться, будто все в нее влюблены, «то есть вернулась болезнь ее молодости»[90]90
Ну как же не утверждать, будто Анне Андреевне только мерещилось в молодости и в старости, будто все в нее влюблены! В своих воспоминаниях Ахматова сообщает, что в нее был влюблен Мандельштам (Сочинения. Т. 2, с. 170–171 и 175). Явный симптом болезни!.. Надежду Яковлевну интересует, когда именно зачислила Ахматова Мандельштама в ряд своих поклонников (509) [461]. Когда зачислила – не знаю; в разговорах со мною Анна Андреевна дважды упомянула, что «Осип» был в нее влюблен: 31 мая 1940 года (разговор в Фонтанном Доме, в Ленинграде) и 3 ноября 1941-го (разговор в вагоне, эшелон Казань – Ташкент).
[Закрыть] (118) [110]; «Путала она все» (487) [440]; Ахматова, пытаясь судить об отношениях между Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной, «во многом, если не во всем, попадала впросак» (148–149) [137]; «я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой» (259) [238]. Оно и неудивительно – наверное, в беседах с такими людьми, жизнь свою положившими на осмысление действительности, исторической и современной, какими были друзья Ахматовой в разные годы: Е. Замятин, М. Булгаков, Б. Энгельгардт, Ю. Тынянов, Ю. Оксман – бедняжка Анна Андреевна постоянна попадала впросак; с мыслями Ахматова вообще была не в ладу: перечисляя то, «чего она лишилась, когда эпоха загнала реку в другое русло», Ахматова «забыла… про мысль» (386) [351].
Несмотря на отсутствие у Анны Ахматовой мысли, на ее хлопанье дверьми и расстроенное воображение, Надежда Яковлевна ее любит и чтит. Называет ее «перворазрядным поэтом» (353) [322]. Ценит способность к самоотверженной и преданной дружбе. В частности, например, в полуголодные ташкентские годы Ахматова всегда делилась с Надеждой Яковлевной хлебом или обедом (499) [452].
Однако хлеб-соль ешь, а правду режь.
Вот, например, если верить правдолюбивой Надежде Яковлевне, отношение Ахматовой к театру.
«Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми» (359) [327]; «внезапная тяга к подмосткам (речь идет о второй, оставшейся неоконченной, пьесе Ахматовой «Пролог». – Л. Ч.) кажется мне данью старческой слабости» (408) [370]. Спасибо, что не слабоумия. «Внешний успех трогает меня, как прошлогодний снег, – сообщает о себе скромнейшая Надежда Яковлевна, – и меня огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась этой слабости» (359) [327].
Благо иностранцам, понимающим в лучшем случае только содержание, только прямой смысл слова, но не слышащим оттенков. Когда читаешь книгу Надежды Яковлевны на отечественном языке, каждую секунду чувствуешь себя оскорбленной. Вульгарность – родная стихия мемуаристки; а ведь ничто на свете так не оскорбляет, как вульгарность. Пересказывая чужую мысль, передавая чувство, Надежда Яковлевна переводит все на какое-то странное наречие: я назвала бы его смесью высокомерного с хамским. Каждый человек, даже крупный мыслитель или писатель, может в чем-то весьма существенном быть и неправым, и заблуждающимся; на человеческом языке оно так и называется: неправота, заблуждение, а на высокомерно-хамском: брехня, дурень, умник, не удосужился додумать, поленился подумать… Ахматова бывала на моих глазах и несправедливой, и неправой, и раздраженной, и гневной, и светски-любезной, и сердечно-приветливой, и насмешливой (истинный мастер едкой литературной шутки!), но ничто в мире не было от нее так далеко, как то, что Пушкиным в «Евгении Онегине» названо «vulgar» и чем переполнена через край книга Надежды Яковлевны. Эта безусловная даль еще одна примета мнимости изобретенного Надеждой Яковлевной «мы»: вульгарной, в отличие от Н. Мандельштам, Ахматова не была никогда и ни в чем: ни в мыслях, ни в движениях, ни в поступках, ни в языке. Письменная и устная речь ее, северная, петербургская, была свободна от всякого налета чего-либо бойкого, южного, ходя родилась она под Одессой, один класс (последний) проучилась в киевской гимназии и высшее образование тоже начала на юге – в Киеве (на юридическом факультете). Говорила Ахматова – как и писала – на основном русском языке: объясняется это, вероятно, кроме повышенного филологического чутья, и тем, что под Петербург – в Павловск, в Царское, перевезли ее с юга еще ребенком; училась она в гимназии – кроме последнего класса – тоже в Царском, и с юридического факультета в Киеве перешла на Высшие литературные курсы Раева – в Петербурге. Ни Киев, ни Одесса никаких следов в ее речи не оставили; если и была какая-нибудь примесь, то не украинская, а скорее французская: французский она знала с детства. Некоторые русские слова Ахматова, как свойственно это было интеллигентным русским людям XIX и начала XX века, выговаривала на французский манер: не мебель, например, но мёбль, не этажи́ и миражи́, но эта́жи, мира́жи. Среди чуть архаической, изящно-правильной петербургской речи (сменяющейся долгими паузами) внезапно произносилось ею грубое русское слово: «смрад», или «шлюха», или «падаль», и оно, это грубое слово, исходя из ее уст, ошеломляло, звуча не как расхожая базарная брань, а как редкостная находка, как точнейшее определение, столь же свежо, сильно и первозданно, как звучит, например, у нее в «Клеопатре» – «еще с мужиком пошутить».
…И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя – как рабыню… в триумфе пошлет пред собою…»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить[91]91
БВ, с. 274.
[Закрыть].
Выражение грубое «с мужиком пошутить» рядом с «шеей лебяжьей» и «плененный ее красотою» – вот это Ахматова. Так Ахматова говорит о Клеопатре, возвращая нас к Шекспиру. Надежда же Яковлевна, рассуждая об Анне Ахматовой, возвращает нас к трамвайной склоке. Она говорит о ней на том вульгарном наречии, что и обо всем и обо всех, и выходит, что, даже если она и не лжет в прямом смысле, как рассказывая о спекуляции переводами или хлопаньи дверьми, она, сообщая правду, все равно лжет: ибо, если язык не соответствует изображаемому предмету, он вызывает либо комический эффект, либо ложное представление о предмете… Ахматова, например, была лишена умения и охоты хозяйничать. Это так. Но Надежда Яковлевна не в силах сообщить об этой черте характера Анны Андреевны попросту, без издевки и ерничества; она не может написать, что Анна Андреевна хозяйничать избегала; или: от хозяйства уклонялась; или: предпочитала, чтобы вместо нее хозяйничали другие. Это была бы простая правда, без перепляса и ужимок. Но тогда Надежда Яковлевна не была бы Надеждой Яковлевной! Окуная каждую черту образа человеческого в помойную яму вульгарности, Надежда Яковлевна сообщает нам, будто Ахматова от хозяйства обычно «увиливала» (478) [432]. Соединение слов «Ахматова» и «увиливала» (взгляните на любой ее портрет, на любую фотографию, прочтите любое стихотворение!) столь же немыслимо, сколь Ахматова и «хвасталась», или вульгарнейшее: Ахматова «наговаривала пластинку» (509) [460]. Интересно, что в другой своей работе «Моцарт и Сальери», поминая о том, что Ахматова не любила хозяйства, Надежда Яковлевна употребляет иной, но не менее уничижительный и вульгарный глагол: «отлынивала». Ахматова отлынивала и увиливала. Вот язык, искажающий образ женщины, которая и впрямь упорно не желала заниматься хозяйством. Не желала-то не желала, но к «увиливанию» и «отлыниванию» была неспособна. Будто бы правда, а на самом деле ложь, потому что если увиливала и отлынивала, значит это не Ахматова. Так же как «смывался втихаря» – это не Владислав Ходасевич. Повторю: благо иностранцам, не воспринимающим смысловые оттенки! Выражение «наговаривала пластинку», глаголы «хвасталась», «увиливать» или «отлынивать» в той же мере не сочетаемы с образом Ахматовой, как глагол «втерлась» с образом М. Петровых.
Полагаю, впрочем, все это «выдрющиванье» и выпендриванье пускается в ход мемуаристкой не столько ради унижения Анны Ахматовой, сколько ради возвеличения собственной персоны. Эй, вы, там, которые копошились! Пялили глаза, собирали автографы и портреты, знали наизусть не только те стихотворения, которые ценит и перевирает Надежда Яковлевна, но и ахматовскую любовную лирику, раннюю и позднюю, умилялись, сентиментальничали и сюсюкали. А я – вот она я!
Страница 9 [10]: «Ахматовой я как-то устроила сцену»; страница 497 [450]: «Ануш, вы бешеная кошка»; страница 410 [372] (об отрывках из поздней пьесы «Пролог») – «романтическая канитель»; на странице 256 [235] знаменитые строки
…Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
цитируются с издевкой «попробуй: надень!», а ведь в эту минуту женщина не на бал собирается, а спасает себя от разлуки с тем, кого любит, и в следующих четверостишиях речь о смерти: «Со мною умри!» – «Умру с тобой…» Впрочем, «Песня последней встречи» для Надежды Яковлевны тоже зряшная канитель. Думаю, хунвэйбины отзывались о любовной ахматовской лирике и о самой Анне Ахматовой именно на подобном жаргоне.
Фамильярничает Надежда Яковлевна вовсю. Когда Ахматова осенью 1924 года, в Ленинграде, впервые пришла на Морскую, в гости к Мандельштамам, Надежда Яковлевна сразу послала ее за папиросами. Прямо с порога. Это, пожалуй, сладчайшее из ее воспоминаний. Она была дома одна, в пижаме – той самой, исторической, синей в белую полоску. «Я… вдруг хватилась, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее. “Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай”» (250) [230]. «Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь» (257) [235], – поучает нас Надежда Яковлевна, поднимая вопрос на принципиальную высоту. «Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами» (257) [235].
А вот я почему-то рада, что к Надежде Яковлевне, судя по ее мемуарам, никогда не заходил в гости Александр Блок. Она сказала бы ему, впервые увидав у себя на пороге: «Сбегайте, Александр Александрович, за коньяком, а я пока закусочку изображу».
У каждого свои тихие радости. Надежду Яковлевну тешит сознание, что она послала за папиросами гостью, старше ее лет на десять, которая впервые пришла к ней в дом. «Сбегайте, Анна Андреевна». Она видит в этом нечто уникальное и поучительное. Я же, со своей стороны, думаю, что любая комсомолка того времени поступила бы точно так же, особенно в том случае, если бы к ней в гости невзначай пожаловала «настоящая дама», которую «тянуло в круг повыше».
(В какой это «круг повыше» тянуло Анну Ахматову, я не догадываюсь. Это, конечно, «жаба», но классифицировать ее не берусь.)
Глагол «сбегать» в применении к Анне Ахматовой так же неистово лжет, как глаголы «увиливать» и «отлынивать». Оказаться на побегушках Ахматова не могла ни в какие годы, ни в молодости, ни в старости, хотя молодою была гибка, подвижна и быстра. Впрочем, слог Надежды Яковлевны заставляет Анну Андреевну «бегать» не только стройной, тридцатипятилетней женщиной, но и после инфаркта, медленной, задыхающейся, погрузневшей. «…Сидя на скамейке, в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров…» (257) [236], – пишет Надежда Яковлевна. Известен и этот церковный садик, и дом на Ордынке, и лестница под аркой – перекошенная, искалеченная, со сломанными перилами, которую Анна Андреевна в память знаменитого фильма Джузеппе де Сантиса называла «Рим в 11 часов» – но убегать по этой лестнице от чего бы то ни было, с кем бы то ни было и куда бы то ни было Анна Андреевна, при больном своем сердце, решительно не могла; часто, из-под любого потолка, она и в самом деле уходила поговорить с друзьями под открытое небо (так надежнее!), но «мы убегали», самый глагол «убегать» в сообщение Надежды Яковлевны все равно вносит инфекцию лжи. «Мы» тут такая же мнимость, как всюду.
Однако довольно. Оставим Надежду Яковлевну самоутверждаться, изображая, как Анна Андреевна бегала для нее за папиросами, и займемся делом. На современниках Анны Ахматовой лежит особый долг: не допускать искажения ее облика, опровергать любую ложь, умышленную и неумышленную, малую и большую, которая уже сегодня становится материалом для диссертаций, а завтра собьет с толку и направит по неверному пути десятки исследователей, и прежде всего тех, кто положит начало «Трудам и дням». Пусть себе Надежда Яковлевна пишет что и как ей вздумается, а мы обязаны дать исследователям, биографам, художникам точный и правдивый материал, противопоставив его мусору измышлений, передержек и сплетен.
Займусь, для примера, дрянью хронологической.
Так, в главе «Пролог» Надеждой Яковлевной сообщается, будто в Ташкенте Анна Андреевна в 1942 году написала, а в Ленинграде в 1949 сожгла – пьесу «Пролог».
Обе даты неверны.
Опровергну сначала первую.
С 9 ноября 1941 года, когда я из Чистополя перевезла Анну Андреевну в Ташкент, и вплоть до 11 декабря 1942 года, мы встречались почти ежедневно. Я запоминала и записывала все стихи, которые она тогда писала; о некоторых, с ее слов, могу сообщить, когда, как и почему переделана та или иная строка. На основании тех же своих записей могу установить даты поправок в тогдашнем варианте «Поэмы без героя» или появления в «Поэме» новых строф. (Вариант 1940–1942.) Так вот: не только до лета 1942, но и до декабря 1942 никакой пьесы Ахматова мне не читала. Это, конечно, еще не доказательство, что пьеса и не писалась в ту пору: я никогда не была ни первой, ни единственной, ни наиболее чуткой слушательницей стихов Анны Ахматовой; знакомых, на чей слух она имела обыкновение проверять только что написанное, у нее всегда было много. Мне «Пролог» она могла не читать, а Надежде Яковлевне могла прочесть. Таким образом, то обстоятельство, что в 1942 году Ахматова не читала пьесу мне – доказывает ошибочность даты лишь косвенно. Однако располагаем мы и прямыми доказательствами ошибки, и заключены они в самом тексте Надежды Яковлевны.
На странице 396 [360] сообщается:
«Ахматова прочла мне “Пролог” в Ташкенте летом 42 года, когда на выпускниках военных училищ вдруг появились погоны. Мы возвращались из Ботанического сада и вдруг увидели стайку юнцов в форме с погонами. “Они стали похожи на декабристов”, – сказала Ахматова».
Слова Ахматовой очень правдоподобны; и в Ботаническом саду, в Ташкенте, действительно, имела она обыкновение читать то, что почему-либо не хотела читать под крышей, но дата – ошибочна: погоны в Советской армии введены были не в 1942 году, а вводились в течение 1943-го, – стало быть и создание «Пролога» не может относиться, как указывает Надежда Яковлевна, к 1942 году.
Уничтожена драма, когда бы она ни была создана, тоже не в тот год, какой указывает мемуаристка. Надежда Яковлевна сообщает, будто ташкентский «Пролог» Ахматова «бросила в печь в конце сороковых годов в ночь после ареста и увода Левы» (395) [359]. Неверно. Лев Николаевич Гумилев действительно был арестован в 1949 году, но пьеса «Пролог», или, точнее, часть пьесы «Энума Элиш» (что означает «Там наверху»), сожжена была, как доказывается одной ахматовской записью, в 1944-м. Сохранился листок, на котором в 1957 году Ахматова написала:
«Ташкентская драма: Энума Элиш, в III частях.
Первая – На лестнице, вторая – Пролог (в стихах).
Третья – Под лестницей.
И ее судьба. (Сгорела 11 июня 1944 в Фонтанном] Доме)»[93]93
Книги, архивы, автографы. М.: Книга, 1973, с. 59.
[Закрыть].
Таким образом, неверны обе даты: и написания первого «Пролога» и его гибели… «Первый “Пролог” – невозвратимая утрата», – пишет Надежда Яковлевна после длинного пересказа (414) [375]. Присоединяюсь к ее сетованиям – и как же это могло случиться, что ни один из друзей, окружавших в ту пору Ахматову, не запомнил ни единого стиха, ни единой строки из этой пьесы, а всего лишь фабулу?.. Неверность в указании дат, связанных с «Прологом», колеблет еще одну дату: Надежда Яковлевна предполагает, будто вместе с пьесой полетел в огонь и цикл стихотворений, названный Ахматовой «Сожженная тетрадь» (404) [367]. Неверно. Стихи из «Сожженной тетради» обращены к человеку, с которым Ахматова встретилась впервые в 1945 году; стало быть в 1944 – когда Ахматова сожгла «Пролог» – они сожжены не могли быть. Невозможно сжечь то, чего не существует.
Часть стихотворений из «Сожженной тетради» написаны во второй половине сороковых; часть – в пятидесятые, часть – в шестидесятые. Ташкентский «Пролог» сожжен в 1944-м. Очень вероятно, что в 1949 году, после ареста сына, Ахматова и сожгла что-нибудь, но не то, о чем так кручинится и так многоумно рассуждает Надежда Яковлевна. Даты сопротивляются. Что-то другое. Быть может, «Cinque»?
…Эх, бумага белая,
Строчек ровный ряд.
Сколько раз глядела я
Как они горят.
У Н. Мандельштам есть статья, недавно опубликованная: «Моцарт и Сальери». Там она утверждает, будто Сальери и Моцарт – это вовсе не два разных типа художника: один – воплощенное вдохновенье, другой – воплощенный труд; в каждом истинном художнике, на ее взгляд, живут и Моцарт и Сальери. Мне представляется, что в самой Н. Мандельштам живет один лишь вдохновенный Моцарт: упорное труженичество Сальери ей не свойственно. Она не наводит справки, не проверяет тексты стихов, не сопоставляет даты, не всегда перечитывает и собственный текст и не придерживается никакой последовательности – в изложении фактов, в пересказе чужих мыслей или чего бы то ни было; «Вторая книга» – это монолог человека, толкующего обо всем понемногу, не только пересказывающего все что попало (киносценарии, пьесы, стихи, идеи, статьи), но в этом пересказе безудержно перескакивающего с мысли на мысль, с предмета на предмет. Это даже не пересказ, а перескок. Очень характерна в этом отношении глава «Большая форма». Заключена в ней одна, сильно выраженная Надеждой Яковлевной интересная мысль:
«Литература существует там, где есть боль, а боль ощущает только человек, личность. Там, где есть боль, говорят не о малой или большой форме, не о стиле или сюжете, а только а боли, и она сама знает, во что воплотиться» (464) [420–421].
Хорошо сказано. В основном верно. (Неточность такая: почему же только о боли?) Хорошо, но не ново; это не находка Надежды Яковлевны, а пересказ. Сошлюсь, например, на Пришвина. Он писал:
«Долгое время жизни моей попадали в меня пульки и дробинки… и от них оставались ранки… где была ранка – вырастает мысль»[94]94
М. Пришвин. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1957, с. 334 («Глаза земли»).
[Закрыть].
И в другом месте он же:
«Мы бы ничего не знали о лесной смоле, если бы у хвойных деревьев не было врагов, ранящих их древесину: при каждом поражении деревья выделяют наплывающий на рану ароматный бальзам.
Так и у людей, как у деревьев: иногда у сильного человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола»[95]95
М. Пришвин. Скрытая сила // Новый мир, 1940, № 9.
[Закрыть].
Интересная и значительная мысль о рождении литературы и формы литературной из боли звучит в книге Надежды Яковлевны очень красиво. Но, Боже, какое количество открытых и скрытых пересказов, перескоков и путаниц содержит в себе, например, та же глава «Большая форма»! Ахматова, по словам Надежды Яковлевны, утверждала, будто смерть прекрасного цветущего ребенка была бы трагедией. Надежда Яковлевна спорит: нет, не трагедией, а горем: трагедия – это – тут целый поток пересказа стихотворений и статей Мандельштама. Мандельштам считал смерть не трагедией, а торжеством. Пересказывая, перескакивая и не перечитывая, Надежда Яковлевна запуталась:
…Только смерть – большое торжество[96]96
«Из шести книг», с. 244 [ «Здесь все то же, то же, что и прежде…»].
[Закрыть], —
это строка из стихотворения Ахматовой… Значит, в данном случае не следовало противопоставлять одного поэта другому. Но при таких скачках с препятствиями – а вернее сказать, совсем без препятствий! – путаница неизбежна. В главе «Большая форма» повествуется о том, как Надежда Яковлевна сохранила рукопись «Шума времени» – у нее случайно оказался под рукой большой конверт, и она случайно сунула туда листки; о первом жильце Василисы Георгиевны Шкловской, бывшем чекисте, и о втором жильце, бывшем киевском редакторе, нагрубившем Надежде Яковлевне, за что она разбила синюю чашку, которую этот последний жилец подарил Василисе Георгиевне; о том, как при киностудиях кормились писатели; о том, как Шкловский соблазнял Мандельштама заняться сценариями; как Надежда Яковлевна подарила Василисе Георгиевне новую чашку взамен разбитой, тоже синюю, из которой Василиса Георгиевна и стала пить чай; о содержании сценария, задуманного Мандельштамом; пересказ вариантов этого замысла; структура общества при Достоевском; гигантомания в двадцатые годы нашего века, которой поддался Пастернак; синтетическое сознание; катарсис; пересказ теории Бергсона; хорошенький мальчик, трехлетний красавчик, Перепелкин, внучатый племянник Василисы Георгиевны; пересказ одного «Пролога» Анны Ахматовой и порицание другого, резолюция по поводу романа – при такой широте познаний и склонности к скачковатости – перепутаешь Ахматову с Мандельшта-мом и себя с кем угодно, а уж путаницы в хронологии не оберешься. По «Второй книге» шагаешь, увязая, как по сыпучим пескам. Постановление ЦК, приговорившее Ахматову и Зощенко к несуществованию, состоялось, как известно, в 1946 году; английские же студенты, наивно пытавшиеся вызвать их из небытия, приехали в 1954-м; но сколько ни перечитывай страницы 403–404 [365–367] книги Н. Мандельштам, где изображаются эти два, разделенные друг от друга восемью годами, эпизода, все равно увязнешь: выходит, будто бы постановление ЦК и приезд студентов произошли подряд. Перечла бы Надежда Яковлевна свой текст, исправила бы сама. Но ей перечитывать некогда; она пишет под диктовку вдохновения, Сальери в ней нету и грана. В спешке и по неряшеству она создает, например, совершенно ложное представление о сроках жизни Ахматовой под Ленинградом, в Комарове. У Надежды Яковлевны выходит, будто для них обеих – для нее и Ахматовой, для их мнимого «мы» – пребывание в Комарове было лишь минуткой на неразрываемообщем жизненном пути. На страницах 528—29 [478—479] сообщено, что Мандельштам простился с морем (Черным). Вслед за ним с Черным морем простилась и Ахматова:
Последняя с морем разорвана связь…
Надежда Яковлевна, после прощания с морем и гибели Осипа Мандельштама, тоже никогда более Черного моря не видела.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.