Текст книги "Исповедь послушницы (сборник)"
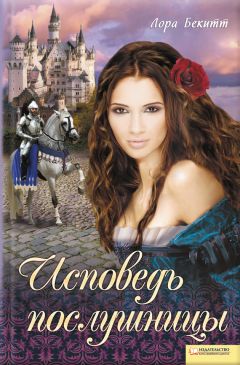
Автор книги: Лора Бекитт
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Рамон Монкада прибыл в Амстердам совершенно разбитым, безмерно утомленным долгой дорогой. Ему пришлось пересечь половину Испании и всю Францию, проехать через бесконечные заставы и таможни, где каждый чиновник, невзирая на сан Рамона, без зазрения совести пытался выманить у него несколько лишних эскудо. Представители инквизиции всякий раз тщательно проверяли его багаж, подозрительно перелистывали книги, после чего опять-таки требовали заплатить деньги за досмотр. Ему надоели медлительные тряские экипажи, частые остановки, плохие дороги, жалкие гостиницы, наглые слуги. Четырежды отцу Рамону пришлось соборовать умерших и служить заупокойную мессу. Пища на постоялых дворах была груба и отвратительно приготовлена, потому Рамон ел в основном фрукты и хлеб.
Во Франции было проще, там его понимали; когда Рамон въехал в Нидерланды, он увидел, что его голландский, который он только-только начал учить, слишком плох. Впрочем, сами голландцы показались Рамону добродушными и щедрыми. Нередко священнику совершенно бесплатно предлагали молоко и хлеб, а его появление повсюду встречалось почтительными поклонами.
Эти люди выглядели спокойными, трудолюбивыми, чуждыми природной надменности, характерной для испанцев. Здесь встречалось много светловолосых мужчин и женщин, что Рамону, привыкшему к темноглазым и смуглолицым жителям Испании, казалось удивительным. Пейзаж тоже был другим: зеленые равнины, пугающее безлюдье. Зачастую тишину нарушал лишь шум вековых дубов и исполинских мельниц, напоминающих творение рук каких-то сказочных великанов.
В Амстердаме небо над головой было затянуто зловещими свинцовыми тучами, тогда как в Испании небеса ослепляли глубокой и чистой синевой. Дул резкий прохладный ветер. В гавани теснилось великое множество судов, напоминавших гигантских птиц. Было много воды – дома покоились на деревянных сваях, и город перерезало не менее полусотни каналов.
Хотя набережная кишела народом, здесь было меньше сутолоки, чем в Мадриде. Нельзя сказать, что у себя на родине Рамон обращал много внимания на туалеты испанок, но даже он заметил, что голландские женщины одеты иначе – почти все в белоснежных чепцах с полукруглыми полями и в скромных темных платьях. Полное отсутствие роскоши, простота и строгость; лишь изредка мелькали выглядевшие особенно яркими на фоне пасмурного дня красные, зеленые, голубые или желтые наряды девушек дворянского сословия, из числа тех, кто не боялся следовать заграничной моде.
Рамон попытался узнать, как найти аббатство, но ему никто не мог помочь. Несчастный священник мучился до тех пор, пока случайно не встретил соотечественника. Молодой дворянин в обшитом золотой тесьмой бархатном плаще и шляпе из цветного фетра на завитых волосах уважительно выслушал Рамона, а потом разыскал какого-то монаха, который указал дорогу к обители, куда священник сумел добраться лишь к ночи.
Монастырь даже по испанским меркам оказался довольно велик. В восточной части был разбит сад, там же имелись небольшие огороды. На окраинах теснились хозяйственные постройки. Мощные парадные и скромные служебные ворота, великое множество многоярусных башен-колоколен… Центром монастыря был окаймленный каменным кружевом, величественный, высокий, словно скала, собор.
Небо тоже казалось другим, не таким, как в Испании, где всю ночь напролет над головой блистала неисчислимая звездная пыль, – слишком темным, тяжелым. Вместо пения цикад слышался равномерный шум реки, напоминающий биение неких таинственных крыльев.
Позже Рамон Монкада не мог вспомнить, как ему удалось пройти через ворота и отыскать аббата Опандо. В памяти запечатлелось лишь, как навстречу вынырнул невысокий, полный, очень подвижный человек с приветливой улыбкой на круглом добром лице.
– Вы наш новый приор?
– Да. Рамон Монкада.
– Я – аббат Опандо.
Рамон смиренно поклонился и поцеловал его руку. После чего потянулся к своему дорожному сундучку.
– Мои бумаги здесь…
– Ах, оставьте. Потом. – Отойдя на шаг, аббат оглядел своего нового заместителя с явным интересом и добавил: – Я знал, что вы молоды, но не знал, что вы – такой. Вы приехали один, без сопровождения?
– Мне никто не нужен, – отвечал Рамон обычным холодноватым тоном.
Он немного пришел в себя и смог внимательнее разглядеть аббата Опандо. Вероятно, тому было далеко за пятьдесят, хотя он выглядел моложаво и держался бодро. Аббату Опандо приходилось быть в курсе великого множества дел и управлять не одной сотней людей. Взгляд его небольших темных глаз казался на редкость проницательным и мудрым.
– Вы выглядите утомленным. Не спорьте, я знаю, что нужно человеку после долгой дороги. Сейчас вас отведут в помещение, где вы сможете привести себя в порядок, а потом приглашаю отужинать со мной. Вероятно, я предчувствовал ваше появление! Пропустил вечернюю трапезу и сейчас раздумывал, стоит ли есть так поздно. Обычно в такое время я уже сплю.
Заглянув в соседнее помещение, аббат Опандо вызвал монаха и велел ему сопроводить отца Рамона в одну из незанятых келий и распорядиться, чтобы приготовили чистую одежду и воду.
Рамон снял сутану, нижнюю полотняную сорочку и кожаные башмаки и приблизился к чану с водой.
Молодой священник прекрасно знал о том, что тело не должно наслаждаться, и с детства привык прислушиваться к голосу разума. Однако сейчас, охваченный приятной истомой, Рамон закрыл глаза и откровенно блаженствовал в теплых и невесомых объятиях воды.
В трапезной аббата Опандо отца Рамона поджидало еще одно искушение – вкусный горячий ужин. Над большой миской с мясом и овощами вился ароматный пар, на отдельном блюде были поданы фаршированные яйца, белый хлеб и золотистый голландский сыр. Аббат собственноручно разливал по кружкам подогретое вино. Стол был застелен скатертью – невинная роскошь! – здесь же лежали белоснежные льняные салфетки.
Рамон несмело присел на край скамьи и сложил руки на коленях. Обычно он старался не есть мяса, но сейчас им овладел неуемный, почти хищнический голод.
Будто угадав его сомнения, аббат Опандо решительно произнес:
– Прошу вас, Рамон. Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану называть вас по имени?
– Мой прежний духовный наставник, аббат Ринкон, называл меня именно так.
– Ешьте и пейте. Вино неплохое. Хотя это, конечно, не Испания. – И, проницательно глядя Рамону в глаза, добавил: – Ешьте, в вашем возрасте это необходимо. Пост есть пост, а в остальное время я слежу, чтобы братья хорошо питались. Голод ослабляет волю. Кстати, сколько вам лет?
– Двадцать шесть.
– Я бы дал вам еще меньше. Думаю, на первых порах вам придется нелегко, но я рад, что вы приехали.
Его голос звучал мягко, казалось, аббата Опандо не посещала даже тень мысли о грядущем соперничестве со своим молодым заместителем.
Рамон ел и пил, чувствуя, как исчезает усталость и в душе воцаряется какой-то особый, простой и легкий, а главное – независимый от внешних вещей покой.
И все-таки кое-что его тревожило, потому через некоторое время он заставил себя сказать:
– Я слышал, в этой стране много еретиков?
Аббат пожал плечами.
– Еретики? Не могу похвастать, что уделяю много времени духовному воспитанию братии, слишком часто я вынужден решать чисто мирские вопросы: например, где достать подходящие доски для починки крыши! Но я стараюсь занять умы и руки своих монахов. В моем аббатстве нет ереси. Что касается обширных владений нашего доблестного сеньора Нидерландов,[13]13
Один из титулов Филиппа II (1527–1598) – короля Испании из династии Габсбургов.
[Закрыть] за них я отвечать не могу.
– Если в Амстердаме, пусть и за стенами обители, есть противники нашей веры, это не может нас не касаться. К тому же ересь – это школа мятежа, – осторожно произнес Рамон.
– Я и не говорю, что это нас не касается, – ответил аббат. – К сожалению, в нашем грешном мире есть место злу, перед которым мы бессильны. Остается помнить две вещи: все-таки мы находимся в чужой стране, а еще все мы, в сущности, – дети Божьи.
Он произнес это со спокойной и твердой уверенностью, и Рамон почувствовал, что, несмотря на видимое добродушие, в аббате Опандо было нечто такое, что действует на людей, и что он без сожаления отдает всю свою душу тому делу, которое ему поручено.
Заметив, что в Амстердаме наверняка слишком прохладно после Испании, аббат распорядился отвести Рамона в келью, где была печка. И добавил, что завтра же подберет человека, который займется с ним голландским языком. Он ничего не сказал насчет часа пробуждения, а Рамон не спросил, полагая, что наверняка услышит звук колокола. После весьма рассеянной молитвы он, даже не раздевшись, упал на кровать и мгновенно погрузился в сон.
Когда отец Рамон проснулся, на дворе сияло позднее утро. Стремительно вскочив с постели, он бросился к окну. На фоне синего неба с великолепной отчетливостью выделялась вереница монастырских зданий. Над собором пламенело огромное, прекрасное, воистину божественное солнце. Острые шпили башен вонзались в небо; казалось, по ним можно было взобраться на облака.
Отец Рамон был в панике. С ним случилось то, чего не случалось еще никогда: он проспал! Причем проспал не только всенощную, но и час индивидуальной молитвы, и даже капитул![14]14
Собрание монастыря.
[Закрыть] А что, если и утреннюю мессу?! Он, новый приор! Рамон не замечал чудесного утра, лежащих на полу золотых полос солнечного света, видневшегося в окне ярко-синего квадрата неба – перед ним вставала во всю мощь и высь жуткая громада законов, предрассудков и правил.
Ни разу в жизни он не просыпался после восхода солнца, никогда не позволял себе нежиться в постели! Рамон помнил, как в детстве просыпался от того, что сеньора Хинеса трясла его безжалостной, твердой рукой. Занятия в монастырской школе начинались засветло, а после был колледж с его правилами, сходными с правилами монастыря. И Рамон никогда не задумывался о том, что можно жить как-то иначе.
Он покинул келью с чувством глубокой растерянности, смятения и вины. К его изумлению, аббат Опандо встретил ослушника добродушной, даже немного лукавой улыбкой.
– Полно, Рамон! Я прекрасно понимаю, что вам нужно было как следует выспаться. Сейчас вас проведут в умывальную комнату, потом я познакомлю вас с монастырем, затем – месса, а после придется приниматься за дела.
Они переходили из кельи в келью, со двора во двор, из зала в зал, из внутренних галерей во внешние.
Аббат Опандо с воодушевлением и нескрываемой гордостью рассказывал Рамону обо всем, что попадалось им на глаза, в результате оба чуть было не опоздали на мессу. И хотя в этот час в храме собралась вся монашеская братия, аббат не представил им нового приора.
– Я сделаю это во время завтрашнего капитула, – заявил он.
И действительно сделал – без лишней торжественности, очень мудро и просто. Рамон был горд – он не сомневался в том, что способен принести обители большую пользу.
У аббата Опандо было много дел, и он не имел возможности руководить новым приором и направлять его действия, потому в последующие дни Рамон почувствовал себя забытым. Он решил не обращаться к настоятелю с вопросами и вознамерился самостоятельно постичь особенности жизни в обители.
Судя по всему, ереси в аббатстве действительно не было, но разве можно узнать, какие мысли таятся в головах людей, которые большую часть времени молчат, общаются при помощи жестов и ходят не поднимая глаз?
Рамону понравилась монастырская библиотека с множеством редких и дорогих книг, и он с удовольствием посетил скрипторий[15]15
Помещение, где монахи переписывали манускрипты.
[Закрыть]. Он и сам мог похвастать красивым почерком, недаром сразу после колледжа его приняли в канцелярию! Несколько дней новый приор наблюдал за работой монахов и пришел к выводу, что в этой обители переписывание книг признается едва ли не самой полезной и почетной работой.
Вскоре он заметил, что одно из мест за конторкой для письма с раннего утра всегда пустовало, – этот монах неизменно являлся на работу позже других. Рамону удалось выяснить, что брат Бартолд не встает раньше начала капитула, а иногда просыпается только к мессе! Новый приор без колебаний подошел к одному из старших монахов, который руководил работой в скриптории, и строго отчитал его. По мнению Рамона, проступок брата Бартолда необходимо было осудить на обвинительном капитуле.
Старший монах смиренно выслушал приора, потом кивнул и поклонился. Однако через пару дней Рамона вызвал аббат Опандо и с ходу заявил:
– Брат Бартолд отсутствует на всенощной с моего разрешения. У него слабое здоровье – пусть спит подольше.
– Он не выглядит больным, – возразил Рамон.
– Его глаза и ум должны отдыхать. За день он переписывает десять или даже более листов – в два раза больше, чем любой другой монах. Суть жизни брата Бартолда – в любимом деле.
– Он член братии и обязан посвящать определенное количество часов ночным бдениям и молитвам, – упрямо произнес Рамон.
Аббат Опандо окинул его задумчивым взглядом.
– И какому наказанию вы бы подвергли брата Бартолда?
– Это решает капитул.
– И все же?
– Я поручил бы ему другую работу, необязательно неприятную, но ту, к которой он менее склонен, – сказал Рамон.
– Умно! И жестоко.
– Почему? На мой взгляд, человек должен заниматься не только любимым делом.
– Вот как? Я не согласен с вами. Душа каждого человека ищет свое место в этом мире. И если она его находит – это прекрасно! Брат Бартолд, переписывая книги, чувствует себя счастливым, и я горжусь тем, что в моей обители есть такой человек. Благодаря его труду мы донесем до потомков те бесценные знания, что содержатся в книгах.
– Но мы не миряне! – воскликнул отец Рамон. – Мы служим Господу, а не ищем удовольствий или призрачного счастья!
– Мы – люди, а потому не должны утрачивать человеческой сущности. Это тоже грех. Не стоит слишком притеснять монахов, они и без того привыкли повиноваться. Жизнь далеко не всегда можно подчинить догмам, как невозможно вечно подстраиваться под окружающий мир и мнение других людей.
На этом разговор был закончен. С тех пор Рамон решил затаиться и скользил по галереям и залам незаметный и безмолвный, как тень, исподволь изучая обычаи монастыря. Благодаря характеру аббата Опандо монастырь существовал не сам для себя, а во многом – для окружавшего его мира. Настоятель взял за правило замечать все, что лежит по другую сторону священных стен, и по возможности участвовать в этой жизни. «Служение людям есть один из главных путей, ведущих к Богу», – обычно говорил аббат Опандо. Его монахи занимались изучением и сбором полезных растений и приготовлением лекарств, обучением детей, принимали толпы нищих и просто нуждавшихся в помощи. Каждое утро за монастырскую ограду выносились котлы с едой – там уже ждали бродяги, бедняки и, к тайному возмущению Рамона, беспечная студенческая братия.
Постепенно Рамон понял, что общение с людьми приносит ему одни огорчения, и сосредоточил свое внимание на монастырских бумагах. День за днем он просиживал за расходными книгами, усердно постигая монастырскую экономику: без сомнения, подобные склонности были унаследованы им от сеньоры Хинесы. Он ни во что не вмешивался, лишь наблюдал за процессиями монахов, направлявшихся из церкви в зал капитулов и обратно. Рамон созерцал жизнь в монастыре, как будто слушал пение псалмов: порой наслаждаясь чистыми, светлыми звуками, а иной раз замечая фальшивые ноты.
А потом случилось неслыханное. Два монаха, отправившихся в город по делам монастыря, были уличены в пьянстве и, что самое ужасное, – в греховной связи с женщинами. Наряду с возмущением Рамон испытал мстительную радость. Вот к чему приводят попустительство и увлеченность мирскими делами!
Аббат Опандо впал в гнев, его голос на обвинительном капитуле звучал подобно раскатам грома. И, хотя виновных приговорили к строгому наказанию, у многих в душе остался осадок, подобный привкусу, который ощущается после вкушения испорченной пищи.
Вскоре аббат Опандо снова вызвал Рамона к себе.
На сей раз он предложил ему не вино, а разведенный водой малиновый сок. Некоторое время они сидели молча. Потом настоятель сказал:
– Мне крайне неприятно, что такое произошло именно тогда, когда вы впервые появились здесь. Понятно, что мы производим на вас весьма неблагоприятное впечатление.
Рамон тут же отметил про себя это «вы» и «мы». Значит, его считают посторонним. В отместку он сжал губы и промолчал, и это молчание было полно осуждения.
– Если бы, – вновь заговорил аббат, – давая обеты, братья всегда заранее знали, от чего отказываются, возможно, в наших обителях было бы меньше заблудших душ и воистину мерзостных грехов, о которых лучше не вспоминать!
– О чем вы? – спросил Рамон.
– О том, что принимать постриг должны люди, сполна познавшие мирскую жизнь со всеми ее греховными влечениями! Господь не напрасно заключил наши души в плоть – мы должны познать не только свою душу, но и свое тело.
– Как можно являться к Богу, будучи запятнанным грязью плотских грехов?! – воскликнул Рамон.
– К Богу прийти никогда не поздно, – спокойно заметил аббат Опандо.
– А как же обеты?
– Разве в юности вы не были свободны от них?
И тут у Рамона вырвалось:
– Я никогда не был свободным! Я с детства знал, что стану священником!
Взгляд аббата Опандо был полон проницательности.
– Вы сами так решили?
– Я? Я ничего не решал. Так решила… моя мать.
– Ваша мать? А отец?
– Я никогда его не видел. Он оставил семью еще до моего рождения.
– Я давно хотел спросить вас, Рамон, вы когда-нибудь смотритесь в зеркало?
– Да… когда это необходимо, – растерянно пробормотал тот, не понимая, что имеет в виду настоятель. – А что?
– Известно ли вам, что вы очень красивы? Увидев вас впервые, я был поражен.
Рамон отпрянул так резко, что едва не смахнул со стола глиняную кружку с остатками сока.
Аббат Опандо не двинулся с места. Его губы тронула слабая улыбка.
– Я просто хотел подчеркнуть свою мысль о неведении. Мы себя не знаем. Чужие слова, мнения, правила, законы – вот то лживое зеркало, в котором мы видим свой облик, весьма далекий от истинного. Будь иначе… возможно, вы выбрали бы другой путь и иное поприще.
Лицо Рамона вспыхнуло.
– Вы считаете, я недостоин…
– Господь свидетель, – перебил аббат, – я так не думаю. Полагаю, вы всегда будете преданно служить Церкви. Что касается вашего назначения… У вас мало опыта, но это придет. Все мы были молоды. Просто иногда задавайтесь вопросом: «Что удерживает меня здесь? Необходимость или вера?»
Рамон задумался. В самом деле, чем был для него монастырь? Местом наказания, бегства, искупления грехов? Для брата Бартолда это было единственное место, где он сумел себя найти. Он же, Рамон Монкада, заключил свое сердце в обитель, потому что не ведал другого прибежища.
– Знаете ли вы, что в нашем ведении находится еще и женский монастырь? – после паузы спросил аббат Опандо. – По воскресным дням я служу там мессу и исповедую монахинь и послушниц. Вы, как приор, можете и, вернее, должны перенять у меня эту обязанность. К сожалению, у меня очень мало времени. Однако я уже говорил о вас настоятельнице.
Рамон впал в смятение, и тогда настоятель прибавил:
– Эти исповеди – чудо! Я всегда умиляюсь и воистину просветляюсь душой. Что касается послушниц, то это не женщины в полном смысле слова – юные невинные девушки. Если у них порой и возникают «греховные» мысли, то они вам о них не расскажут. Не беспокойтесь, ваш слух не будет оскорблен чем-то нечистым. К тому же вы их не увидите. Хотя, да простит меня Господь, там есть на что посмотреть!
Глава IIIСтоял конец июня, и было тепло, несмотря на то что дул сильный ветер. Морская гладь была прорезана пенящимися полосами волн, и взлетающие на волнах корабли, эти создания из дерева, железа и холста, казались живыми. Воздух был не мягким, как в Испании, а резким, насыщенным будоражащими запахами сырости, зелени, смолы.
Он был чудесен, этот поднимавшийся из воды, окутанный соленым туманом город. Толпы людей текли, как воздушные потоки, внешне неуправляемые и хаотичные, а на самом деле устремленные к невидимой цели.
Рамон невозмутимо взирал на толкотню и давку. Его не волновали запахи колбас, окороков, жареной дичи и рыбы, сыров, сластей, струящиеся из харчевен, лавок, трактиров, от лотков уличных торговцев. На рассвете Рамон съел только кусок хлеба, запив его кружкой колодезной воды. Он давно научился отгораживаться, отстраняться от всего мирского. Он не принадлежал ни к богатым, ни к бедным, ни к аристократам, ни к простолюдинам. Он был чужим и одновременно своим везде. Он был священником.
Женский монастырь показался новому приору тесным и бедным. Темные стены, массивные своды, узкие, как горные тропы, галереи, залы, напоминающие подземелье, куда никогда не попадает солнечный луч, – все это произвело на отца Рамона гнетущее впечатление. Что могли чувствовать те, кто пребывал в атмосфере унылой суровости, замершей жизни, пронизывающего душу холода? Самое большее – трепет, имеющий куда больше общего не с верой, а с обыкновенным страхом.
Рамон служил мессу в большом, холодном и сумрачном зале перед толпой безмолвных фигур, чьи лица были спрятаны под покрывалами. Было сложно догадаться, что это женщины, – свободные черные одежды не обрисовывали их тел. В какой-то миг у Рамона мелькнула мысль, что они похожи на пленников, рабов, которых жестокие хозяева согнали для отправки в чужую страну. Произнося торжественные, светлые слова, он испытывал не гордость, а неловкость: вряд ли его речь могла служить утешением и напутствием для этих странных существ, которые никогда не видели солнца и неба просто потому, что не поднимали глаз.
Рамон не понимал, почему аббата Опандо так умиляли исповеди этих женщин. Хотя в маленьком, тесном конфессионале[16]16
Конфессионал – исповедальня.
[Закрыть] царил полумрак, новый приор был рад тому, что отделен от исповедуемых не только железной решеткой, но еще и толстым занавесом.
Монахини монотонно и тихо произносили заученные слова. Сначала Рамон волновался и держался натянуто, но постепенно привык и даже стал различать в их голосах нотки живого человеческого чувства. В этих скромных и отчасти скорбных исповедях таилась робкая надежда на то, что он, безликий Божий посланник, замолвит за них словечко перед Господом.
Их грехи были невелики: рассеянно молилась, впала в непростительное уныние, не слишком усердно и охотно выполняла послушание, таила злые мысли в отношении других сестер и тому подобное.
После монахинь Рамон исповедовал послушниц; их голоса были нежнее и тоньше и вместе с тем звучали громче и живее. Как и монахини, они говорили почти одно и то же, потому Рамон очень удивился, когда очередная послушница вдруг произнесла:
– Я рада, что наконец могу поговорить с вами, святой отец. Я давно собиралась это сделать, но все не могла решиться.
Девушка говорила взволнованно и торопливо, точно боясь, что ее прервут и не позволят сказать то, что она хочет, или она сама внезапно утратит решимость.
Рамон, отметивший это непривычное «я рада», спокойно и несколько холодновато промолвил:
– Я тебя слушаю. В чем ты грешна?
– Я хотела спросить совета.
– Я слушаю, – повторил Рамон.
– Не знаю, с чего начать. Боюсь, у нас мало времени… – И вдруг произнесла, невольно сбив Рамона с толку: – Быть может, вы спросите меня сами, святой отец?
Рамон напрягся, не зная, что ответить или что спросить, потом решил начать с самого простого:
– Ты собираешься принять постриг?
– Именно об этом я и хотела с вами поговорить… – сказала девушка и вдруг замолчала.
Время шло, и священник снова задал вопрос:
– Давно ли ты в обители?
– Шесть лет. Мне было десять, когда отец оставил меня здесь. Моя мать умерла, а он снова женился, и они с новой женой решили, что я должна стать послушницей, а потом принять постриг.
– Вы не были согласны с решением отца? – спросил Рамон, незаметно для себя переходя на «вы».
– Меня не спрашивали. Когда я сюда попала, мне сказали, что я должна стать монахиней, и со временем я приняла это как неизбежное.
Она тяжело вздохнула, и, желая подбодрить ее, Рамон промолвил с необычной мягкостью и даже сочувствием:
– Что же тревожит вас теперь?
– Что тревожит? – повторила девушка, и ее голос наполнился чувствами – возмущением, непониманием, даже иронией. – Недавно я узнала, что мой отец передумал: он нашел мне жениха и уже не хочет, чтобы я оставалась в монастыре, а желает выдать меня замуж!
– Вас огорчает, что именно теперь, когда вы готовы принять постриг, ваш отец решил изменить вашу судьбу? Вы можете поговорить с ним и объяснить, что будет большой ошибкой сбивать вас с пути в тот миг, когда душой вы уже всецело преданы Господу. Если же вы все-таки склонны покинуть обитель и вернуться в мирскую жизнь, в том нет ничего дурного: как послушная дочь, вы обязаны покориться воле своего отца. Оба выхода достойны добродетельной девы, так что решайтесь!
Воцарилось напряженное молчание. Потом послушница тихо произнесла:
– Я не хочу подчиняться воле отца – за все годы моего пребывания в обители он ни разу не навестил меня и даже не передал привета. Не думаю, что его стремление забрать меня домой вызвано добрыми чувствами. Скорее, он хочет сделать это из корыстных соображений. И я не желаю принимать постриг, потому что жизнь в монастыре не дала мне ни освобождения, ни радости, ни счастья. Мое горе заключается в том, что я не могу заставить себя любить отца и в то же время не способна притворяться, будто хочу стать монахиней!
Рамон вздрогнул. Насколько же сказанное было близко ему самому! Вечные нотации сеньоры Хинесы, а потом колледж и монастырь – бездумно заученные молитвы, холодная жизнь аскета. Ему не были знакомы ни счастье, ни радость, а об «освобождении» не стоило и мечтать. Он привык жить в оковах.
Забывшись, Рамон задумчиво произнес:
– Я вас понимаю. – И, опомнившись, добавил: – К сожалению, я не могу дать вам ответ сегодня, сейчас, мне нужно подумать.
– Я буду ждать, – сказала она, а потом промолвила с большим чувством: – Я много слышала о вас, аббат Опандо, но даже не предполагала, что вы – такой! Впервые в жизни я смогла кому-то довериться!
Рамон молчал в замешательстве. Он чувствовал себя уязвленным. С трудом овладев своими чувствами, молодой священник произнес с привычной холодностью:
– Я не аббат Опандо. Я новый приор, отец Рамон. Рамон Монкада. Произошла ошибка, хотя не думаю, что это может вам повредить.
Из-за занавеса не доносилось ни звука. Казалось, девушка перестала дышать.
Во время тягостной паузы Рамон ощутил непонятную пустоту в сердце, к которому совсем недавно словно прикоснулось что-то легкое и светлое. И вдруг голос незнакомки зазвучал снова:
– Вы никому не расскажете?
– Конечно нет. Существует тайна исповеди.
– Существует множество тайн, которые доводят до сведения других людей, невзирая на клятвы!
– Я не знаю вашего имени и не спрашиваю его.
– Достаточно рассказать настоятельнице, о чем я говорила, и она сразу меня узнает.
Рамон отметил, что слово «настоятельница» было произнесено с явной неприязнью.
– Я не скажу, – повторил он.
– Простите! – чуть помедлив, прошептала девушка. – Спасибо за то, что вы меня выслушали.
После произошло нечто невероятное. Наверное, это был порыв – вряд ли девушка отдавала себе отчет в том, что делает! Она просунула свою тонкую руку с узкой ладонью сквозь прутья решетки, под занавесом и протянула ее Рамону. Тот отпрянул, точно его взору предстало нечто такое, чего он никогда не видел и даже не мог вообразить! Выпростанная из широкого белого рукава нежная ладонь с изящными пальцами была протянута к нему – девушка словно предлагала своему собеседнику что-то невидимое.
Как бы то ни было, Рамон имел дело с вопиющим нарушением правил, потому он торопливо отпустил ей грехи. Послушница поспешно убрала руку, но не торопилась уходить.
Поколебавшись, Рамон произнес:
– В следующий раз я обязательно дам вам ответ.
Выслушав еще несколько тусклых исповедей, Рамон покинул конфессионал. Ему казалось, что с тех пор, как он вошел в исповедальню, прошла вечность.
На обратном пути он размышлял о таинственной незнакомке. Без сомнения, эта девушка не создана для жизни в монастыре, о чем он должен ей сказать. В то же время следует добавить, что, пока человек не обратит свои помыслы к Богу, он будет жалок, где бы ни находился и что бы ни делал. Нужно забыть обиды и думать о своей душе.
А перед мысленным взором Рамона вновь и вновь вставала картина: живая белая человеческая рука, внезапно появившаяся среди мрака исповедальни! Интересно, как выглядит эта послушница? Должно быть, она очень молода и, вероятно, красива!
Разумеется, он не рассказал об этой странной исповеди ни единой живой душе. В последующие дни Рамон посетил несколько госпиталей и приютов, находившихся в ведении монастыря: он слышал, что так всегда поступал аббат Опандо. Случалось, настоятель даже работал там наравне с простыми монахами, не гнушаясь забот о самых тяжелых больных. Еще Рамон провел с братией несколько духовных бесед. И все это время молодого приора не покидали воспоминания о тьме исповедальни и о взволнованном девичьем голосе. Он понимал, что ждет новой встречи с таинственной незнакомкой.
В следующее воскресенье он встал очень рано, с явным удовольствием сотворил все положенные молитвы и уже собирался выходить, когда ему объявили, что его ждет аббат Опандо.
Рамон немедленно проследовал к настоятелю. Аббат принял приора в своей келье. Он сидел в старом деревянном кресле и выглядел озабоченным и серьезным.
– Вы когда-нибудь слышали о Союзе соглашения?[17]17
Дворянский оппозиционный союз во времена политического кризиса в Нидерландах.
[Закрыть] – с ходу начал он.
Рамон покачал головой.
– А о его руководителях – принце Вильгельме Оранском, графе Эгмонте и адмирале Горне?
Рамон пожал плечами.
– Вот-вот, – со вздохом произнес аббат Опандо и замолчал. Он сидел, подперев лицо рукой, и в его неподвижном взгляде были вопрос и тревога.
– Нам что-то угрожает? – спросил Рамон.
– По-видимому, да. Не могу сказать, насколько это серьезно, но… В некоторых городах народ освобождает кальвинистских[18]18
Кальвинизм – направление протестантизма, основанное Ж. Кальвином.
[Закрыть] проповедников. И это еще не все! Начались иконоборческие выступления, погромы церквей, нападения на католических священников.
– В Амстердаме такого нет?
Аббат развел руками.
– Сегодня, может, и нет, а завтра… Народные волнения – не стоячая вода, исподволь подтачивающая камень, а бурный поток, сметающий все вокруг!
– А как же инквизиция? А испанские войска?
Аббат Опандо бросил на него странный взгляд.
– Вам бы этого хотелось? Насилия и крови?
– Мне – нет. Я священник. Но нас должен кто-то защищать, разве не так?
– Сложный вопрос. Вера – нечто настолько тонкое, нежное, горячее, глубоко живущее в сердце, что… Нет, вера и насилие несовместимы. Вера и милосердие – да. Хуже всего, что нас, католиков, рассматривают как политический инструмент. Ненависть к католикам есть ненависть к Испании. Неизвестно, к чему это может привести. Признаться, я очень встревожен, – сказал аббат и спросил: – Вы куда-то собрались, Рамон?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































