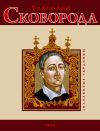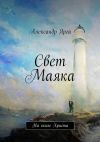Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Таким образом, обмен одеждами служит идентификации персон, которая была неустойчивой и беспрестанно менялась. Так усложнялся сюжет, создавался ряд дополнительных ситуаций, повторяющих одна другую. Из них персоны должны были выпутываться, вновь и вновь подтверждая свой статус и характеристику. Обмен одеждами непременно заканчивался, и они обретали свой исходный вид. В итоге, костюм, двигаясь и переходя от одной персоны к другой, возвращался в исходную точку, и персона вновь становилась сама собой.
Интермедиальные переодевания находились в сфере комического. Мотивировались они обычно мошенничеством. В интермедии «Пан, Шляхта-москаль, Гаер» Шляхта обманывает Поляка, переодевшись в другое платье. Конечно, Поляк его не узнает и жалуется ему на него самого. Шляхта готов помочь, только для этого ему нужно платье Поляка: «Хочеш ли, я ево могу тотчас нагнати, / Толко изволь мне своево платья дати: Он испужается вскоре меня, / Увидит в платье, будто тебя» [Ранняя русская драматургия, 1976, 645]. Поляк вежливо отдает свое платье: «Шляхта наденет на себя поляков кафтан, а Поляк останетца в одной рубашке и ходит по театру» [Там же]. Гаер, увидев, что на нем нет даже кафтанишка, колотит Поляка и прогоняет. Переодеться в чужое платье интермедиальные персонажи всегда не против. В интермедии «Шляхта, Жид, Гаер» Шляхта советует Жиду скинуть черную одежду и надеть серый кафтан, что сразу придаст ему смелости: «Жид скинет платье, Шляхта наденет на себя, а с себя серой кафтан скинет и наденет на Жида» [Там же, 642]. Так Жид оказывается слугой, и ему приходится теперь разувать Шляхту. Через костюм, таким образом, показана моментальная смена социального статуса. Она становится двигателем сюжета «Интермедии о Гарлитинской свадьбе».
Костюм здесь выступает семантическим центром всей пьесы, основной характеристикой персонажа, предметом обсуждения. Сама интермедия благодаря этому становится манифестацией идеи перевоплощения через костюм. Гаер, задумывая жениться, не считает главным своим недостатком бедность, на которую жалуется Свахе: «У меня, свашинка, нет никаких вещей, / Кроме того, как пустых щей. / Хотел было сварить и кашу, / да вчерась курки склевали круп чашу» [Там же, 751]. Страшно другое – он никуда не годится рожей и одеждой: «Также брожю в пестрой одежде» [Там же, 754]. Такое одеяние не обеспечит ему успеха у женщин, потому он готов к переодеванию и просит достать ему богатую одежду. Сваха приносит ему не только мундир, но и маску: «Извол ко теперь убираться, / надобно тебе к Невесте показаться. / Надевай маску и кафтан, / пойдем, пойдем делать обман» [Там же, 757]. Теперь Гаер добился своего. Маска скрыло его лицо, мундир – социальный статус. Его никто теперь не узнает, чему он несказанно рад.
Ремарка другого списка этой комедийной пьесы говорит о том, что «надевает Старуха на Гаера кафтан немецкой и шляпу» [Там же]. Следует заметить, что новую одежду Гаера не случайно называют то кафтаном, то мундиром. «Старинное название „кафтан“ сохранилось в языке и после петровских реформ национальной одежды, только этим словом обозначали костюм европейского типа» [Кирсанова, 1997, 288]. Именно в таком костюме на сцене появляется Гаер.
Его превращение отмечено стихотворным описанием удачной метаморфозы, которое, видимо, выросло из ремарки: «И тако Гаер положит на себя прекраску, / наденет на лице свое маску. / Потом богатой кафтан, / и часы серебряные положил в карман, / И преизрядно парик натуральной – / Покажется человек фигулярной. / С великим приидет куражем / и богатая шляпа с плюмажем. / С немалыми поступит приметами / и крухманенная рубашка с манжетами» [Ранняя русская драматургия, 1976, 758]. Так выглядит костюм великого модника. Его кафтан с карманами, куда можно положить серебряные часы, – знак невероятного богатства. На нем шляпа с плюмажем, который помогает распознать ранг персоны [Кирсанова, 1997, 187], крахмальная рубашка, манжеты которой, видимо, были кружевными. Они потрясли Невесту Гаера: «Имел рубашку с манжетами, / с которой доставил меня лабетами» [Ранняя русская драматургия, 1976, 763]. Так создается разительный контраст с пестрой одеждой, в которой Гаер впервые выходил на сцену. Теперь он может изображать заморского купца перед будущим тестем, рассказывать, что торгует разными напитками и корабли свои уже отпустил в море. Простодушный Купец видит в нем человека «добронравна» – в такой одежде другим человек быть не может.
Гаер недолго так красуется, так как сразу после свадьбы снова преображается, возвращается к образу «пестрого» шута, которого также кличут «пестрым дураком» или «пестрым дворянином». Он теперь в «худом» уборе, который ему более мил, чем модные наряды заморского купца, которого он только что изображал. Привычная одежда свидетельствует о его «чине», который он так боится потерять: «…мне жаль потерять своего чину. / Вышел паки в той же одежде, / в которой браживал и прежде» [Там же, 761]. Молодая Жена в отчаянии: «Был в богатой одежде плут, / а ныне познала – ажио шут» [Там же, 763]. В «арликинском платье» Гаер появляется перед тестем. Тот приходит в ужас: «Наш зять – богатой купец, / а ты что за такой глупец?» [Там же, 765]. И колотит его. Так заканчивается гаерская комедия с переодеваниями.
Пестрый кафтан Гаера смущает далеко не всех персонажей. Лекарь, отчаявшийся получить с него деньги за лечение, готов слупить с него хоть кафтан. В другой интермедии Хозяин, купивший Гаера, просто интересуется, почему он «в сие платье окручен». Заметим, что и в итальянских интермедиях, ставившихся в Петербурге при дворе Анны Иоанновны, Арлекин воображает себя купцом, во что никто не верит. Пожалевший его Силвии вынимает из сумки «кавтан» и с «шуткою смешной» надевает на Арлекина [Перетц, 1917, 153].
Переодевание не обязательно служит мнимой идентификации персон, означает смену статуса или внутренние их переживания. Оно вызывается особой ситуацией – персоны часто молятся на сцене. Если источником пьесы был библейский сюжет, то драматурги, следуя за ним, повторяли мотив переодевания. Священный текст подсказывал именно такой способ передачи внутренней концентрации персонажей. Предчувствуя опасность, страшась смерти, они возносили молитвы, сняв дорогие одежды. Чтобы передать напряженное, сосредоточенное состояние действующего лица, постановщики прослеживали момент переодевания, фиксировали его в ремарках, в слове, непосредственно представляли на сцене.
Иудифь в пьесе «О премудрей Юдифе, как отсече голову Олоферну» облекается во вретище, посыпает голову пеплом и только потом молится. Слово ее услышано, так как появляется ангел с мечом и ветвью и вручает их ей. Затем она выходит «во устроении своем». Драматург не учитывает того, что в библейской книге сказано, что Иудифь уже ранее «возложила на свои чресла вретище, и были на ней одежды вдовства ее» (Иф. 8. 5). Там же говорится, что во время молитвы она сбрасывает с себя вретище, посыпав голову пеплом. Переодевание Иудифи в богатые одежды не вынесено на сцену. В библейской же книге говорится, что она надевает «одежды веселия своего» (Иф. 10. 3].
Есфирь также снимает с себя «драгую» одежду и облекается в «худую» для того, чтобы вознести молитву перед походом к царю: «Дадите мне одежду ради слез худую / И возмите от меня царскую драгую» [Ранняя русская драматургия, 1975, 260]. Здесь монолог вторит библейскому: «И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертною горестью, и, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования» (Есф. 4. 3). Затем она сбрасывает одежды сетования и одевается по-царски. В пьесе второе переодевание отсутствует. Мардохей, предчувствуя перемену судьбы своей и своего народа, «уведав о царских повелениях, облекается во власяницу и плача вопит ко Богу» [Ранняя русская драматургия, 1975, 257]. Как сказано в книге Есфири, он «разодрал одежды свои, и возложил на себя вретище и пепел» (Есф. 4. 1).
Драматурги не только следовали источникам, когда на время переодевали своих персонажей. Этого требовали также похоронные и свадебные обряды, представляемые на сцене. Так как свадебный церковный обряд не мог быть представлен, драматурги сосредоточивались в основном на моменте обручения. Потому в серьезных пьесах свадебных уборов не надевали. Только царь Арфелион велит своей сестре Армелине «к утрему убратися», чтобы быть готовой к свадьбе с Алкарелетесом. Вполне возможно, что в следующем явлении она выходит в свадебном уборе, но ни в ремарках, ни в монологах упоминаний об этом нет.
Зато интермедии фиксируют подготовку невесты к бракосочетанию. Заждавшиеся женихов красавицы серьезно готовятся к долгожданному событию, как Невеста в «Интермедии о Гарлитинской свадьбе»: «Сей мамент к тому приуготовляется, / к показанию вам скоро убирается» [Ранняя русская драматургия, 1976, 760]. Затем она выходит к гостям в богатом уборе. Гаер приходит в восторг и тут же женится. Не все невесты так старательно наряжались. Совсем не желает этого невеста Шута Касенка. К свадьбе она не собирается переодеваться.
Большее внимание театр уделял траурному платью. Оно объяснялось сценическим запретом на образ венчания и функциональной ограниченностью свадебного наряда. Траур же носили не только во время похорон, но и в течение долгого времени. Траурная одежда была принята при Петре, и ее отдельные элементы совпадали с прежней русской традицией, когда по случаю траура надевались «смирные» кафтаны [Кирсанова, 1997, 47]. Не известно, какой вид траура предпочитали постановщики. Видимо, он был достаточно условным.
В «Комедии о Фарсоне» выходила в трауре Кралевна, оплакивающая своего возлюбленного. Она появлялась «под черным флером». Напомним, что длинная черная фата украшала костюм такой аллегории, как Смирение. Платье Кралевны, конечно, было черного цвета. В трауре выходили ее маленький сын и «францужский» Король. Видимо, «вдовствующая королева» Беляндра в «Акте Ливерском» также была в трауре, иначе, зачем было в аргументе фиксировать ее статус. Одевали на сцене в траур и аллегорических фигур. В таком виде выходит на сцену Сетование в «Комедии об Индрике и Меленде». Как сказано в ремарке, оно появляется, «наредяс в трауре». Сетование «чует» горесть «вперед» и потому печалится заранее, что передается не только речами, но и костюмом этой аллегорической фигуры. Если не в траур, то во все черное одет Полиартес, появляющийся во сне Калеандра. Так одетый, он говорит «унывные» речи, которым вторит Калеандр. Повествует он о военной опасности, нависшей над его государством. Страх и печаль царя выражает не только слово, но и костюм. Наряд Кризанты знаменует ее безмерное горе. Как только ее отверг Калеандр, она «збросит с себя все царское одеяние и надевает на ся черное плайте» [Ранняя русская драматургия, 1976, 263].
Таким образом, только в переодеваниях, в обмене платьем состояли изменения театрального костюма. Обмен не предполагал новых и непривычных нарядов, но как бы передавал костюм от одной персоны к другой. Он начинал движение, и так создавался некий парадокс: ряд театрального платья был неизменным, но сами эти платья перемещались, что создавало иллюзию многообразия сценического костюма. Это не единственный вариант работы с костюмом на сцене.
Персоны не только менялись платьем и переодевались. Костюм также активно входил в игру. Чтобы все поверили в дурные намерения Калеандра, Кризанта рвет на себе платье и бросает его: «Ах, рву мое днес платье, на землю бросаю, аз не отпущу тя, так живот твой скончаю!» [Там же, 253]. Указывая на Калеандра, она рассказывает Кавалерам, что с ней якобы приключилось. В «Акте о преславной палестинских стран царице» одежда играет важную роль в эпизоде со львицей, воспитавшей в пустыне сына изгнанной Царицы. Корабленики, желая приманить львицу, сначала бросают ей хлеб, и происходит чудо. Они видят, что «сей зверь но єдине не яст, отрока питает» [Там же, 422]. Когда же они кидают одежду, то видят, «как зверь поступает: / Отроча в одежду дивно облекает» [Там же]. Львица прикрывает наготу несчастного отрока. Краткий эпизод с одеждой детализирован. Сначала Корабленик велит принести одежду, чтобы посмотреть, что львица с ней будет делать. Затем ремарка фиксирует появление львицы и жесты Кораблеников. Только после этого произносятся слова о чуде.
На интермедиальной сцене еще более активная игра ведется с элементами костюма. Сапоги не отмечены как деталь костюма Ставленника, но из текста следует, что он был обут именно в них, так как прячет деньги за голенищем. Шапка становится вещью, с которой играют многие персонажи. Маркитант отнимает ее у Ставленника, так как ему нечем заплатить за пироги. Шапошник продает чудесные головные уборы, купив которые, каждый станет «любя носити». В интермедии «Шапошник, Мужик, Мошенники» он велит Мужику выбросить старую шапку: «Чорт ли видал, где честные люди эдакие шапки носят? / Хоть отдать ея нищим, и те на нея плюнут да бросят» [Там же, 554]. Но Мужик не хочет покупать новую, так как она будет неприлична к его деревенской роже. Когда же он поддается на уговоры, то просит подать ту, которая висит пониже и «верхных» не брать. Шапошник усаживает Мужика на стул и велит смотреться в зеркало, приговаривая: «Ах куды-ста как тебе изрядно шапка-та пристала!» [Там же, 556]. Мужик доволен, но сдуру дает ее примерить Мошеннику, выражающему восторг: «Я не досмотрил, ано веть у нея весь и вершок-от новой; / Постой, постой, я издалей, что и околышок бобровой» [Там же, 557]. Больше Мужик своей шапки не видел. Мошенник унес ее, «как собака».
Торгует шапками Голой, всучивая Раскольнику, конечно, не ту, которую тот выбрал. В другой интермедии пьяному персонажу приходится заложить шапку, чтобы выпить еще на грош. В заклад забирает шляпу Шляхтича хитрый Херликин. Интермедиальные персонажи изъясняются через код одежды. В тот момент, когда ревнивый Шут в «Шутовской комедии» допрашивает Мельника, девственна ли его невеста, тот держит в руках шапку и, «сняв свою шапку, и трясет ею» [Ранняя русская драматургия, 1974, 397]. Так он показывает, что она совсем новая, метафорическим образом перенося свойства шапки на целомудрие невесты.
В любовных сценах обычно отдельными деталями или словом бывает намечено раздевание. В «Акте о преславной палестинских стран царице» Мать царева велит Юноше совлечь с себя одежды и войти в царские палаты, чтобы разыграть сцену измены Царицы. Видимо, не совсем был одет Фарсон после любовного свидания. Лакеи, которые сначала снимали с него обувь, теперь говорят: «Изволте встать. / И во свою одежду одеватца /Ив дом свой убиратца» [Ранняя русская драматургия, 1975, 381]. Олоферн в пьесе «О премудрей Июдифе» собирается снять «оружие со бедры и пояс», перед тем как возлечь с ней, а она же «по обычаю» намеревается «ризы слагати». Само раздевание на сцене не представлено.
Интермедиальные персонажи раздеваются часто или только желают этого. Шут требует, чтобы невеста сняла платье с себя долой. Некая Дама выступает в одной «юпке». Ремарка отмечает, что раздевается она прямо на сцене. Доктор велит Больному снимать штаны, что тот послушно и делает. Штанов этих оказывается не одна пара: «Зде подобает тому мужику трои или четверы штаны на севе иметь. И как Шут оные даже до последних с него снимет, и тогда Больному одуматся и надлежит тако говорить» [Ранняя русская драматургия, 1974, 412]. Затем Больной сопротивляется, и Доктор, осердясь, велит лечиться ему у старых баб. Тогда он надевает все свои штаны, что вновь отмечено ремаркой. В другой интермедии злые Разбойники отнимают кафтан у Арлекина с криками: «Ръви ево! – Раздень всево! – <…> Скидай кафтан!» [Ранняя русская драматургия, 1976, 597]. Собираются стянуть с него и штаны.
Интермедия, основанная на сюжете превращения человека в статую, явно соотносится с комедией «италиянской» из Санкт-Петербурга «Арлекин статуа». Здесь на сцене раздевают Кавалера. Испугавшись прихода Мужа, Хозяйка велит ему раздеться и притвориться «куклой», «болваном»: «Разденься как можно вскоре / И стань здесь на стул, зделайся болваном» [Там же, 600], что тот и делает. Ремарка фиксирует процесс раздевания. Кавалер недолго так простоял, потому что на него выплескивают блюдо с горячей едой. Любовник-статуя пускается бежать, и Хозяин пытается его догнать с криком: «Ба! кукла збесилась, постой! / Возьми свой кавтан с собой!» [Там же, 603].
Костюм в интермедиях не только обыгрывался. Персонажи все еще рассуждали о знаменательном событии русской культуры петровской эпохи – о переходе на иностранную одежду. Так, Раскольник по-новому одетых людей называет «обменами», обращаясь к мифологическому образу оборотничества. Он обличает русских, выглядящих «чужеземным» образом. Вышедший из моды к концу XVIII в. парик не дает покоя многим другим персонажам. Одни хотят его носить, как Гаер, который водружает на голову вместо колпака «преизрядно парик натуральной», чтобы понравиться невесте. Кстати, и в итальянских интермедиях говорится о париках: «Все те, которые напудренные перуки носятъ, и которые румянятся, не что иное как ветреныя головы» [Перетц, 1917, 141].
Парик выступает знаком профессии. Цыган, появляясь в роли судьи, не может не быть в парике, что вызывает гнев Расколщика. Как судьей может быть человек, который бреет бороду «да еще и парик на голове имеет». Расколщик на такого судью даже смотреть не желает. Сам он твердо знает, как должен выглядеть истинный христианин. На вопрос Жида о том, почему он зарос бородой, этот персонаж отвечает: «Бо как без перец / Птицы невозможно летати, / Так без этово невозможно пребывати, / Да и пробыть же без этого заслонца, / Понежь без него не пропустят в адские оконца» [Ранняя русская драматургия, 1975, 492]. Так в интермедиях в комическом ключе затрагивается вопрос о бритье бороды. Раскольников однажды называют «человеками бородатыми».
Как видим, костюм в интермедиях имел приметы нового стиля жизни, который «получил более разнообразные формы. Краткосрочной стала мода, на гардероб тратились целые состояния, правительства начали регулировать расходы на одежду» [Свирида, 2000, 12]. О моде интермедиальные персонажи говорят не раз. В одной интермедии Шляхта именуется московским щеголем, у которого «веретеном хвост». Щеголь был устойчивым образом и итальянских пьес. Так, в одной комедии с переодеваниями «Смералдина входит во образе щоголя» [Перетц, 1917, 19]. В комедии «Марки, гасконец величавый», «театр показывает камеру с уборным столом». Здесь Марки убирается, «как щоголю надлежит» [Там же, 337]. В паре со щеголем выступает щеголиха. В еще одной интермедии Жена, оставшись одна, наряжается в «хорошее» платье и садится у стола, поджидая Любителя. Она же накладывает мушки своему Кавалеру, чтобы представить его женщиной. «Этот кусочек пластыря из тафты или бархата, которые дамы, а иногда и кавалеры, наклеивали на лицо» [Кирсанова, 1997, 176]. О вдове при мушках мечтает голодный Шляхта. Конечно, щеголь и щеголиха – еще только намеченные театральные образы, но все же подступы к ним налицо.
В интермедиях, кроме того, через костюм бедность противопоставляется богатству. Персонажей встречают «по одежке», отмечая их достаток («Шляхта, Слуга, Старуха, Дворянка-вдова»): «Есть у меня на примете вдова дорогая, / Собою пригожа, да и ходит не нагая» [Ранняя русская драматургия, 1976, 626], или, напротив, бедность: «Прочь лапти, воло-сеники, сермяги худые, / Уже мне надлежит носить отласы драгие» [Там же, 544]. Изобразить бедность на сцене было несложно. Добыть «худое» платье, рваные треухи не составляло большого труда. Если богатыми уборами персонажи восхищались мало, то убогая одежда всегда привлекала внимание. «Никак я был вчерась пьян, / Да на мне, кажется, цел кафтан» [Там же, 718], – поражается Голый. Шляхта припоминает, как он сшил себе «сертук», который пришелся впору его каналье слуге. Потому он и остался в ветхой одежде, но Шляхта не унывает. Ведь у него есть еще «празднишной <…> мундир, / На котором три тысечи сорок дир, / Башмаки на мне новы, / Только пяты голы. / А вот у меня золотые пряшки» [Там же, 687], – сокрушается бывший богач. Так выстраивается оксюморон, красота и богатство оборачиваются безобразием и бедностью [Богатырев, 1971, 453–455]. Другой персонаж сокрушается по поводу своего наряда и благородного происхождения. Зачем они ему, если денег нет в кармане. «Пит, есть надобно, / Носить платье правильно», – декларирует он несбыточную мечту интермедиального бедняка. Таким образом, в интермедиях с помощью костюма активно разрабатывается тема нищеты. В серьезных пьесах лишь упоминается о богатстве.
Наряду с костюмом в интермедиях значительное внимание уделялось тканям. В интермедии «Гаер, Дама, Муж, Жид» Гаер продает «персицки товары: драгия парчи – / Пожалуй, кто боле денег притащи» [Ранняя русская драматургия, 1976, 649]. Не раз интермедиальные персонажи одаривают тканями ласковых женок, которые просят: «Подари меня тафтой. / То я лягу спать с тобой» [Там же, 732]. Такой персонаж, как Любовник, припоминает, что когда-то уже делал такие подарки своей подружке. Гаер же только обещает «косяк» атласу. Другие всегда готовы наделить веселых женок атласом и парчой, тканями дорогими и отнюдь не предназначенными для низших сословий. Как известно, парча до 1717 г. ввозилась из-за границы [Кирсанова, 1997, 55–59, 81–86]. Ткани дарятся не только женщинам. Шут вспоминает о подарках, которые он получает на службе у Доктора. Это не только овес и сено, но и «портище» тафты или камки. Здесь символы богатства по правилам интермедии сближаются с кормом для лошадей. Упомянутая здесь камка – это тонкая шелковая ткань с разнообразными узорами, которая «выглядела столь же драгоценной, что и парча» [Там же, 54].
Присутствует в «охотницком» театре и главный символ театральности – маска, чего не было в школьном театре. Она скрывает истинного персонажа, делает его неузнаваемым, подчиняется оппозиции ложь / истина, определяющей семантическую структуру пьес. Благодаря маске происходят неузнавания. Если роль преображает человека на сцене, скрывает его от зрителей, ибо он становится другим, то маска скрывает этого другого уже для участников действия. Так удваивается театральная иллюзия. Использовались маски нечасто. В итальянском же театре, выступавшем в России, они использовались широко: мужские (одна из них – «дохтурская», «коженая») и женские «машкары» производились в России или привозились из Франции. Также в «Комедии об Иосифе» персоны выступали в масках. Купцы выходили в «машках» каштанового цвета, «каковы измаелтяня были» [Старикова, 1996, 370]. Фигуре Мерзости предлагалось надеть «машку старую дурную» [Там же].
Примеров использования маски в «охотницком» театре немного. Об одном из них уже упоминалось – Гаер выходил в маске, чтобы скрыть свое безобразие. Сваха хочет его «зделать краснолична, / небось, можна любить прилична. / Зделаю я особливую прекраску, / надену на твою рожю маску» [Ранняя русская драматургия, 1976, 754]. В ремарках отмечен момент, когда Гаер вновь надевает свою старую пеструю одежду. О маске же речи не идет, хотя намек на то, что он снял ее, как и богатую одежду, есть в речи обманутой Жены: «Зрения его и взглянуть боюся» [Там же, 763]. Обыгрывается тема маски еще в одной интермедии – Гаер обещает помочь некоей Жене, которую не любит Муж. Взяв десять «рублев», он приносит «машкар», вымазанный сажей, накладывает ей на лицо, а затем снимает. Жена хочет посмотреться в зеркало, но Гаер не разрешает и велит повязаться платком. В таком виде она убегает за ширмы. Муж, увидев ее, падает от страха. Таким образом, появление маски определяется такой оппозицией, как красота / безобразие.
В серьезных пьесах масок почти нет. Только в «Комедии о графе Фарсоне» Кралевна надевает маску. Она приходит на свидание «под мушкаратом». В другом списке этой пьесы указано, что «мушкарат» этот должен быть белым. Он скрывает ее лицо и высокое происхождение. Фарсон так и не догадывается, с кем он провел ночь. Чтобы указать на то, что Кралевна появляется в маске только однажды, аргумент двадцатого явления подчеркивает, что на заседание Сената она появляется «без мушкарату». Для исполнения официальных обязанностей маска не требуется.
По функции к маске примыкает грим, который, как и в школьном театре, почти не использовался. Внешний вид персонажа только один раз изменяется с помощью накладной бороды. Седым и «брадатым» называет Полиартес Аристона. Чтобы походить на этого волшебника, Калеандр прицепляет седую бороду: «Браду аз седую на ся надеваю (надевает на ся седую бороду), да не познают мя враги мои, что зде обитаю» [Там же, 346]. Так он принимает на себя облик Аристона, полагая, что в таком виде его никто не узнает. Так и происходит. Ураний, с которым он недавно познакомился, конечно, его не узнает и считает, что перед ним некий старик. Просит его помочь найти Калеандра, на что тот говорит: «Хощеш ли, аз могу его тебе предъявити» [Там же, 347]. Для этого он уходит за дерево и снимает бороду со словами: «Аз есмь Калеандр гречески царевич». Борода, играющая роль маски, снята – герой узнан.
Хотя «охотницкий» театр очень слабо использовал возможность изменять внешний вид своих персонажей с помощью маски и грима, обращаясь к ним, он все-таки раскрывал свою связь с одним из самых распространенных видов праздника XVIII в. Напомним «Великий машкарад» Анны Иоанновны, растянувшийся на целые месяцы [Старикова, 2001, 140], маскарад, предшествующий свадьбе в Ледяном Доме, «метаморфозы» Елизаветы Петровны, «Торжествующую Минерву» Екатерины, маскарад, показывавший «гнусность пороков и Славу добродетели» [Там же, 247]. В нем принимали участие кукольники, известные театральные маски, «дикари с ассистентами», античные божества и аллегорические фигуры [Там же, 248]. Все эти маскарады явно реализовали известный топос жизнь есть театр. Обратим внимание на то, что в газетах, придворных журналах, в дневниках секретарей упоминаний о маскарадах не счесть. То сообщается, что императрица и весь двор были в персидском платье. То рассказывается о том, что в течение маскарада «платье всегда переменяется, а особливо во втором машкараде. Императорский двор в Гишпанском уборе, иностранные министры в подобие Парламентских чинов убранные, здешние министры в Венецианском шляхетном, а генералитет в Турецком платье были» (цит. по: [Старикова, 1996, 183]).
Маскарад требовал не только масок и костюмов, но и особых средств передвижения. Императрица и придворные, например, разъезжали по городу в специально изготовленных больших санях. Они «зело изрядно зделаны и украшены были» [Там же, 188]. В заключительном явлении «Акта о Калеандре» Венера выезжала на колеснице, запряженной «лвами», что можно считать отзвуком маскарада или триумфа, которые слышны и в других видах искусства. Например, портреты XVIII в. – это также своего рода маски. «Портретированные выступали в мифологических или театральных одеждах, рядились в костюмы исторических персонажей» [Свирида, 2000, 12].
Итак, костюмы образовывали стройную систему, в которой все ее элементы были заданы с самого начала и не изменялись. Очевидно, что в них значительную роль играл цветовой код. Костюм выступал основной характеристикой персоны, означал статус, заменял имя, наглядно показывал эмоциональное состояние. Он служил идентификации персон, так как с его помощью они преображались, становились другими. Для этого выстраивались эпизоды с переодеванием, в которых явно усиливалась игра. Она занимала зрителя, поражавшегося тому, что перед ним в разных обличьях появляется одна и та же персона, меняя пол или социальный статус и одновременно оставаясь собой. Хотя костюм был приписан одной и той же персоне и не менялся, он разнообразил сценическое действие, начиная движение среди действующих лиц. Они переодевались, но отнюдь не только по торжественным или печальным поводам. Персоны затевали переодевания не только с целью кого-то обмануть. Сменив костюм, они становились другими. Если ремарки и речи персон о собственно костюме оставили самые скупые сведения, то о переодеваниях говорится постоянно, что свидетельствует об их значимости.
Переодевания тщательно прослеживались и комментировались, так как костюм становился особенно значимым тогда, когда с ним совершались действия. Так он участвовал в создании театральной иллюзии, наглядно демонстрируя движение сюжета и изменения, происходившие с персонами, выполняя, по сути дела, функцию маски. Так театр использовал все возможности, предоставляемые сменой костюма, которая была главным выражением идеи идентификации.
Смена костюма подчинялась общей установке «охотницкого» театра, который, выводя на сцену актера, стремился продемонстрировать идею театральной условности, созвучную концепции переменчивости мира. Актер не выходил из роли, но, оставаясь в ее границах, он не раз удостоверял свое положение на сцене, которое постоянно колебалось. Так через костюм выражалось стремление, всегда свойственное театральному искусству. Вопросы: Я – не-Я, Он – не-Он столько раз в самых разных формах задавались на сцене, что их ряд в сценическом воплощении явно формулировал идею верификации персонажа.
Почти каждый из них идентифицировал не только себя, но и свое окружение. Традиционный прием неузнавания, решаемый с помощью костюма, интересно трактует Р. М. Кирсанова, обращая внимание на функции костюма в XIX в.: «Сейчас нам кажется непонятным, как можно не узнать хорошо известного и даже близкого человека только потому, что на нем непривычный костюм или полумаска. В современной жизни это случается крайне редко. Психология восприятия в прошлом веке основывалась на иных признаках индивидуальности. Для нас это черты лица, знакомый силуэт или походка. В прошлом веке переодетого человека действительно могли не узнать; если его костюм менял социальный статус – его просто не замечали» [Кирсанова, 1997, 117].
Конечно, в подобных сложностях идентификации проступают общественные условности, о которых вспоминает Шляхта в интермедии «Шляхта, Слуги»: «Тфу, провал, как я был богат, / Так всяк мне был брат и сват. / А как оскудел, / Да заслуженной мундир надел, / Так никто не узнал, / Хож бы кто чортом назвал» [Ранняя русская драматургия, 1976, 685–686]. Но в них же скрывается установка на восприятие костюма как основной внешней характеристики человека, который в ту эпоху стремился «оборачиваться во все виды, какие только попадутся».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?