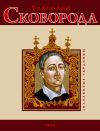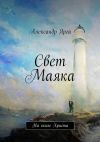Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 58 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Отдаленность от центра вызывает образ улицы, называемой Мелхолиной. Это тот локус, где совершается беспорядочное движение, не направленное к центру, т. е. к самому себе.
Аналогично построена еще одна дефиниция. Мир – это торжище блудников шатающихся. К этому ряду дефиниций примыкает еще одна: мир – Иерихон. Это «образ суетнаго міра сего и лестнаго». Так город утрачивает реальные очертания и исчезает с географической карты, становясь образом мира, символизируя мир внешний. Аналогично выступает Рим, который в мечтаниях Иеронима Блаженного видится как «пированія и дамскіи плясанія», где «беглые взоры, нежные глаза женскіе, шуточныя улыбки, щоголные башмачки, розовые чулки» [Сковорода, 1973,2, 177].
Не раз философ акцентирует движение, например, когда называет мир медведем, который дьяволом «влеком за ноздри своя». Когда мир чрезвычайно активен по отношению к человеку, то из медведя превращается в волка, который «день и нощь незлобных жрет агнцов», а затем во льва, рыскающего в поисках добычи. Очевидно, что здесь дефинициями мира служат животные, перечисляемые по признаку движения.
Мир получает и косвенное определение из ряда животных. Он бывает не только львом, но и львиной оградой. Так вновь проступают его пространственные измерения в метафорическом плане. Сковорода рассказывает о том, как лев-мир охотится, ограждая дубраву не стеной или рвом, но своими следами. Спрятавшись, он поджидает, когда звери, обходя эту ограду, бросятся на тропу, где нет его следов, но там-то он их и поджидает. Он рычит, пугая зверей: «Как только гладей, так возревел» [Там же, 65]. Они, ища «спасительную стезю», в страхе бросаются именно туда, где он прячется. «Зде уловляются. Вот врата адова! Зде всему міру исход и кончина» [Там же]. Таков и человек по отношению к миру.
Дефиниции мира связаны не только с кодом движения. Мир – это также дом (храм), как дом – это мир [Вагнер, 1980, 22]. Противопоставленные по принципу внутреннее / внешнее, мир и дом в идеале совмещаются, так как дом подражает образцу, т. е. миру [Цивьян, 1999, 31]. Эта дефиниция есть уже у Блаженного Августина, который писал, что вся земля есть дом Бога. Ориген утверждал, что Бог создал мир как один дом [Бычков, 1995, 282].
У Сковороды не только мир предстает домом, но и Бог, и Библия, и человек, его душа, которая есть дом нерукотворный. Так как тело человека – это дом, Бог есть в его доме дом. Дом-тело – ничто, но он содержит внутри себя сокровище, истину, т. е. Бога. Наименование мира домом отводит мир от «околичностей» и превращает в центр. «Что бо есть система міра сего, аще не храм Божій и дом его?» [Сковорода, 1973, 2, 128]. Однажды философ называет мир увеселительным домом вечного.
Мир – это не только дом, но и страна, страна прокаженных. Называется он оградой, тюрьмой, темницей, острогом, где томятся пленники. Представление о мире-темнице расширяется. Такой мир – и узы, и сеть, и плетень. Вслед за этим возникает образ мира – колодника в темнице. В этом закрытом мире господствуют теснота и узость, свойственные аду, но присущи они и миру, а также греху. Существует узкий тесный ров греха. Потому пещера и бездна, в которой «трудно не потопиться», как в океане, – это мир, а также ад. Мир при этом сам может «упадать» в бездну.
Философ объявляет мир морем. На первый план выходит не его глубина или огромность, а характер движения. Мир бывает морем волнующимся или лживым, основанным на «лжекамнях». «Многомятежное» море «воюется, тяжбы водит, коварничит, печется, затевает, строит, разоряет (кручинится), тенит» [Сковорода, 1973, 1, 335]. Эта дефиниция разрастается, выявляя беспорядочный характер движения, которое оценивается отрицательно. Эта оценка усиливается с введением в морской «пейзаж» человека, что видно из следующего примера: «Мір сей есть великое море всем нам пловущим. Он-то есть окіан, о, вельми немногими щастливцами безбедно преплавляемый» [Сковорода, 1973, 2, 119].
Мир-море не пассивен по отношению к человеку, тем более, что море это бесноватое. Оно прельщает человека, угрожает ветрами, скалами и «скалками», сиренами и китами: «От каменей – претыканіе, от сирен – прелыценіе, от китов – поглощеніе, от ветров – противленіе, от волн – погруженіе» [Там же]. Сковорода однажды просит Господа спасти его от этого моря-мира, явно настаивая на значимости внутренней рифмы. Переставая быть морем, мир превращается в бурю, которой следует оберегаться и даже бороться с ней. Этот мотив, как известно, очень долго живет в поэзии. Обращаясь к коду природы, философ именует обительный мир и всякую внешность мимо протекающей рекой.
Мир – это не только море, буря и река, но и орех, червем растленный. Оппозиция внутреннее / внешнее определяет эту дефиницию, которую философ использует практически для всех описываемых им явлений. Она передает идею пустоты мира. Стремясь выразить все его ничтожество, философ именует мир орехом пустым: «Как внешность есть пуста, так и мера ея» [Сковорода, 1973, 1, 167].
Пространственные измерения активизируются, когда философ антропоморфизирует мир и тело человека становится его художественным определением. Выказывая презрение к человеческому естеству, Сковорода тем не менее находит множество сравнений и метафор телесного свойства, но только для внешнего – видимого мира. «Граница физического тела делает его символом, метафорой социальной группы. Тело представляет взаимосвязь между частями организма и организмом как целым. Тело – метафора структурированной системы. Тело – аппарат классификации» [Козлова, 1999, 34]. Через телесный код философ усиливает отрицательную оценку мира, а также возвращается к мифологеме макро– и микрокосма [Топоров, 1997, 471–474].
Мир повторяет строение человека, как макрокосм – строение микрокосма. Мир не только антропоцентричен [Цивьян, 1999, 9], но и антропоморфен. Для Сковороды недостаточно приравнять мир к телу. Философ приписывает миру строение тела. У мира есть нога, пята, хвост, голова, сердце. Солнце выступает лицом видимого мира, огонь которого гасит сатана. Обычно мир – это одна из частей тела, имеющих преимущественно отрицательные коннотации. Часто это бывает пята, подошва, а иногда и хвост. О нем философ ведет речь постоянно, иной раз напоминая, что означает он плоть человеческую. Конечно, мир духовный – это голова. Основанием его выступает мир видимый. Так миру сообщается «непосредственная, телесно-вещественная убедительность» [Вайскопф, 1993, 360]. Человек видит в мире только пяту, ногу и хвост, а также чрево. Чрево – бог мира, оно же – «пуп аду, челюсти, ключ и жерло, изблевающее их бездны сердечныя всеродную скверну, неусыпных червей и клокощущих дрождей и блевотин оных и вод» [Сковорода, 1973, 2, 94]. При этом мир остается подножием Божиим.
Как нельзя понять человека, взирая только на его подошву, представить, как выглядит птица, рассматривая лишь ее хвост, так и часть мира не свидетельствует о нем самом: «Из ног его не узнаешь его, разве из главы его, разумей, из сердца его» [Там же, 125]. Постоянно используя «антропологические» метафоры, философ иногда так их запутывает, что создаются почти гротескные образы, служащие абсолютной свободе смыслов и свидетельствующие о принципиальном равнодушии философа к вещному, телесному началу, а также об относительном равенстве двух миров, макро– и микрокосмоса: «Пяту его блюдут, как написано, на ноги взирают, не на самый мір, сиречь не на главу и не на сердце его смотрят. Сего ради никогда его узнать не могут <…>, из ног его не узнаешь его, разве из главы его, разумей, из сердца его» [Там же].
Мир, приобретая очертания человеческого тела, обогащается концептом одежды. Два мира противопоставляются через этот концепт, обслуживающий различные оппозиции, но в первую очередь внутреннее /внешнее. Так передается иллюзорность обительного мира. Он, правда, может на мгновение утратить отрицательные коннотации и стать тогда обветшавшей ризой Господней. Мир духовный же в этом случае выступает телом: «Сей – риза, а тот – тело, сей тень, а тот – древо; сей вещество, а тот – ипостась, сиречь: основаніе, содержащее вещественную грязь так, как рисунок держит свою краску» [Там же, 14].
Пространственные характеристики мира проступают в определении мира как тени. Мир-тень не имеет границ, всегда и везде находится при своем начале, т. е. при вечном и невидимом мире. Мир – как тень при яблоне, которая «то преходит, то родится, то ищезает и есть ничто» [Там же, 16]. Философ замечает, что тень есть безделка, а не дело. Называется мир последней тенью. Может он отражать и древо жизни, которое вечно растет и зеленеет. Древо жизни, соответственно, обозначает духовный мир, мир Господень, а также день его. Мир обительный, «дряхлый, тенный и тленный» – это не только тень древа. Этот мир сам способен выступать как древо, но древо смерти. Мир-тень не стоит на месте и способен преобразовываться в различные формы: «Вчера была одна, днесь другая, заутра третяя привидится» [Сковорода, 1973, 1, 311].
Определения мира как тени – одно из самых распространенных. Мир – не только тень Бога и древа жизни, но и всего мира духовного. Потому он однажды назван дымом вечности. Тень исчезает стремительно и погибает, поэтому на мире-тени человек не должен задерживаться. Этот мир «не постоянствует»: «Мір наш, век наш и человек наш есть то тень одна» [Там же]. Называет философ мир сном и объявляет его и тень пустыми, выделяя таким образом в этих дефинициях пространственный признак.
Мир – это дьявол, удочка и сети. Он раскидывает сети свои и уловляет «человеков» как птенцов. Соответственно, счастье человеческое – это также сети. Сковорода подробно описывает внешний вид мира-сети и объясняет, что она подобна «вентеру», т. е. желудку: у нее вход широк, а выход узок. Этими сетями дьявол и мир готовы поймать каждого. Здесь дефиницией выступает свернутое пространство, как и в том случае, когда мир называется машиной, определяющей его мерное движение.
Сковорода именует мир «машинищей», «всемирной машиной», или «машиной мірской». Мир составлен из «машинок» и выглядит как «умная всемірная машинища». Ее заводит и чинит Бог, а она задает движение людям, сообщая правильность и верность. Эту машину должен познать человек, чтобы отыскать ее начала. Тут же, почти противореча сам себе, философ замечает, что даже рассматривать машину мира не стоит, не познав естества Божия. Это ни к чему не приведет.
Великая машина мира отнюдь не вызывает у философа восхищения. Обращаясь к оппозиции видимое / невидимое, он предлагает в видимости машины узреть ничтожество. Образ машины-мира детализируется. В ней, как и во всякой другой, находится невидимая пружина, благодаря чему она движется, подобно часовой машине. Иногда пружину заменяет «десятофунтная машинка», которая «ворочает стопудную тяжесть». Часы с их «колесами», качающимися в противоположные стороны, не только «по нашей склонности, но в противную сторону» [Там же, 111], вторят ей. Кстати, этот концепт использовал и Я. А. Коменский [Валка, 1997, 84].
Обительный мир в представлениях Сковороды многолик, на что указывают разнородные дефиниции. Мир выступает не только как улица, лабиринт, море или машина, но и как книга, и книга мрачная, полная всяческих опасностей. Потому она подобна морю. Так сливаются воедино две, казалось бы, несовместимые дефиниции. «Кая польза читать многія книги и быть беззаконником? Едину читай книгу и довлеет. Воззри на мір сей. Взглянь на род человеческій. Он ведь есть книга, книга же черная, содержащая беды всякаго рода, аки волны, востающія непрестанно на море» [Сковорода, 1973, 2, 125]. Развивает философ сравнение двух дефиниций, призывая читателя книги-мира взирать на мир как на беснующийся океан из высокой гавани. Образ мира-книги поддерживается кодом человеческого тела. Находятся читатели, блюдущие только пяту книги-мира, на ноги ее взирающие, но не на голову или сердце. Данный пример показывает, сколь сложно построение художественных дефиниций, практически не существующих изолированно одна от другой.
Мир определяется не только как книга, но и как алфавит, т. е. упорядоченный ряд знаков. Иногда алфавит называется букварем. Эти определения не лишают мир той загадочности и тайны, которая ему присуща, когда мир выступает в образе книги. Построить алфавит мира человеку помогает Библия. Благодаря ей человек видит, что обительный мир, как алфавит или букварь, ведет его по пути несчастий, и первые буквы – АБВГ – символизируют неправедные поступки, или же дорожки обительного мира. Так вновь в художественных дефинициях возникает код движения. Алфавит, соответственно, демонстрирует человеку премудрость Божия.
Все дефиниции взаимодействуют между собой и имеют сходные значения. Поэтому мир одновременно – великая машина, море и книга, а также бездушный истукан, идол поля Деирского, которому поклоняются язычники. Самые разные дефиниции мира порой просто перечисляются: «Мыр же есть море потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, торжище блудников, удица сластолюбная, пещь, распаляющая похоти, пир беснующихся, лик и коровод пяно-сумазбродных <…>, слепцы за слепцем в бездну грядуще» [Там же, 108]. Все эти дефиниции адресованы человеку. Мир с человеком лукавит, подобно дьяволу, заманивает драгоценными одеждами, светлыми чертогами, «сластными» трапезами, позлащенными колесницами. Мир полон пиров, богатств и сластей, обременен «чревонеистовством». Так через код вкуса развиваются темы тщеты и суеты мира, которые философ сводит воедино и называет пароксизмами мирских сует. Для него мир – безрассудный, прельщающий и прельщаемый. Советы мира – это семя смерти сердечной, а сласть его – лютый зверь.
Рассуждая о мире в различных аспектах, представляя его не единым, а двойственным, выделяя в нем как важную составляющую натуру и подробно ее детализируя, Сковорода не считает, что мир можно полностью понять, даже когда человек движется по пути познания. Философ предостерегает человека, говоря, сколь трудное это дело – познать мир. Потому всех размышляющих о мире призывает к осторожности: «Теперь скажу вам то же, что вначале: осторожно говорите о мире. Высокая речь есть мир. Не будьте наглы, испытуйте все опасно. Не полагайтеся на ваших мыслей паутину, помните слово сіе: „Не буди мудр о себе; не мудрися излише, да некогда изумишися“» [Сковорода, 1973, 1, 376–377].
Философ не раз повторяет, что рассуждать о мире нужно осторожно и мирно, иначе он пожрет человека, как дракон незадачливых путешественников в одной из его притч, или басен, которая, хоть и чучело, но весьма схожее с житием человеческим.
* * *
Рассмотрев организацию пространства в тексте, обратимся к проблеме текста как пространства. Ее можно представить на материале сочинений Григория Сковороды, определив их пространственные параметры. «Суть же тры мыры. Первый есть всеобщш мир и мыр обительный, где все рожденное обитает. Сей составлен из безчисленных мыр-мыров и есть великій мыр. Другій два суть частный и малый мыры. Первый – мікрокозм, сиречь – мырик, мирок, или человек. Вторый мыр симболичный, сиречь Библіа» [Сковорода, 1973, 2, 137].
Философский лабиринт
«Мыр-мыры», «мырик», «символичный мыр» философ описывает в пространственных измерениях, давая им пространственные дефиниции. Сковорода представляет их взаимосвязанными. Каждый из миров соотносится с остальными двумя. Между ними выстраивается огромное количество связей, пересекающихся и обогащающихся дополнительными смыслами. Переходы от одного к другому сложны и порой неожиданны. Разъять миры чрезвычайно трудно, как и собрать в единое целое. Философ мыслит свои три мира как целое, два из них – мир и Библию – он прямо называет лабиринтом. Сковорода избирает для себя «мифопоэтическую „архетипическую“ конструкцию. <…> Подобные структуры не выявлены эксплицитно и подлежат реконструкции (экспликации)» [Левин, 2002, 270].
Чтобы провести эту реконструкцию, подробнее рассмотрим каждый из трех миров. В мире-лабиринте все движется, и это движение постоянно повторяется и возвращается вспять. Мир, исчерченный разнонаправленными путями, «дорожками», обманывает и запутывает человека, и тот не может выйти из него на верный путь спасения, если не обратится к Богу. Мир-лабиринт – это образ замкнутого пространства, в котором можно двигаться «и „вперед“, и „назад“, и „вширь“, и „вглубь“» [Цивьян, 1996, 306]. Лабиринт – это и пути по этому миру. Как известно, в образе лабиринта присутствуют статическое и динамическое начала. Лабиринт может выглядеть как строение или как движение [Там же, 307].
Называя мир лабиринтом, Сковорода имеет в виду мир видимый, земной, плотский. Но и по отношению к миру невидимому, сакральному он употребляет то же определение. Библия, как и ее познание, т. е. путь к ней, выступает у философа лабиринтом. Она определяется как лабиринт священный, Божий, непроходимый. Если человек не способен понять слово Божие, то запутывается и погибает навечно в священнейшем этом лабиринте. В Библию можно войти и «плутать» по ней. Не зная «план лабиринта», «выплутаться из сего узла» невозможно.
Представляя Библию лабиринтом-строением, Сковорода указывает, что войти в нее можно через разные входы. Выйти можно разными «исходами». На пути к познанию священного слова возникает множество дверей. Они открываются только тогда, когда человек осознает славу Божию. Попав в библейский лабиринт, он понимает, что сделал это не напрасно: «хотя в сем не всяку дверь оттворить можно непроходимом лабиринте, но уже знаєш, что под тою печатью не иное что, как только Божіе таится сокровище» [Сковорода, 1973, 2, 28]. Библия-лабиринт имеет свою Ариадну с шелковым «клубом» нитей. Это Раав, освободившая в Иерихоне «шпіонов Іисусовых, обязанною у окна червленною веревкою» [Там же]. Эта веревка вторит нити Ариадны, и она вождь наш в доме Божием, объявляет Сковорода. Рассматривая лабиринт-путь познания Библии, он отмечает, что этот путь-лабиринт не только ведет к истине, но и тайно указывает человеку верное движение. До истины следует «добираться», примечая знаки, расставленные на пути. По ним нужно идти, как по следу, ибо лабиринт то отводит от истины, то вновь приводит к ней.
Не только «симболичный мыр» и «мыр-мыры» определяются как лабиринт. Лабиринтом объявляется обряд, который есть путь к Богу. Это «тот лабиринт, которой должен был вас путеводничать к милости, отводит от нея» [Сковорода, 1973, 1, 227]. Таким образом, обряд-лабиринт содержит в себе идею затрудненности пути, идею «движения в предельно усложненном варианте» [Цивьян, 1999, 16]. Сковорода сужает определение обряда, данное им самим, и указывает на то, что обряд имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. Именно внешняя его сторона является лабиринтом. Ее нужно преодолеть, т. е. пройти лабиринт, чтобы нащупать истинный путь к Богу. Сразу к внутренней стороне обряда подойти нельзя. Только через внешний лабиринт человек проникает в суть божественной истины. Тогда он раскрывает таящуюся в нем силу Божию, без которой всякий обряд подобен пустоши. Философ находит и другие пространственные определения для обряда. Он есть «некая тропинка», ведущая к тайному. Сковорода показывает в обряде внутреннее и внешнее, разделяя их: «Естли ж сія маска лишена своей силы (значения. – Л. С), в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек – гробом разкрашенным» [Сковорода, 1973, 1, 152].
Таким образом, философ сам предложил один из вариантов описания системы трех миров. Как пишет В. Н. Топоров, «тексты выступают в „пассивной“ функции источников, по которым можно судить о присутствии в них <…> модусов, но эти же тексты способны выступать и в „активной“ функции, и тогда они сами формируют и „разыгрывают“ мифологическое и символическое и открывают архетипическому путь из темных глубин подсознания к свету познания» [Топоров, 1995, 4].
Строение лабиринта у Сковороды определяется связями между тремя мирами, которые в конечном счете становятся определяющими для характеристики каждого из миров. Только в этих связях выясняются особенности трех миров, только в них они существуют. Объявляя Библию, мир и человека тремя мирами, философ не столько объясняет их строение и значение, сколько рассматривает отношения между ними, таким образом толкуя их смыслы. Извлечь их на поверхность сложно, так как лабиринт философа не только испещрен взаимопересекающимися или параллельными путями, по которым, на первый взгляд, никак невозможно достичь искомого центра. Лабиринт являет собой единое пространство, из которого каждый из миров вычленяется с трудом.
Три мира философа не соположены. Они не простая последовательность, ориентированная по восходящей, направленной к Богу. Они существуют в едином пространстве, которое сами организуют. Мир, человек, Библия не только одинаково именуются мирами, но и совпадают между собой. Читателю мешает пробраться к истине их совмещение. Он начинает двигаться хаотически и не в состоянии выбрать верный путь. Этот выбор затрудняется тем, что каждый из миров способен напрямую общаться с другими, и каждый самостоятельно направлен ввысь. Они все находятся в различного вида зависимостях между собой и с Богом: Бог – человек, Бог – мир, Бог – Библия, человек – мир, человек – Библия, мир – Библия, мир – человек, Библия – человек, Библия – мир. Их отношения разнятся комплексом присущих им значений, которые определяют характер созданной Сковородой системы. Внутри нее миры постоянно соприкасаются между собой, частично совмещаются, чтобы затем вновь разойтись.
Как только выясняется, что каждый мир не одинок, не изолирован и пребывает с другими в едином пространстве, соотношения трех миров все больше усложняются и углубляются. Сковорода ведет бесконечную работу по выискиванию их связей, обнаруживая все новые и новые, ранее трудно различимые, постоянно повторяя, что только в целостном единстве этих связей выявляются смыслы каждого из миров. Философ запутывает читателя в сети этих связей, о чем можно сказать словами В. В. Бычкова: «Нанизывая один символ на другой, он с упоением погружается в поток своих рассуждений. Сам поток ассоциаций, часто оппозиционных, доставляет ему невыразимое удовольствие. Он наслаждается их свободной игрой, их перетеканием одна в другую, их неуловимостью и многозначностью» [Бычков, 1995, 49]. Исследователь говорит это о Филоне Александрийском, но его наблюдения приложимы и к творчеству Сковороды.
Через все его сочинения проходит мысль не только о единстве, но и о равенстве связанных между собой миров, что усиливает запутанность создаваемого ими лабиринта. Сковорода не раз объявляет миры равными. Библия не существует вне человека, овладевающего ее тайными смыслами, проникающего в суть священного. Если узнаешь истину, один будешь с Библией, говорит философ, настаивая на слиянии человека со священным словом. Преобразившись в человека, Библия объявляется книгой, равной миру, ведущей человека по алфавиту или букварю мира. Сам же человек становится всей Библии концом, центром и гаванью. Мир сближается то с человеком, то с вышними силами. Приняв в себя Бога, человек сам становится Богом, а Бог есть тот же человек. Эти положения могут отрицаться, их заменяют новые, им противопоставленные. Так лабиринт оказывается неустойчивым, ибо способен менять свои очертания.
Лишаясь декларированного равенства, три мира оказываются равными перед Богом. Это сразу меняет их отношения между собой. Мир, например, может занять подчиненную позицию по отношению к человеку, и равенство его с человеком расшатывается. По отношению к миру земному Библия выступает горним миром, так как для нее одной существует Вселенная. Итак, все три мира не занимают четких позиций относительно друг друга. Картина постоянно меняется: они оказываются то равными, то неравными и постоянно колеблются.
Как бы ощущая неуравновешенность построенной им системы, философ непрестанно утверждает единство миров, заключенное в Боге. Это единство на мгновение становится совпадением, и тогда каждый из миров совпадает со Всевышним, а также друг с другом. Так вновь обретается равенство, но ненадолго. Миры снова отталкиваются друг от друга, возвращаясь к предыдущему состоянию. Таким образом, философский лабиринт находится в постоянном колебании и не занимает окончательной позиции.
Этот вечно колеблющийся лабиринт видоизменяется, когда видится сквозь призму оппозиции сакральное / светское. Он начинает вращаться вокруг оси. Все миры несут в себе противопоставление внешнего и тленного с вечным и невидимым. Они состоят из двух неразрывно связанных «естеств». Мир имеет две стороны, человек различается как внутренний и внешний, в Библии есть ложь и истина. Эти две стороны каждого из миров налагаются одна на другую, и тогда происходит всеобщее их удвоение. Есть мир земной, в котором пребывает мир внутренний, духовный. Есть тело «земляное», но есть в нем и другое – тайное. Итак, есть мир и мир, тело и тело, человек и человек – «двое в одном и одно во двоих, неразделно и неслитно ж» [Сковорода, 1973, 1, 273]. Слово Библии бывает простое, понятное человеку, но оно же есть преграда на пути познания сакральных смыслов, содержащихся в нем.
Раздвоение это длится бесконечно и касается малых тварей и всего космоса, небес и души человеческой. Есть два духа – благой и злой, два сердца – ангельское и сатанинское, две славы – одна – тень, другая – Феникс. Концепция удвоения распространяется на все сущее. Обращаясь к эмблематике и выводя на обозрение аиста, Сковорода утверждает, что есть, например, простой еродий (аист) и тайный, «сиречь Израиль, сверх стихій и сверх самаго тонкаго воздуха, видит тончайшее второе естество, и тамо сей еродій гнездится» [Там же, 272].
Итак, в постоянной противопоставленности и совмещении сакрального и светского человек, мир и Библия фокусируют в себе все множество сакральных и светских значений, как бы стремясь к равенству, которое не статично и может исчезать, так как все три мира не занимают одного раз и навсегда данного положения. Они под пером философа будто постоянно вращаются относительно друг друга, что разнообразит их отношения. Например, мир, разделенный надвое, разными своими сторонами поворачивается к человеку и Библии, как и они к нему. В зависимости от этого определяется, какое положение они занимают относительно высшей точки, или центра системы, – Бога.
Лабиринт, создаваемый тремя мирами, не только колеблется и вращается. Три мира могут приближаться к Богу или отдаляться от него, передвигаясь по иерархической лестнице, поднимаясь «наверх» или опускаясь «вниз», меняясь позициями между собой. Так, например, человек противопоставляется Библии как светское сакральному. В другой раз человек являет сакральное начало по отношению к светскому миру и наоборот. Итак, если миры пребывают в неподвижности, то оказываются равными. Как только они приходят в движение, что происходит чаще всего, то между ними возникают отношения иерархического подчинения, которые при этом постоянно меняются. Оппозиция сакральное / светское увеличивает, таким образом, возможности отношений между мирами. Следует заметить, что сам философ, хотя и видит человека реального и мир повседневный, всегда обращен «внутренним» оком к сакральному. Мир же дольний для Сковороды – «тень мира горнего, свод или реестр символических фигур, чья синтагматика подчинена скрытой логике» [Кравец, 2000, 22].
Тайна постоянно колеблющегося лабиринта, в котором происходит поступательное движение и где человек долгое время движется хаотически, может быть разгадана, потому что лабиринт этот покоится на опорной точке, удерживающей его в относительном равновесии и не допускающей до окончательного распада. Эта опорная точка – Бог. Благодаря ему происходит распутывание всех трудных путей лабиринта.
Как вся система трех миров динамична, как все миры находятся в беспрестанном движении, так и опорная точка всей системы, пребывая неизменной по отношению к другим мирам, отмечена движением. Сковорода собирает образы движения не только в Библии, но и наделяет око Божие стремительностью. Как высшую точку движения отмечает его отсутствие – покой Божий. Следовательно, не только все миры внутри себя подвижны, но и их неизменная опора. У Сковороды, как и у Я. А. Коменского, «движение и есть тот момент, через призму которого каждое существо доказывает свою принадлежность к божественному источнику» [Палоуш, 1997, 59]. Бог высится над всеми тремя мирами, в его образе сходятся все их центральные линии. Он центр, или, как сказал бы сам Сковорода, конечный пункт системы трех миров. Философ не склонен к непосредственному описанию и постоянно одно подает через другое. Право на это философу дает не только поэтика, в русле которой он находится, но и завещанное традицией отношение к сакральным ценностям, которые все сходятся в образе Бога. Резкое приближение к нему в культурном сознании эпохи было невозможным.
Указав центр, к которому трудно добраться, если мир настигает человека, вновь обратимся к пути, по которому движется человек. Философ объявляет этим путем Библию, как бы забывая о множестве путей в лабиринте, им самим построенном. Таким образом, не только Христос – путь, но и Библия – путь, путь познания. Это сложный путь со многими парадоксальными отклонениями, остановками, изменениями в ритме и направлении движения. Библия, вобравшая в себя всю правду о мире и человеке, соединяет Бога и человека и столь интенсивно присваивает весь круг сакральных значений, что сама становится им: «Христіанский Бог есть Бібліа» [Сковорода, 1973, 2, 7]. Отношения человека с Богом складываются на пути познания, т. е. в Библии. Следовательно, священный текст возвышается над двумя другими мирами, человеком и земным миром. Так философский лабиринт приобретает иерархичность и структурированность.
Если Бог – центр всей системы, а Библия – путь к нему, то человек, по словам Сковороды, – ее исходный пункт. Он выступает читателем Библии, ведущей к Богу. Не поняв Библию, не познав истины, человек лишается присущей ему двойственности, остается лишь плотским, внешним и не может дотянуться до Бога, ибо его держат плоть, песок, грязь. Вчитавшись в священное слово, человек обретает себя внутреннего и становится человеком духовным. Теперь он может шествовать по Библии, двигаться к главному центру. Так окончательно распутывается загадка лабиринта, состоящего из трех миров. Таким образом, Сковорода представляет лабиринт в виде «эллиптической конструкции барочного мира» [Силюнас, 1997, 47], где Библия связывает центр – Бога и исходный пункт – человека как путь, пролегающий между ними.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?