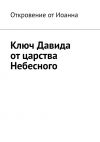Текст книги "Ключ"

Автор книги: Марк Алданов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
VI
Автомобиль замедлил ход, протрубил и остановился. Сидевший рядом с шофером человек в штатском платье соскочил и почтительно отворил дверцы. Федосьев вышел из автомобиля и неторопливо направился к отворившейся настежь двери ярко освещенного подъезда. На мерзлых ступеньках он остановился и окинул взглядом улицу. Впереди У фонаря рядом с вытянувшимся, засыпанным снегом жандармом кто-то соскочил с велосипеда. Проезжавший извозчик лениво постегивал лошадь вожжами. По тротуару шел с мешком булочник. Еще какие-то люди медленно шли по улице. Федосьев знал, что и эти люди, и булочник, и извозчик, и велосипедист – все были сыщики, предназначенные для его охраны! он на улице всегда подвергался большой опасности. Не очень веря в меру предосторожности, он принимал их больше по привычке, как по привычке всегда носил в кармане почти бесполезный браунинг.
Федосьев с шутливым видом говорил знакомым, что процент смертности на его посту не так уж сильно превышает смертность в передовых окопах пехоты. Обычно знакомые при этой шутке заботливо меняли разговор. В пору войны опасность покушений ослабела. Однако Федосьев имел основания думать, что его рано или поздно убьют, и с давних пор приучил себя рассматривать каждый благополучно сошедший день как подарок Провидения. К мысли об опасности он привык, насколько к ней можно было привыкнуть, и без особого усилия принимал перед подчиненными совершенно спокойный, уверенный, даже беззаботный вид, точно самая эта мысль никогда ему не приходила в голову. Так и теперь он, нарочно задержавшись на улице, отдал не спеша распоряжения сопровождавшему его агенту. Тем не менее Федосьев вздохнул с облегчением, когда за ним захлопнулась огромная тяжелая дверь.
«Вот теперь и этого ощущения больше не будет, – подумал он, отдавая шубу увешанному медалями великану швейцару. Мысль эта не доставила ему удовольствия, как ни тягостно было то ощущение. С первых опасных постов Федосьев представлял себе свой конец во всех подробностях, не останавливаясь перед самыми страшными и самыми грубыми. Конец мог прийти от бомбы или от пули, пулю уж предпочел бы: слова „разорван на части“ вызывали в нем то жуткое чувство, с которым в детстве и первой юности он читал о четвертовании. – Да, так неужели я помру, как все, в своей постели, от непродолжительной, но тяжкой болезни? Это прямо у газетчиков отбить хлеб», – с улыбкой подумал он.
Мысль об отклике в газетах на его насильственную смерть тоже часто занимала Федосьева. Он будто видел перед собой статьи – на том месте, на каком им надлежало появиться в каждой газете, где на первой странице, где на второй, где в два столбца, где всего строк на шестьдесят. «Еще одно злодеяние, при вести о котором с ужасом содрогнется Россия». «Кровавый палач народа казнен рукою героя». «Нам незачем доказывать наше принципиально отрицательное отношение ко всякому террору, откуда бы он ни исходил, и в трагической гибели С. В. Федосьева („Да, по случаю моей смерти на радостях удостоят меня инициалов вместо буквы г.“) мы усматриваем новое наглядное доказательство нашего основного положения о том, что…» Радость либеральной печати, худо скрытая под видом несочувствия террору, радость, которую он наперед читал на лицах самоуверенных, во всем преуспевающих адвокатов, больше раздражала Федосьева, чем откровенный восторг революционных прокламаций.
– Петр Богданович здесь?
– Так точно, в секретарской, ваше превосходительство, – почтительно ответил швейцар. Быстро проходивший чиновник, робея, усердно поклонился на бегу. Федосьев давно привык к почету, власти и страху, которые его окружали в этом доме. Они больше не доставляли ему удовольствия, но он знал, что и с ними расстаться будет нелегко. «Верно, еще ничего не знает… Хоть и догадываются они, должно быть», – сказал он себе, внимательно вглядываясь в кланяющегося чиновника. Слухи о его отставке ходили давно по городу, здесь же всегда знали все раньше, чем где бы то ни было. Теперь, с утра этого дня, отставка находилась в кармане Федосьева. В ней не было ничего позорного. Однако он испытывал свойственное всем уволенным людям сложное чувство злобы, обиды и стыда, которое чуть-чуть роднит уходящих в отставку сановников с рассчитанной хозяином прислугой. Федосьев не торопился сообщать эту новость подчиненным: при всем своем служебном опыте он не был уверен, что сумеет найти должный тон, одновременно и естественный, и корректный.
В этом здании, которое посторонним людям могло представляться жутким и страшным, шла повседневная будничная работа, как на почте или в адресном столе. Федосьев поднялся во второй этаж, заметив с неприятным чувством, что на площадке лестницы ему захотелось передохнуть. Зеркало отразило сгорбленную фигуру, утомленное лицо в морщинах, седоватые волосы, совершенно седые брови. «Рано бы на пятьдесят третьем году, – подумал он. – От артериосклероза, верно, и умру… Рано, да по моей службе надо месяц считать за год, как в Порт-Артуре… Впрочем, еще лет пять, вероятно, могу прожить…»
– В приемной есть кто-нибудь? – спросил он курьера, вытянувшегося у двойных, обитых войлоком дверей кабинета.
– Никак нет, ваше превосходительство.
– Бумаги на столе?
– Так точно, ваше превосходительство… Их высокоблагородие положили.
Минуя секретарскую, Федосьев вошел в кабинет и устало опустился в тяжелое кресло с высокой прямой спинкой. «Теперь навсегда придется с этим расстаться», – подумал он, обводя взглядом знакомый ему во всех мелочах кабинет; все в этой громадной комнате было от тех времен, когда не жалели ни места, ни труда – и труд, и место ничего де стоили. «Вот бы мне в ту пору и жить», – сказал себе Федосьев. Ему иногда казалось, что он любит то время, время твердой, пышной, уверенной в себе власти, время, не знавшее ни покушений, ни партий, ни Государственной думы, ни либеральной печати. Однако годы, опыт, душевная усталость, привычка скрытности с другими людьми давно довели Федосьева до полной, обнаженной правдивости с собою: любовь к прошлому не так уж переполняла его душу. Огромная энергия Федосьева, которой отдавали должное и его враги, происходила преимущественно от ненависти к тому, с чем он боролся. «Да, верно, и тогда умным людям было несладко, – сказал он себе и, не глядя, привычным движением протянул руку к тяжелой пепельнице с помещением для спичек. – Тоже, верно, от тех времен… Нет, тогда и спичек не было… – Он раздраженно чиркнул спичкой, сломал ее, бросил и взял другую. – Бумаг сколько, покоя не дают… Вот это, верно, анонимное…»
Федосьев закурил папиросу, распечатал ножом желтенький конверт и развернул листок грязноватой бумаги в клеточку. Наверху листка был нарисован пером гроб, две перекрещенные кости. «Так и есть», – равнодушно подумал Федосьев. Он поставил штемпель с числом получения и, не читая, вложил листок в папку, специально предназначенную для писем с угрозами и ругательствами. На папке было написано «В шестое делопроизводство. Кабинет экспертизы». В других, обыкновенного формата конвертах были ходатайства за пострадавших людей от родных и всевозможных заступников. Федосьев внимательно их прочел, справившись по документам там, где не все помнил (он, впрочем, помнил большую часть дел). Как ни ненавистны ему были политические преступники, на прощание он удовлетворил ходатайства, сделал пометку на письмах, поставил свои инициалы С. Ф. и отложил в папку с надписью «Для исполнения». Затем он взялся за конверты большого формата. В одном из них был перлюстрационный материал. Федосьев быстро его пробежал. В письмах не было ничего интересного: сплетни из Государственной думы, сплетни о великокняжеском дворце, сенсационный политический слух, накануне напечатанный в газетах. «Нашел что вскрывать! Выжил из ума наш старик, – подумал сердито Федосьев. – Да и ни к чему это… Хотя в самых передовых странах существует перлюстрация…» Он разорвал листы на мелкие клочки и высыпал их в корзину. Другие бумаги представляли собой служебные доклады и донесения. Он просмотрел те из них, которые были в красных конвертах, – срочные. Все они говорили об одном и том же: о близкой революции.
Федосьев знал, что революция надвигается; теперь, с его уходом, она казалась ему совершенно неизбежной. «Что ж, ставить пометки? Нет, неудобно», – ответил себе он. То же чувство неловкости мешало ему выносить решения, которые на следующий день могли быть отменены. «Пусть Дебен и решает, или Горяинов, или кого там еще назначат на мое место», – подумал он. Зная все тонкости работы правительственного аппарата, сложные, часто меняющиеся отношения разных влиятельных людей, Федосьев приблизительно догадывался, кто мог быть назначен его преемником. Людям, которые его свалили, он приписывал мотивы личные и мелкие. Федосьев старался презирать этих людей, но презрение не вполне ему удавалось – они одержали победу. Мысль о том, какую политику они поведут, невольно его занимала, хоть он и был уверен, что революция очень близка и что его собственная жизнь уже на исходе.
Рядом с бумагами на столе лежали газеты. О его отставке в них еще не сообщалось. Федосьев пробежал одну из газет. Это чтение неизменно приводило его в состояние тихой радости. Тон статей был необычайно живой и как-то особенно, по-газетному бодрый. Казалось, что все люди, работающие в газете, дружной семьей делают общее, очень их занимающее, веселое и интересное дело. Необыкновенно искреннее сознание своего умственного и морального превосходства чувствовалось и в полемической передовой статье, и в обзоре печати, однообразно-остроумно издевавшемся над противниками. Необыкновенно весело было, по-видимому, фельетонисту, он все шутил, подмигивая читателям. «Шути, шути, голубчик, дошутишься, – думал Федосьев. Ему пришло в голову, что никакой дружной работы эти люди не ведут, что, вероятно, между ними самими происходят раздоры, интриги, взаимное подсиживанье, борьба за грошовые деньги и что, быть может, они друг другу надоели больше, чем им всем их общие противники, в том числе и он, Федосьев. – Что ж у них еще?.. Какой еще губернатор оказался опричником?.. Неужели сегодня ни одного изверга губернатора?.. „Нам пишут“… Бог с ними, неинтересно мне, что им пишут, ведь все врут… „Заседание общества ревнителей русской старины“… Ревнителей, – повторил мысленно Федосьев, слово это показалось ему слащаво-неестественным и доставило ту же тихую радость… – Так, так… А этот что наворотил? – Он заглянул в подвал, отведенный под философский фельетон. Автор этого фельетона, эмигрант-социалист, когда-то на допросе поразил его необыкновенным богатством ученого словаря и столь же удивительной гладкостью лившейся потоком речи. – Теперь в писатели вышел. Так, так… „Если для Ницше характерен аристократический радикализм…“ – прочел Федосьев. – Значит, для кого-то другого будет характерен радикальный аристократизм или демократический консерватизм, – зевая думал он, – не стоит читать, наперед знаю эти словесные погремушки, для них ведь этот гусь и пишет…» Он развернул другую газету, более близкую ему по направлению, но от нее на него повеяло еще худшей скукой, лишь без того насмешливо-радостного настроения, которое дарили ему левые журналисты.
«Бог с ними со всеми!.. О чем я думал?.. Да, лет пять еще могу прожить… Что же я буду делать? Мемуары писать? – спросил себя он. Эта шаблонно-ироническая мысль о мемуарах его кольнула: он сам часто смеялся над сановниками, садящимися за мемуары тотчас по увольнении в отставку. – Даже за границу ехать нельзя из-за войны… Воевать вздумали, ну, повоюйте, посмотрим, что из этого выйдет… В деревне поселиться? Скучно… Да и имения-то без малого двести десятин… – Федосьев вспомнил, что в революционных прокламациях говорилось, будто он всякими нечестными путями нажил огромное состояние. Эта клевета была ему приятна – она как бы покрывала то, что в прокламациях клеветою не было. – Нет, в деревню я не поеду… С Брауном еще философские беседы вести? Не договоримся… Так что же? Wein, Weib und Gesang?..[43]43
Вино, женщины и песня… (нем.)
[Закрыть] Этим надо было бы раньше заняться, – подумал он с горькой насмешкой, вспоминая отразившееся в зеркале на площадке лестницы лицо с седыми бровями, глядя на темную сеть жил на худых руках… – Да, проворонил жизнь… Браун в лаборатории проворонил, а я здесь… Что-то надо было выяснить по делу о Брауне… Нет, не мог он убить Фишера, – неожиданно подумал Федосьев. – А впрочем?.. Эту историю с Загряцким, однако, надо распутать перед уходом. Нельзя рисковать скандалом на процессе, и не оставлять же ее Дебену… – Федосьев представил себе передачу дел преемнику и поморщился: при всей корректности, при вполне выдержанном тоне сцена передачи дел должна была у обоих вызвать неловкое, тягостное чувство. – С Де-беном они живо справятся, – сказал вслух Федосьев, распечатывая последний толстый конверт. – Вот кому я оставляю в наследство революцию!»
Из конверта выпали фотографии – подчиненное учреждение присылало портреты разных революционеров. Федосьев брезгливо перебирал не наклеенные на картон, чуть погнувшиеся фотографии. Он почти всегда находил в этих лицах то, чего искал: тупость, позу, актерство, самолюбование, часто дегенеративность и преступность. Федосьев ненавидел всех революционных деятелей и презирал большинство из них. Он вообще редко объяснял в лучшую сторону поступки людей, но действия революционеров Федосьев почти всецело приписывал низменным побуждениям, честолюбию, злобе, стадности, глупости. В их любовь к свободе, к равенству, особенно к братству, во все те чувства, которые они выражали в своих писаниях, в речах на суде, он не верил совершенно. «Этот себе на уме, ловкач, – равнодушно по лицам классифицировал он революционеров, перебирая фотографии, – Этот, верно, под фанатика (в фанатиков Федосьев верил всего менее)… Этот все в мире понял, все знает, а потому очень горд и доволен, марксист, из провизоров… Этот – пряничный дед революции, „цельная, последовательная натура, единое строгое мировоззрение“… То есть чужие мысли, книжные чувства, газетные слова… Так и проживет свой век фальсифицированной жизнью, ни разу даже не задумавшись над всей этой ложью, ни разу не заметив и самообмана. Для какой-нибудь „Искры“ или „Зари“ жил… Пустой человек! – брезгливо подумал Федосьев. – А вот у этого умное лицо, на Донского немного похож», – сказал себе он, вспоминая человека, который долго за ним гонялся. Портрет Донского он хорошо помнил и порою смотрел на него со смешанным чувством, в которое входили и жалость, и нечто похожее на уважение, и чувство охотника, рассматривающего трофей, и удовлетворение оттого, что этого человека больше нет на свете.
Федосьев спрятал фотографии и разложил донесения по папкам. «Что ж еще надо было сегодня сделать?.. Да, то несчастное дело… Петр Богданович должен был еще поискать». Он надавил пуговицу звонка и приказал появившемуся из-за двойной двери курьеру позвать секретаря. Через минуту в кабинет вошел мягкой походкой, не на цыпочках, но совсем как будто на цыпочках, плотный невысокий почтительный чиновник средних лет с огромным университетским значком на груди. «Этот уж наверное знает о моей отставке, – решил Федосьев, взглянув на бегающие глаза секретаря. На хитреньком лице, впрочем, ничего нельзя было прочесть, кроме полной готовности к услугам. – Вот и этот опричник, – подумал Федосьев. По его суждению, Петр Богданович был не злой человек, не слишком образованный, очень любивший женщин, порою немного выпивавший. – И взяток, кажется, не берет… Зачем только он носит этот аршинный значок, кому, в самом деле, интересно, что он учился в университете?.. Да, конечно, уже знает… Ну, он и с Дебеном поладит, и с Горяиновым».
– Петр Богданович, вы навели последнюю справку о дактилоскопическом снимке?
– Навел, Сергей Васильевич, и имею маленький сюрприз, – сказал секретарь. – Если хотите, даже не маленький, а большой.
Его лицо расплылось при конце фразы в радостную, приятную улыбку. Федосьев знал, что эта улыбка нисколько не притворная, но автоматическая, связанная у Петра Богдановича с концом любой фразы, независимо от ее содержания. «Звезд с неба не хватает наш опричник… Моей отставке он едва ли рад, но и не слишком огорчен…» И тон, и выражение лица секретаря показывали, что он знать ничего не знает об отставке Сергея Васильевича, а если что и слышал, то это не мешает ему совершенно так же почитать и любить Сергея Васильевича, как раньше.
– В чем дело?
– Снимка, тождественного с тем, что вы мне дали, за литерой В, – пояснил секретарь, мельком с любопытством взглянув на Федосьева (его, видимо, интересовала эта литера), – и в регистрационном отделе не оказалось. Я и в восьмом делопроизводстве справлялся, и в сыскное опять ездил, и в охранное, нет нигде.
– Так в чем же сюрприз?
– Сюрприз в том, что ваше предположение, Сергей Васильевич, оказалось и на этот раз правильным. Вы мне заодно приказали узнать, не соответствует ли тот отпечаток, что остался на бутылке, кому-либо из людей, производивших дознание. Я съездил на Офицерскую и выяснил: так и есть! Рука околоточного Шаврова, Сергей Васильевич!
Федосьев вдруг залился несвойственным ему веселым смехом.
– Не может быть!
– Рука Шаврова, никаких сомнений… Эти подлецы еще сто лет будут производить дознание, и так их и не научишь, что ничего трогать нельзя. Да, околоточный тронул бутылку. Я лично его допросил, и он, каналья, сознался, что, может, и вправду тронул.
– Так околоточный? – проговорил сквозь смех Федосьев. – Вот тебе и дактилоскопия!
– Он самый, Сергей Васильевич, уж я его, бестию, как следует отчитал, – сказал, радостно улыбаясь, секретарь.
– Я так и думал, – проговорил Федосьев. – Торжество науки, а? Последнее слово… А следователь-то… – Он опять залился смехом. – Либеральный Николай Петрович Яценко, а?
– В калошу сел Яценко, это верно. Ему первым делом бы надо об этом подумать – не полиция ли?
– Да ведь и нам… И нам не сразу пришло в голову!
– Вам, однако, пришло, Сергей Васильевич… Нет, что ни говори, отстали мы от Европы.
– А почем вы знаете, верно, и в Европе так. И то сказать, как производить дознание, ни к чему не прикасаясь? Они не духи… Не духи же они… Вы взяли оба снимка?
– Взял. Заключение эксперта: совершенно тождественны.
– Так, так, так… Ну, хорошо, – сказал, перестав наконец смеяться, Федосьев. – Больше ничего?
– Сергей Васильевич, меня все в счетном отделе спрашивают, как выписывать жалованье Брюнетки?
– Брюнетки? – переспросил Федосьев и задумался. – Об этом я, вероятно, завтра скажу.
– Слушаю-с. Не буду вам мешать.
Петр Богданович вышел, сияя счастливой улыбкой. Федосьев в раздумье взялся было за ручку телефонного аппарата и остановился в нерешительности.
«Если попросить Яценко приехать ко мне, он, пожалуй, вломится в амбицию. Независимость суда… Судебные уставы… Недопустимое вмешательство административных властей, – устало подумал он. Федосьев мысленно заключал в кавычки все такие слова. – Ну, что ж, поедем к нему…»
Он снова позвонил и приказал подать автомобиль.
VII
В этот поздний час в здании суда уже было пустовато и скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следователе, стараясь не обращать на себя внимание, Федосьев поднялся по лестнице и столкнулся с Кременецким, который выходил из коридора с Фоминым, оживленно с ним разговаривая. Семен Исидорович значительно толкнул в бок Фомина и раскланялся с Федосьевым – они были знакомы по разным ходатайствам Кременецкого за подзащитных. Фомин тоже с достоинством поклонился, оглядываясь по сторонам. Столкнулись они так близко, что Семен Исидорович счел недостаточным ограничиться поклоном. Знакомство с Федосьевым было и лестное, и вместе чуть-чуть неудобное. Его знали все выдающиеся адвокаты; близкое знакомство с ним было бы невозможным, однако совершенно не знать Федосьева тоже было бы неприятно Семену Исидоровичу.
– В наших палестинах? – подняв с улыбкой брови, спросил Кременецкий, не говоря ни «вы», ни «ваше превосходительство», как он не говорил ни «вы», ни «ты» своему кучеру. Семен Исидорович, впрочем, тотчас пожалел, что употребил слова «наши Палестины» – в связи с его еврейским происхождением они могли подать повод к шутке.
– Как видите… Ведь кабинет прокурора палаты там, дальше?
– Прямо, прямо, вон там…
– Благодарю вас… Мое почтение, – сказал, учтиво кланяясь, Федосьев и направился в указанном ему направлении.
– Говорят, конченый мужчина, – радостно заметил вполголоса Семен Исидорович. – Может теперь на воды ехать, мемуары писать.
– Il est fichu![44]44
Конченый! (фр.)
[Закрыть] Я из верного источника знаю: мне вчера вечером сообщили у графини Геденбург… Elle est bien rensejgnée[45]45
Она хорошо осведомлена (фр.)
[Закрыть], – сказал Фомин; при виде сановника он как-то бессознательно заговорил по-французски.
– А все-таки, что ни говори, выдающийся человек.
– Ma foi, oui… Еще бы, – перевел Фомин, вспомнив, что Сема не любит его французских словечек.
– Я очень рад, что эта клика останется без него. Все мыслящее вздохнет свободнее…
– Ваше превосходительство ко мне по делу Фишера? – спросил Яценко, с некоторой тревогой встретивший нежданного гостя.
– Да, по этому делу… Вы разрешите курить? – спросил Федосьев, зажигая спичку.
– Сделайте одолжение. – Яценко пододвинул пепельницу. – Должен, однако, сказать вашему превосходительству, что со вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я уже отослал производство товарищу прокурора Артамонову.
Федосьев, не закурив, опустил руку с зажженной спичкой.
– Вот как? Уже отослали? – с досадой в голосе спросил он. – Я думал, вы меня предупредите.
– Отослал, – повторил сухо Яценко, сразу раздражившись от предположения, что он должен был предупредить Федосьева. – Последний допрос обвиняемого дал возможность установить весьма важный факт: связь Загряцкого с госпожой Фишер. Загряцкий сам признался в этой связи, и очная ставка, можно сказать, подтвердила его признание. Вашему превосходительству, конечно, ясно значение этого факта? Без него обвинение висело в воздухе, теперь оно стоит твердо.
– Стоит твердо? – неопределенным тоном повторил Федосьев.
– Так точно. – Николай Петрович помолчал. – Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который ваше превосходительство проявляли к этому делу. Во всяком случае, теперь, если вы продолжаете им интересоваться, вам надлежит обратиться к товарищу прокурора Артамонову.
– Что ж, так и придется сделать, – сказал Федосьев. – Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал, теперь формальности будут сложнее.
– Формальности? – переспросил с недоумением Яценко.
– Формальности по освобождению Загряцкого из этого тяжелого дела, – сказал медленно Федосьев, заботливо стряхивая пепел с папиросы. – Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович, что с самого начала следствие ваше направилось по ложному пути. Загряцкий невиновен в том преступлении, которое вы ему приписываете.
– Это меня весьма удивило бы! – сказал Яценко, Его вдруг охватило волнение. – Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова.
Федосьев, по-прежнему не глядя на Николая Петровича, втягивал дым папиросы.
– Полагаю, ваше превосходительство, я имею право вас об этом спросить.
– В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам ответить. Однако при всем желании я другого выхода не вижу… Да, Николай Петрович, вы ошиблись. Загряцкий не убивал Фишера и не мог его убить, потому что в момент убийства он находился з другом месте… Он находился у меня.
Наступило молчание. Яценко, бледнея, смотрел в упор на Федосьева.
– Как прикажете понимать ваши слова?
– Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их надо понимать так, что Загряцкий – наш агент, Николай Петрович. Агент, приставленный к Фишеру по моему распоряжению.
Снова настало молчание.
– Почему же ваше превосходительство только теперь об этом сообщаете следствию? – повысив голос, спросил Яценко.
Федосьев развел руками.
– Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете, Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится Загряцкий, у нас равносильна гражданской смерти. Лучшее доказательство то, что он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным сказать вам, где он был в вечер убийства. Не счел возможным сказать, откуда он брал средства к жизни… Разумеется, это вещь поразительная, что у нас люди предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту… Это будет памятником эпохи, – со злобой сказал он. – Но это так, что ж делать?
– Ваше превосходительство, разрешите вам заметить, что интересы этого господина, служащего, как вы изволили сказать, государству, не могут иметь никакого значения сравнительно с интересами правосудия!
– Пусть так, но принципы, которыми руководятся люди, управляющие государством, имеют некоторое значение. Мы воспитаны на том, что выдачи сотрудников быть не может.* А вы, как следователь, не имели бы возможности, да, пожалуй, и права хранить в секрете роль Загряцкого. Ну, человек пять вы уж непременно должны были бы посвятить в это дело. А какой же секрет, если о нем будут знать пять добрых петербуржцев? Это все равно что в агентство «Рейтер» передать… Нет, я до последней минуты не мог ничего вам сказать, Николай Петрович. Я ведь рассчитывал, что в силу естественной логики вещей невиновного человека следствие и признает невиновным. Но вышло не так… Опять скажу: что ж делать! Бывает такое стечение обстоятельств. Оно бывает даже чаще, чем я думал, хоть, поверьте, я никогда не обольщался насчет разумности этой естественной логики вещей…
[46]46
Столкновения между интересами правосудия и принципами высшей политической полиции действительно иногда происходили в России (как и в других странах) и порою приобретали чрезвычайную остроту. Департамент полиции строго стоял на том, что он и в случае такого столкновения не должен выдавать своих сотрудников. Полковник Мясоедов (впоследствии столь известный благодаря дуэли, процессу и казни) был в свое время уволен в отставку за то, что счел возможным на суде сообщить о принадлежности какого-то лица к охранному ведомству. Бывали и редкие исключения. Так, например, в пору процесса Бейлиса после долгих колебаний, после доклада министру внутренних дел Департамент полиции разрешил начальнику киевского губернского жандармского управления заявить на суде, что Махалин, один из важных свидетелей по процессу, в свое время состоял секретным сотрудником охраны (начальник жандармского управления, однако, этого не сделал). Слова «розыскные офицеры, в смысле выдачи сотрудников, были воспитаны в том, что эта тайна должна умереть вместе с ними: они не могли ее открыть» принадлежат одному из самых выдающихся руководителей политической полиции России, с которым, впрочем, не имеет ничего общего Федосьев, фигура полусимволическая и вымышленная. Принцип безусловного хранения такого рода тайн, по-видимому, проводится органами высшей политической и военной полиции при любом государственном строе. Ему одинаково следовали и Третье отделение, не опубликовавшее записки Бакунина (хотя оно, конечно, могло нанести весьма тяжкий моральный удар знаменитому революционеру), и республиканские власти Германии, они, как известно, до сих пор ничего не сообщили о сношениях некоторых большевистских вождей с немецким генеральным штабом во время войны (хотя опубликование соответственных документов могло бы быть весьма выгодно германским правящим кругам). (Автор.)
[Закрыть]
Яценко встал и прошелся по комнате. Он был очень бледен. «Нет, я ничем не виноват, – подумал Николай Петрович, – мне стыдиться нечего!..»
– Я остаюсь при своем мнении относительно действий вашего превосходительства, – сказал он, останавливаясь, (Федосьев снова слегка развел руками.) – Но прежде всего я желаю выяснить факты. Значит, в вечер убийства Загряцкий находился у вас, в вашем учреждении?
Федосьев улыбнулся не то наивности следователя, не то его тону.
– Со мной, но не в моем учреждении, – ответил он, подчеркивая последнее слово. – С секретными сотрудниками я встречаюсь на так называемой конспиративной квартире. Они ко мне ходить не могут, это азбука.
– По каким причинам вы приставили к Фишеру агента?
– Я не буду входить в подробности… Впрочем, я сообщил вам при первом же нашем разговоре, почему я считал себя обязанным следить за Фишером… Он вдобавок, как вы догадываетесь, не единственный человек в России, находящийся у меня на учете.
– Значит, и письма госпожи Фишер к мужу Загряцкий читал по предписанию вашего превосходительства?
Федосьев посмотрел на следователя.
– Я предписываю установить наблюдение за тем или другим лицом, и только. Техника этого наблюдения лежит на ответственности агента и его непосредственного начальства, меня она не касается… Загряцкий мог и переусердствовать.
– Да… Вот как… – сказал Яценко. Он вернулся к столу и снова сел в кресло. Волнение его все усиливалось. – Кто же убил Фишера? – вдруг негромко, почти растерянно спросил он.
– Этого я не могу знать.
– Однако вы заинтересовались ведь этим делом не только для того, чтобы выгородить вашего агента?.. Да, ведь вы тогда меня спрашивали, оставил ли завещание Фишер, – сказал, вспомнив, Яценко. Он вдруг потерял самообладание. – Ваше превосходительство, я решительно требую, чтобы вы перестали играть со мной в прятки! Я прямо вас спрашиваю и прошу мне так же прямо ответить: вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?
– Это одно из возможных объяснений, – помолчав, ответил Федосьев. – Но уверенности у меня никакой не было и нет… Я действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами.
– Революционерами? – с изумлением переспросил Яценко. – Какими революционерами?.. Зачем революционерам было убивать Фишера?
– Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери, которая, как вы знаете, связана с революционным движением.
Яценко продолжал на него смотреть, вытаращив глаза.
– Позвольте, ваше превосходительство, – сказал он. – Можно думать что угодно о наших революционерах, я и сам не грешу к ним симпатиями, но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтоб завладеть его состоянием!.. Ваше подозрение совершенно неправдоподобно! – сказал он решительно.
– Я, напротив, думаю, что оно вполне правдоподобно, – холодно ответил Федосьев. – И позволю себе добавить, что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше или даже чем мнение всей нашей либеральной интеллигенции, как-никак я посвятил этому делу всю свою жизнь. Вы спрашиваете: когда же революционеры делали такие вещи? Я отвечаю: за ними значатся гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве Шмидта? Известны ли вам дела террористов в Польше? О кровавой субботе не слышали? Об экспроприации на Эриванской площади? О лбовской организации?.. Я вам вкратце напомню…
Он заговорил, входя в подробности зверств, убийств, грабежей. Яценко смотрел на него сначала с недоумением, потом с некоторой тревогой.
– …А Горинович, которого облил серной кислотой один из их самых уважаемых, иконописных вождей? А анархист-террорист Шпиндлер, прежде обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных изданиях? А тот – как его? – что переоделся в офицерскую форму и оскорбил действием германского консула: нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с извинениями генерал-губернатор, которого они по дороге собирались убить? А кишиневская группа «мстителей»? А дондангенские «лесные братья»? А московская «Свободная коммуна»? Не помните? Разрешите напомнить…
Обычно холодный и бесстрастный, Федосьев говорил возбужденно, увлекаясь все больше, точно этот счет чужих преступлений, это мрачное свидетельство жестокости людей, с которыми он вел борьбу, доставляли ему наслаждение. Он все валил в одну кучу: и подонки революции, и ее вожди – все точно были для него равны.
– …А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые за компанию с министрами и генералами убивают с ангельски невинным, мученическим видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей, что затем нисколько им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик! Всегда ведь можно найти хорошие успокоительные изречения: «лес рубят, щепки летят», «любовь к ближнему, любовь к дальнему», правда? Они и в Евангелии находят изречения в пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из Священного писания… Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу, но сами на счет партийной кассы живут, и недурно живут! Грабят и убивают одних богачей, а деньги берут у других – дураков у нас, слава Богу, всегда было достаточно!.. Двойная бухгалтерия, очень облегчающая и облагораживающая профессию… Из убийств дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, неученых, ни в чем не повинных людей перебили, как кроликов… Да что говорить! Нет такой гнусности, перед которой остановились бы эти люди… Они нас называют опричниками! Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы, да еще в отличие от нас па словах так и дышат человеколюбием. Дай им власть, и перед их опричниной не то что наша, а та, опричнина царя Ивана Васильевича, окажется стыдливой забавой!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.