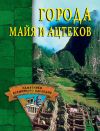Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"

Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
22. Эдип
Эдип появляется в корпусе текстов Гандельсмана несколько раз. В 1998 году он опубликовал сборник под названием «Эдип», что уже указывает на значение этой фигуры для его поэзии. Фигура эта, однако, предстает в неожиданном виде. Один из текстов, где он фигурирует, начинается так: «Тихий из стены выходит Эдип…» (PC, c. 108). Этот выходящий из стены тихий человек – Эдип до отцеубийства и инцеста с матерью. Он выходит на «озаренную арену», готовясь играть отведенную ему мифом роль, и смотрит на сфинкса, который еще совсем не тот сфинкс, что позже будет задавать ему загадки, это сфинкс-вещунья: «с озарённой арены он смотрит ввысь, / как плывёт по небу вещунья-сфинкс, / смертный пот его ещё не прошиб» (РС, 108). Эта версия отсылает не к Софоклу, а к Павсанию, который сообщает, что «Сфинкс является побочной дочерью Лая», то есть сестрой Эдипа, и «что Лай из-за любви к ней сообщил ей тайну изречения дельфийского бога, данного Кадму. Кроме царей, никто не знал этого вещания. Когда кто-либо приходил к Сфинкс, претендуя на власть, – а у Лая от наложниц было много сыновей, изречение же дельфийского бога было известно только Эпикасте и детям, рожденным ею, – то Сфинкс хитро обращалась к нему как к своему брату с вопросом: знает ли он, если он сын Лая, божье слово, данное Кадму. Так как они не могли ответить на это, то она наказывала их смертью под предлогом, что они незаконно претендуют и на происхождение и на власть. Эдип же пришел к ней, получив во сне откровение и истолкование этого божьего слова»[334]334
Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. СПб., 1996. Т. 2. Книги V–X. С. 293. Эпикаста – другое имя Иокасты.
[Закрыть].
Уильям Реджинальд Халлидей показал, что величайшая секретность предсказаний и всего связанного с пророчеством была связана с тем, что сама эффективность пророчества зависела от знания о нем. Оно «должно быть формально признано реципиентом, если оно призвано оказать то благотворное влияние, которого он от него ждет, а потому искусство гадания не может ограничиваться только утверждением предопределенного факта. Пророчества или приметы – это потенциальные силы; жрец должен направить будущее <…> и сказать клиенту, что произойдет»[335]335
Halliday W. R. Greek Divination. A Study of its Methods and Principles. London, 1913. P. 53.
[Закрыть].
Невинный Эдип, смотрящий в небо и еще не знающий тайного слова, пребывает как бы в состоянии до судьбы и до словесности. Судьба начнется тогда, когда слова будут сказаны. Пока что в стихотворении Эдип воплощает незнание: «чище плоти яблока его мозг» (РС, с. 108), и входит он в мир вместе с его (мира) рождением:
Ты сюда явился запомнить взрыв
вещества, которым и образован сам,
в чистом виде равный своим слезам,
ни единой тайны стоишь не раскрыв.
В белом еще обнявшихся нет сестер —
дочерей, и мать еще не жена,
и себя не уговаривает: «жива» —
жизнь, и дышит дышит дышит в упор
(РС, с. 108).
Во втором тексте того же сборника снова упомянут Эдип-ребенок («Но Эдип еще ребенок. Царь»; РС, с. 113). Это Эдип, еще не знающий пророчества о собственной судьбе, еще не убивший отца и не согрешивший с матерью, и это, что очень существенно, Эдип до встречи со Сфинксом.
В чем заключается невинность Эдипа, чего он не знает? Прежде всего он не знает, к какому роду он принадлежит, в какую генеалогию он вписан. Надо сказать, что история Эдипа – эта история семьи, династии и генеалогии par excellence. Лоуэл Эдмундс указывает на то, что Эдип – один из немногих героев с длинной генеалогией, распространяющейся на четыре поколения, притом что в версии Софокла и Фрейда мы имеем генеалогию, урезанную до двух поколений[336]336
Edmunds L. Oedipus. London-New York, 2006. P. 13–16.
[Закрыть]. Дед Лапдак фигурирует в древних эпических сказаниях, в которых действует Эдип. История фиванской династии Лапдакидов была сюжетом многих произведений, начиная с архаики. История Эдипа вписывается в эту традицию и связана с историей войны за фиванский престол, которая относится к числу наиболее значимых (вместе с Троянской) войн мифической античности.
Невинность Эдипа – его незнание родословной. Роль Сфинкса в этой истории любопытна. С одной стороны, Сфинкс, опустошающий Фивы, знает о генеалогии Эдипа и препятствует его появлению в Фивах, с другой стороны, изгнание или умерщвление Сфинкса Эдипом и предопределяет его возвращение в рамки собственного рода и кровосмесительный брак с Иокастой, которую он вместе с престолом получает как вознаграждение за избавление города от чудовища. Сфинкс оказывается инструментом перверсной инкорпорации Эдипа внутрь собственной генеалогии.
Но почему это включение в семью, из которой он был изгнан в адамическую невинность, столь существенно? Невинный Эдип выход из «стены», которая отделяет знание от незнания. Клод Леви-Стросс в известном структурном анализе мифа об Эдипе поместил его основные мотивы в таблицу и, рассмотрев ее, пришел к мнению, что «все события, объединенные в первой колонке слева, касаются кровного родства, причем значение его преувеличено, то есть отношения между родственниками более близкие, чем это допускается социальными нормами. Итак, сделаем допущение, что общая черта всех событий, приведенных в первой колонке, – это переоценка (гипертрофия) родственных отношений. Тогда во второй колонке представлены те же отношения с обратным знаком, что можно определить как недооценку или обесценение отношений родства»[337]337
Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 223–224.
[Закрыть].
Антрополог обнаруживает в мифе и иные полярности. Так, например, мотивы сфинкса и хромоты, по его мнению, отсылают к мифу о происхождении греков из земли – автохтонности. А иные мотивы, наоборот, свидетельствуют об отрицании автохтонности. Эта взаимоисключающая пара говорит о сложности для общества, исповедующего автохтонность, перейти к мысли, что каждый из нас рожден от союза мужчины и женщины. В итоге Леви-Стросс приходит к парадоксальному выводу, «что два противоречивых отношения идентичны друг другу в той мере, в которой каждое из них противоречит самому себе. <…> Oтсюда становится очевидным следующее соотношение: переоценка кровного родства существует в обществе наряду с его недооценкой; стремление отвергнуть автохтонность существует наряду с невозможностью это сделать»[338]338
Там же. С. 226.
[Закрыть].
Эдип оказывается на пересечении этих мифических линий, одна из которых толкает в сторону поглощения генеалогией предков, а другая – в сторону отрицания семейных родословных. В одном из стихотворений Гандельсмана об Эдипе-ребенке читаем: «…говорю: земли сырые комья / и небес встречаются в реке» (РС, с. 113). Река – вода – это место встречи земли (обычно идентифицируемой с женским началом) и неба (мужского начала). Река – место их слияния, а из воды рождается рыба-Адам.
То, что генеалогия – центральная проблема Эдипа, видно и из иного стихотворения Гандельсмана, в котором фигурирует маленький Эдип в Коринфе, во дворце своего приемного отца, царя Коринфа Полиба. Стихотворение начинается с реплики Эдипа, покидающего Коринф: «Вернуться в этот город? Нет, избавь». И далее следует объяснение Эдипом причины его ухода из дома приемных родителей:
<…> Я помню, как Полиб
бежит за сопляком, как тот: «Подкидыш!» —
кричит мне, исторгающему всхлип…
Ты подтвердишь родство? И справку выдашь?
<…>
Полиба нет? Мать потеряла речь?
Я знаю, но тебя не слышу, нимфу…
Хоть неоткуда более извлечь
свидетелей, – не подойду к Коринфу
(РС, с. 114).
У Гандельсмана Эдип уходит от навязчивой идеи родословной и родства, чтобы ввергнуть себя в еще более гнетущую генеалогическую паутину.
Погружение Эдипа в генеалогию – это способ перевода мифического в область логоса. И всюду, где любой жест творения или порождения включается в генеалогические цепочки, мы имеем дело с переводом мифа в логос. Узенер пытался показать, что боги происходят не друг от друга, а от событий и повторений. Мари Делькур в 40-е годы XX века (как мне кажется, под влиянием Узенера, на которого она ссылается) попыталась изъять Эдипа из генеалогий. Для этого она утверждает невозможность мыслить некоего первичного Эдипа, подверженного последующим переосмыслениям и трансформациям. Такую последовательность она отождествляет с генеалогией. Она пытается вывести Эдипа из совокупности событий, «сначала анонимных и неустойчивых, затем сгруппированных воедино и в конечном счете собранных в некую индивидуальность. <…> Не существует первичного Эдипа (Il n’y a pas d’Œdipe primitif). Первичны темы, вступающие в сочленения друг с другом и становящиеся жестами Эдипа, потом его жизнью и, наконец, его характером»[339]339
Delcourt M. Œdipe ou la légende du conquérant. Paris, 1981. P. 32–33.
[Закрыть]. Эдип возникает, подобно Sondergötter Узенера, через группировку и повторяемость событий и обстоятельств.
В 1930-е лорд Рэглан, анализируя миф об Эдипе, с изумлением обнаружил «сходство многих событий в нем с событиями в историях Тесея и Ромула»[340]340
Lord Raglan. The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. London, 1949. P. 177.
[Закрыть]. Он разбил мифологические нарративы на мотивы и составил таблицу 22 мотивов, входящих в огромное количество мифов о героях. Большинство мотивных компонентов истории об Эдипе были обнаружены в рассказах о Тезее, Ромуле, Геракле, Персее, Ясоне, Беллерофонте, Пелопе, Асклепии, Дионисе, Аполлоне и Зевсе. Рэглан пришел к выводу, что имя героя – Эдипа среди прочих – это просто обозначение конфигурации мотивов и событий, которые никак не складываются в генеалогии.
Задолго до Рэглана сходную работу по сопоставлению мифов о героях предпринял психоаналитик Отто Ранк, который также разбил миф на мотивы и сопоставил их[341]341
О сходстве между Рэгланом и Ранком см.: Бэском В. Мифо-ритуальная теория // Обрядовая теория мифа / Сост. А. Ю. Рахманина. СПб., 2003. С. 133–156. В этой же книге имеются переводы текстов Рэглана на русский язык.
[Закрыть]. Само слово «комплекс» (неохотно позаимствованное у Юнга), связанное с именем Эдипа, указывало на комплексную конфигурацию мотивов, покрываемых этим именем. Джон Форрестер, проследивший мучительный путь становления эдипова комплекса у Фрейда, показал, что уже при анализе случая Доры Фрейд вышел за рамки простого семейного треугольника (отец-мать-дочь) и включил в семейные отношения иных персонажей. В итоге складыванию идеи комплекса предшествовало ощущение избыточного множества взаимодействующих и противоречивых элементов. Форрестер пишет о том, что эта избыточная множественность «не может не напомнить нам одного из любимых Фрейдом анекдотов, касающегося соседа, который вернул позаимствованную им кастрюлю с дыркой и сопроводил ее серией взаимоисключающих объяснений, указывающих на то, что винить следует кого угодно, но только не того, кто взял кастрюлю…»[342]342
Forrester J. Language and the Origins of Psychoanalysis. London-Basingstoke, 1980. P. 84.
[Закрыть]
Комплекс – слишком сложен и противоречив, чтобы вписываться в генеалогии. Упомянутый мной Отто Ранк вообще пришел к мнению, что Эдип не столько говорит о родословных, сколько постоянно сворачивается «назад», к самому моменту происхождения, а вовсе не разворачивается «вперед», в сторону потомков и будущего. Ранк описывает этот миф в категориях обращенности к «таинственному вопросу о происхождении», игнорирующему генеалогии: «За сагой об Эдипе стоит таинственный вопрос о происхождении и судьбе человека, который Эдип хочет решить не интеллектуально, а непосредственно возвращаясь в материнское лоно. Все это происходит полностью в символической форме, так как его слепота в глубинном смысле представляет возвращение в темноту материнского лона, а его финальное исчезновение в расщелине скал и в подземном мире еще раз выражает то же желание вернуться внутрь матери-земли»[343]343
Rank O. The Trauma of Birth. New York, 1952. P. 43. Отчасти этот символизм Эдипа взят Ранком у Карла Абрахама, который первый указал на вагинальный смволизм расщелины в земле, в которой пропадает Эдип. Это особенно любопытно на фоне утверждения Абрахама, что миф об Эдипе относится к небольшой категории мифов, которые говорят о желаниях «совершенно открыто, без всяких символических облачений…» (Abraham K. Clinical Papers and Essays on Psycho-Analysis London, 1979. P. 161).
[Закрыть].
23. Инцест
Инцест в такой перспективе оказывается принадлежащим не пробдлематике родословной, но выражением стремления покончить с родословными и вернуться в состояние до рождения. Инцест – это миф воскрешения себя, а не производства себе подобных: «Это воскрешение связывается с кровосмесительным желанием при помощи старой и типичной фантазии, изображающей смерть как возвращение в утробу матери, как продолжение существования бывшего до рождения. По этой же причине принесенные в жертву боги до их воскрешения сохраняются в пещере, часто омываемой водой; эта пещера символизирует утробу матери и часто используется в том же смысле уже в истории рождения бога. Таким путем религиозная фантазия с помощью выросшей из либидо к матери символики создает типичный образ принесенного в жертву и вновь ожившего божества; базисом этого образа служит фантазия о кровосмесительном воскрешении из собственной матери (Юнг)»[344]344
Ранк О. Миф о рождении героя. М., 1997. Цитирую по электронной версии без пагинации. Пер. А. П. Хомик, М. Кобылинской. О генезисе и смысле исследований инцеста Ранком см.: Rudnytsky P. L. Reading psychoanalysis: Freud, Rank, Ferenczi, Groddeck. Ithaca-London, 2002. P. 58–85.
[Закрыть].
Тема возвращения в утробу как возрождения получила любопытнай поворот у Эйзенштейна, ссылавшегося, кстати, на Ранка. Как и Ранк, он считал фантазию возвращения в материнское лоно важной для художественного творчества, преодолевающего в образах первичной гармонии противоречия, которые невозможно примирить. Эта первичная гармония, вслед за Ференци, ассоциировалась им с водой и с огнем – первичными стихиями[345]345
Он даже финал «Броненосца „Потемкин“ интерепретировал через метафору „моря, обнимающего броненосца, обнимающего матросский коллектив“…» (Eisenstein S. Die Methode. Band 3 / Herausgegeben und kommentiert von Oksana Bulgakowa. Berlin, 2008. С. 948).
[Закрыть]. Эйзенштейн в своих заметках об Эдипе говорит о неясности поисков Эдипом отца и даже по аналогии с материнским инцестом говорит о «возврате в отца». Эйзенштейн предлагал понимать этот поиск в двух неразделимых измерениях: биологическом и социально-историческом: «Биологически же – поиски отца – то же самое, что и поиски матери (возврат в womb), но еще глубже – ведь „истинный“ первичный и самый глубокий исход из другого в жизнь есть… выход из отца (через мать!!!) на свет божий. Also раз допустивши, что есть Mutterleibrückgangstendenz [тенденция к возвращению в утробу], – мы должны допустить и эту еще более глубокую тенденцию»[346]346
Там же. С. 720.
[Закрыть]. При этом убийство понимается Эйзенштейном как особая форма инцеста: «другого средства, кроме этого „углубления“ в отца»[347]347
Там же. С. 721.
[Закрыть], не существует.
Убийство отца освобождает сына от отцовской тирании, открывает путь из регрессии в прогресс, и вместе с ним в пространство исторического и социального. Эйзенштейн пишет: «Так линия Vaterversenkung дает рудименты перипетий социального бытия, как Mutterversenkung – перипетии биологического бытия (когда они оба не патологичны, а повернуты переносно вперед)»[348]348
Там же. Речь идет о «погружении в мать» и «погружении в отца».
[Закрыть]. На место убитого может быть поставлено суперэго, или фигура политического вождя, учителя и т. д., то есть социальная фигура.
В фигуре Эдипа мы и имеем сплетение инцеста, разрушающего социальное, и тираноборчество, открывающее социальное, то есть языковое. Для понимания такой фигуры мне кажется разумным прибегнуть к двум эпистемологическим метафорам. Одна из них кажется очень далекой от темы мифа. Это метафора «актора», развернутая Бруно Латуром в рамках системной модели общества. Актор у Латура, в отличие от вульгарного его понимания у социологов или политологов, это «не источник действия, а движущаяся цель обширной совокупности сущностей, роящейся в его направлении»[349]349
Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 68. Пер. И. Полонской.
[Закрыть]. Эта странная «совокупность сущностей», избегающих внятности и определения, позволяет Латуру интерпретировать актора через ближайшую к нему фигуру – актера: «Использовать слово «актор» («актер») означает, что никогда не ясно, кто или что действует, когда действуем мы, – ведь актер на сцене никогда не играет один. Действие-игра сразу же помещает нас в ситуацию полной неразберихи, в которой вопрос о том, кто, собственно, действует, становится неразрешимым»[350]350
Латур Б. Пересборка социального… С. 68.
[Закрыть].
И действительно, если Эдип – это фигура регрессии и прогресса одновременно, то трудно определить мотивы его поступков. Кроме того, в отличие от фрейдовских пациентов, Эдип не испытывает влечения к матери – он получает ее вместе с троном в награду и не знает, что Иокаста его мать. Он и отца убивает вне всякой ревности, так как не знает, что это его отец. Эдип действует, но движущие им силы лежат как бы вне его сознания, воли и намерений. Латур поясняет: «…само слово „актор“ („актер“) направляет наше внимание на совершенную смещенность действия, предупреждая нас, что это не слаженное, контролируемое, завершенное и ясное дело. Действие уже по определению смещено. Оно заимствуется, распределяется, внушается, подвергается влиянию, управляется, предается, переводится»[351]351
Там же. С. 68–69.
[Закрыть]. Актор подобен Эдипу в инетрепретации Делькур, он – просто имя для совокупности ситуаций. И мне кажется, что вполне разумно перенести это слово из социологии в область мифического мышления и поэзии. Именно в поэзии и мифе действие всегда «уже по определению смещено».
Вторая метафора (хотя и не совсем метафора) принадлежит Мишелю Серру и разработана им частично на материале эдипова мифа. Серр рассуждает о культуре как о сложной системе, соединяющей разнообразные дискурсы и семантические пространства. Путешествие через замкнутые монадные миры Одиссея или Гильгамеша вводит нас в зону культурных топологий, сопрягающих множества. Эти культурные топологии непосредственно связаны с опытом пребывания в мире: «Мое тело (и тут я ничего не могу поделать) погружено не в единичное и специфическое пространство. Оно работает в евклидовом пространстве. Но в нем оно только работает. Оно видит в проективном пространстве; оно трогает, гладит и чувствует в топологическом пространстве; оно страдает в другом, слышит и общается в третьем и т. д., покуда мы захотим перечислять. Евклидово пространство было выбрано для культур, ориентированных на труд каменщика, землемера, архитектора»[352]352
Serres M. Hermes: Literature, Science, Philosophy. Baltimore, 1982. P. 44.
[Закрыть].
Пересечения этих пространств создают определенные точки касания и контактов, которые, например, могут создаваться языком или иной формой коммуникации. Культуры различаются формой и конфигурацией точек контакта, позволяющих наводить мосты, прокладывать пути между радикально различными мирами. Серр говорит о значимости самого понятия «между», о разрывах, трещинах разделяющих культурные универсумы. Эти закрытые миры – отличаются своего рода «чистотой», «невинностью», неким единством принципа, их организующего. А контакты разрушают эту чистоту. Серр поясняет: «А то, что не невинно – incestus, – может быть инцестом. Запрет на инцест (inter-diction) в таком случае – это локальная сингулярность, характерная для подобной операции в целом, для глобального проекта соединения разъединенного, противоположного, открытия закрытого…»[353]353
Serres M. Hermes: Literature, Science, Philosophy. P. 45.
[Закрыть]
Так же как в акторе соединяются импульсы, производимые разными силами и сущностями, так и в фигуре Эдипа воплощается инцест – соединение противоположного и несовместимо. Но что именно соединяется в Эдипе, какие импульсы, существенные для мифа и поэзии?
Дюргейм когда-то высказал предположение, что табу на инцест возникает в рамках «клана» – совершенно особой социальной организации: «…Во-первых, индивиды, которые образуют клан, считают, что их соединяют родственные узы, имеющие, однако, весьма специфическую природу. Данное родство основано не на том, что индивиды обладают определенной кровной связью друг с другом, но лишь на том, что они обладают одним именем. Они – не отцы и матери, сыновья и дочери, дяди и племянники друг по отношению к другу в том смысле, который мы теперь придаем этим словам. Они считают, что составляют единую семью, размеры которой соответствуют размеру клана просто потому, что сообща называются одним словом»[354]354
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М., 2018. С. 182. Пер. А. Апполонова и Т. Котельниковой.
[Закрыть]. Инцест в значительной мере является нарушением этого господства имени, а имя – это нечто, чем потомков и членов клана наделяет отец (или тотем).
Родство в человеческом обществе имеет две стороны – биологическую и символическую. Биологическое родство связано с фигурой матери, а символическое – с фигурой отца. В римском праве pater – это тот, кто провозглашает себя отцом ребенка в жесте его признания, взяв ребенка на руки. Тот, кто дает ребенку собственное имя и тем самым включает его в свою родословную. При этом биологическая связь отступает на задний план перед лицом символической связи, закрепленной в имени. Элизабет Рудинеско так резюмирует сущность отцовства: «Отец – это тот, кто завладевает ребенком, сначала потому, что его семя отмечает тело последнего, а затем потому, что он тот, кто дает имя. <…> Отец является родителем в той мере, в какой он отец слова»[355]355
Roudinesco E. La famille en désordre. Paris, 2002. P. 26–27.
[Закрыть].
Инцест – особенно сына с матерью – разрушает этот символический порядок. И в этом смысле он действительно оказывается способом разрушения «чистоты» патерналистской системы родства, и вписанности в генеалогический и, соответственно, династический логос. В категориях Серра – речь идет именно о положении «между» биологическим и символическим. При этом каждое из этих символических пространств утрачивают свою чистоту. Это положение «между» биологическим и «историческим» у Эйзенштейна. Речь идет о чисто мифическом движении вспять от символического порядка назад, в биологическую утробу матери, от включения в отцовские родословные к освобождению от них в природной стихии, связанной с матерью.
Николь Лоро показала, до какой степени брак и деторождение в Древней Греции мыслились в категориях женщина-земли и ее вспашки (arotos) супругом[356]356
См.: Loraux N. Born of the Earth: Myth and Politics in Athens. Ithaca, 2000. P. 96.
[Закрыть]. С этим представлением связана и проанализированная мифологии автохтонности афинян, то есть рождения из земли. Именно с этой первичной природностью материнства и порывает отцовство, с которым рвет сыновний инцест.
Франсуаза Еритье в своих новаторских исследованиях указала на существование явления, названного ей «инцест второго типа». Речь тут идет не о прямой связи между родителями и детьми, сестрой и братом, но об опосредованной связи, например, двух сестер или сестер и их матери через общего мужчину – отчима, зятя и т. д. Такой инцест, запрещенный во множестве культур, касается принципа неразличимости между родственниками – сестрами, матерью и дочерью, и является кровосмешением через общего сексуального партнера. Главная книга Еритье на эту тему так и называлась: «Две сестры и их мать»[357]357
Héritier F. Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l’inceste. Paris, 1994.
[Закрыть]. Табу на инцест второго типа подвергало запрету связь между родственниками, обладающими тем, что Еритье называет «субстанциальной идентичностью», или «субстанциальным единокровием». Сестры, например, ею обладают, а брат и сестра – в меньшей степени. Такое субстанциальное единокровие основано на циркуляции общих жидкостей – крови, спермы. Оно блокирует дифференциацию в системе родства (то есть возможность социальных иерархий) и тем самым устанавливает диктат неразличимости над системой оппозиций – то есть любой социальной семиотикой. Инцест второго типа недопустим именно потому, что, уничтожая различия, то есть знаковость, он блокирует символическое, тесно связанное с именем и фигурой отца.
В поэзии мотив инцеста вписывается в перспективу сжатости, компрессии и нерасчленимости понятий, обращенности к началу. Мотив инцеста довольно систематически возникает у Гандельсмана именно как образ выхода из универсума имен в область тотальной неразличимости.
…нос к носу два,
оголясь
до последнего, существа
сплошь исходят от ласк,
вкрикивая друг в друга, ища родства…
(РС, с. 309)
В переводе одного сонета Шекспира (135), который первоначально возникает в цикле о Грифцове как перевод Грифцова, Гандельсман позволяет себе вольность и говорит от имени Шекспира, как если бы это имя, отдельное от поэта, было особой сущностью, которую поэт пытается излить в плотском соитии:
Этот же мотив отдельного от любовника имени, которое стремится излить себя в первоначальность[359]359
Смотри, он взмок. Ужели не Уильям? Кто? Вон тот? Уильям грянет ливнем в океан! – Не переполнить? (Там же)
[Закрыть], подчеркнут Гандельсманом и в переводе 136-го сонета: Уильям, по складам меня читай:
Парность – необходимый компонент этих отношений, но в одном случае речь идет о парности эротической (и биологической), а во втором – о символической, в которой возникает имя, или imago (используя язык психоанализа), превращающееся затем в символического двойника. Имя отделяется от его носителя, становясь символической фигурой, вписанной в социальные порядки. Закономерно, что это удвоение ассоциируется с зеркалом.
В том же «Грифцове» есть поразительное стихотворение «В обратной перспективе», в котором мотив зеркала введен в инвертированный миф о блудном сыне. Стихотворение начинает так:
Как-то раз Грифцов лучезарный
в майской комнате со шкафом зеркальным
был застигнут отцом его приходящим,
что от матери жестоковыйной сбегал то и дело,
а потом и вовсе ушёл и года три не являлся.
Он стоял, преклонив колено, спиною к шкафу,
а Грифцов-ребёнок стоял перед ним и видел
отражение их в зеркале неумолимом.
(РС, с. 254)
Зеркало тут не просто удваивает и символизирует, оно и переворачивает. Блудный сын становится блудным отцом, убегающим от «жестоковыйной» (то есть мужеподобной[361]361
В Библии это слово относится в основном к народу, который упрям, или к заблудшим чадам Господа.
[Закрыть]) матери-жены. В отличие от знаменитой рембрандтовской картины, не сын стоит перед отцом на коленях, но наоборот – отец перед сыном. Зеркало меняет их местами. Эта трансформация отца в сына подчеркивается Гандельсманом. Отец пахнет шоколадом, он «ласков» и даже «нежно-розов лицом». Более того, «по правой и левой щеке его поочерёдно / две скатились слезы…» Кончается стихотворение взрослым Грифцовым, стоящим перед «Блудным сыном» Рембрандта:
…он постиг обратную перспективу,
где ребёнок в святом ореоле и светоносном
возвышается над блудным отцом слезливым.
(РС, с. 255)
Грифцов идентифицируется с Христом, который принимает на себя роль отца своего собственного «блудного родителя». И хотя в стихотворении нет темы инцеста, оно разрабатывает тот же тип смешения символических и природных рядов, серровский incestus, который он иронически называет «обратной перспективой».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.