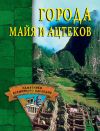Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"

Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
24. Медея
Генеалогическая инверсия соотнесена с поэтикой в чрезвычайно важном тексте Гандельсмана под названием «Миф»[362]362
Гандельсман В. Фрагменты романа / Король лир / Миф. М.: Стеклограф, 2021 (далее: М).
[Закрыть], в основе которого лежит вариация истории Медеи. С самого начала Гандельсман определяет интересующую его тему рождения мысли в перспективе молчания и неразличения. Этот сложный текст (отчасти драма, отчасти поэма, отчасти эссе) начинается со встречи Медеи со своей матерью Идией после смерти Ясона. Исчезновение мужчины – любовника, мужа, отца детей – возвращает дочь к матери, и в этом возвращении обе фигуры становятся неразличимы. Гандельсман говорит о том, что обе женщины летят, «свиваясь в формулу горя»: «Кровная связь женщин подобна тому, как подземное эхо одного дерева переплетается корнями с эхом другого. <…> Любая посторонняя смерть, причиняющая боль, их сближает.
Так тонущий корабль в решительном вертикальном уходе под воду сталкивает лбами шлюпки» (М, с. 96).
Это стягивание двух фигур в первичную неразличимость производит нечто, называемое «мыслью». Мысль генерируется разрушением хронологии, иерархии, любого символического порядка: «Есть закон замешательства, по которому в момент, когда причина и следствие меняются местами, рождается мысль» (М, с. 96). Нечто похожее мы уже видели в «Обратной перспективе», где отец становится сыном, а сын – отцом. Но там не происходит такого слияния, которое возможно при изъятии матери и дочери из мира мужского порядка.
Гандельсман относительно подробно разъясняет суть происходящего. Мысль, чтобы состояться, требует как минимум двоих, но в случае участия мужчины эта парность выливается в слова, возникает язык. В случае двух неразличимых женщин (отмеченных «субстанциальным единокровием») слияние избавляет их от необходимости речи. Коммуникация становится «подземным эхом» чувств: «Ответ Медеи еще стремительнее удаляется от сути к чувству. В вертикальном срезе сцены Идия и Медея образуют энергетическую воронку, в которую втягивается зал, понимающий, что на прямой человеческой сути не сыграешь. Иными словами, – думает зал, – будь мы истинны – что бы от нас осталось? Суть способна говорить только на языке чувств, то есть на языке того, чем она не является, и именно поэтому говорит совершенно другое» (М, с. 97). Смысл, мысль, «суть», как говорит Гандельсман, достигают полноты только тогда, когда они отказываются от слов, в которые по определению укоренены.
Вот как описывает происхождение трагического театра (то есть театра чистого аффекта и скорби) Гандельсман, для которого сам этот театр есть парадоксальное производство слов, замутняющих собственное происхождение в неразличимости и аффекте: «Идия подхватывает слова Медеи и тем самым берет на себя то, что без человека не живет, а в человеке увядает: слова. Затем вступает вновь Медея и т. д., пока диалог не поднимается до молчания. Молчание же существует само по себе, кто бы его ни нарушал. И когда оно своим нерушимым терпением ставит в тупик двоих, появляется третий. Четвертый, пятый, тысячный. Появляется хор» (М, с. 96). Хор – «эхо немоты» – появляется из-за того, что «его удел – тишина, которая себя не выдерживает» (М, с. 97). Это и есть, согласно Гандельсману, момент рождения богов.
Первичная в своей глубине мысль возникает на пересечении антигенеалогического «инцеста» («второго типа», уточнила бы Еретье) дочери с матерью и связанной с ней темы обратимости времени. Гандельсман по поводу слияния дочери и матери замечает: «кровная связь преступна». А воображаемый диалог Идии и Медеи разворачивает эту тему инцестуальной неразличимости:
– Он (Ясон) любил меня как никого никто. —
Так отец тебя только любит. – Отец, отец, да. <…>
Несравненная боль твоя, дочь, остра,
и во мне живет всегда, как зародыш,
тот, что был тобой, до тебя. Мы сестры
боли…
(М, с. 96–97).
Фигура Медеи в этом контексте особенно любопытна, так как в ее магию входила способность омолаживать, обращать время вспять, то есть совершать нечто, запрещенное богами и установлениями космоса. Ясон у Овидия просит Медею омолодить его отца, передав ему часть молодости самого Ясона:
Если возможно, – но что для чар невозможно
волшебных?
Часть годов у меня отними и отцу передай их».
Слез не сдержала она, сыновним тронута чувством,
Вспомнила чувства свои, отца, что ею покинут.
Сердца, однако, она не раскрыла и молвила: «Муж мой,
Что за нечестье твои осквернило уста? Как могу я
Переписать часть жизни твоей на другого? Гекаты
Соизволенья не чай, не должного просишь[363]363
Публий Овидий Назон. Метаморфозы (7, 166–174). М., 1977. С. 173.
[Закрыть].
Но возвращение к матери после смерти Ясона тоже оказывается способом инверсии времени: «Медея припадает к груди матери. Мать шепчет какие-то заклинания, и на мгновение кажется, что она с грудным ребенком на руках» (М, с. 98).
С легкой руки Еврипида Медея в нашем сознании ассоциируется с убийством собственных детей, которые одновременно являются детьми Ясона. Медея – воплощает какой-то яростный бунт против идеи человеческого родства и генеалогий. Она убивает собственного брата Апсирта. Она убивает своего свекра и отца Ясона, Пелия, с помощью его собственных дочерей. Медея так описывает Ясону эту серию отказов от семейных уз:
Расставшись с Ясоном и получив убежище в Афинах, Медея выходит замуж за афинского царя Эгея, который женится на ней, считая, что ее колдовские чары смогут принести ему потомство. Она просит Эгея об убежище, одновременно обещая ему потомство[365]365
Тебя молю: о, сжалься над несчастной Изгнанницей покинутой, прими Ее в страну, ей угол дай. За это Тебе детей желанных ниспошлют Бессмертные и славную кончину. Ты каяться не будешь, и, поверь, Ты не умрешь бездетным. Знаю средства Я верные, чтобы отцом ты стал (711–719; там же. С. 92).
[Закрыть]. Но как только она утверждается в Афинах, она пытается убить старшего сына Эгея, Тесея. К убийству новой жены Ясона она привлекает собственных детей, как она уже использовала дочерей Пелия для убийства их отца. Ради этого она готова оставить своих детей Ясону в Коринфе[366]366
Лишь о детях Его молить я буду, чтобы их Оставили в Коринфе. Не затем Я этого хочу, чтоб меж врагами Оставить их, – но мне убить царевну Они помогут хитростью, чрез них Я перешлю дары ей: пеплос дивный И золотую диадему. Тот Чарующий едва она наденет Убор, погибнет в муках… (779–787; там же. С. 95)
[Закрыть]. После воссоединения спасенного Тесея с Эгеем Медея вынуждена бежать из Афин. Она вылечивает от безумия Геракла, который до этого в насланном на него Герой умопомрачении убивает собственных детей. Но кульминацией становится убийство ею собственных детей, рожденных от Ясона. Медея выступает как некая природная сила, восстающая против родословных, и главным образом против связей детей с отцами.
Убивая детей, Медея пересекает порог человечности и в какой-то момент перестает быть женщиной и матерью:
…жребий
Им умереть теперь. Пускай же мать
Сама его и выполнит. Ты, сердце,
Вооружись! Зачем мы медлим? <…>
Ты, рука
Злосчастная, за нож берись… Медея,
Вот тот барьер, откуда ты начнешь
Печальный бег сейчас. О, не давай
Себя сломить воспоминаньям, мукой
И негой полным; на сегодня ты
Не мать им, нет…»
(1240–1250)[367]367
Еврипид. Медея. С. 113. Сесилия Итон Лашинг в деталях разработала тему нечеловеческой природы Медеи (Luschnig C. A. E. Granddaughter of the Sun. A Study of Euripides’ Medea. Leiden-Boston, 2007. P. 63–84).
[Закрыть]
Ясон в трагедии ясно осознает, что от Медеи исходит угроза отцовству как символическому порядку, укорененному в имени: «Нет, надо бы рождаться детям так, / Чтоб не было при этом женщин, – люди / Избавились бы тем от массы зол» (574–576)[368]368
Еврипид. Медея. С. 84–85.
[Закрыть].
Этому словесному порождению потомства у Гандельсмана противостоит связанный с Медеей мотив тени. Ясон в «Мифе» Гандельсмана – поэт, за которым следуют увлеченные его метрами и ритмами юноши. Вот как описывается у него Явление Ясона, Медеи и аргонавтов, бежавших из Колхиды:
Как внимали тебе, герой, юноши нервные,
подражали, песням твоим вторя, верные,
на измор их море брало, и небо, и ветры, и
то, как мерил ты их стихотворными метрами.
Как вернулся, помним, Ясон, как за тобой по пятам
тенью Медея шла, как разносился славы твоей тамтам,
как хотел нам рукой махнуть, сходя на прибрежный
плёс,
и рука запуталась в водорослях её волос.
(М, с. 100).
Медея следует за певцом и его славой как тень.
В одной из версий мифа Ясон возвращается к Пелию вместе с непохороненной тенью Фрикса, который бежал из Иолка на баране с золотым руном, чтобы избежать принесения себя в жертву[369]369
Сама история с Фриксом связана с попыткой сыноубийства беотийским царем Афамантом и с темой бесплодия, требующего жертвоприношения. Вот как ее рассказывает Аполлодор: «…Афамант, царствовавший в Беотии, породил от Нефелы сына Фрикса и дочь Геллу. После же он женился на Ино, от которой у него родились Леарх и Меликерт. Ино, замыслив недоброе против детей Нефелы, убедила женщин поджарить семенную пшеницу. Те тайно от мужей сделали это, и земля, приняв невсхожие семена, не дала урожая. По этой причине Афамант обратился к дельфийскому оракулу, чтобы узнать, как избавиться от неурожая. Ино убедила посланников сказать, будто оракул гласил, что бесплодие прекратится, если Фрикса принесут в жертву Зевсу» (Аполлодор. Мифологическая библиотека (IX, 1). С. 14. Пер. В. Г. Борухович).
[Закрыть].
У Гандельсмана тень, сопровождающая Ясона, – Медея.
Тень рождается от солнца, Гелиоса, дочерью которого была Медея. И рождается тень без всякого участия слова. Это генерация в режиме молчания. Речь идет не о порождении детей, но о парадоксальной генерации покойников, ведь тень – это ипостась мертвеца в царстве мертвых. Свет порождает тень, но он же ее и уничтожает: «Ясон ступает на родной берег, в лучах славы, и на самом краю изображения различима женщина, – на ней несомненный отблеск его славы, и значит глаза слегка и блаженно прикрыты, а фигура на гордой грани исчезновения» (М, с. 104).
Гандельсман придумывает странный оптический прибор, который он называет «увеличительным стеклом реальности». Это магическое стекло, которое может на какое-то время превращать тень в подобие живого человека. Женщина, тенью следующая за Ясоном, «становится Медеей только сквозь увеличительное стекло реальности» (М, с. 104).
25. Миф как мышление тенями и отражениями
В «Мифе» после смерти Ясона в доме Медеи поселяется некий Александр, который является тенью Ясона и одновременно «заезжим скульптором». Возможно, эта связь с изготовлением изображений отсылает к рассказанной Плинием истории о происхождении изображений из тени. У Плиния в мифе речь шла не столько о живописце, сколько именно о скульпторе: «Лепить из глины портретные изображения первым придумал гончар Бутад из Сикиона, в Коринфе, благодаря дочери: влюбленная в юношу, она, когда тот уезжал в чужие края, обвела тень от его лица, падавшую на стену при светильнике, линиями, по которым ее отец, наложив глину, сделал рельеф и, когда он затвердел, подверг обжигу вместе с прочими глиняными изделиями…»[370]370
Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве (Кн. XXXV, XLIII, 151). М., 1994. С. 108. Пер. Г. А. Тароняна.
[Закрыть]
Александр является Медее одновременно и как человек и как его тень. Он сразу дается в раздвоении и в превращении в собственное изображение. И это одновременное явление тени и изображения сдвигает существо Александра в мир небытия и пространство истоков до всякой физической явленности: «Взгляд Медеи обращен одновременно на Александра и на тень, потому глаза ее смотрят в разные стороны и лицо двойственно: неуловимо анфас и определенно красиво в профиль. Либо: оно прекрасно в любое следующее (но никогда не первое) мгновение. Если бы мы видели только красоту, то сравнили бы ее внешность с птицей, вполне различимой лишь в профиль, в момент движения. Природа Медеи устремлена к до– или пред-существованию: присутствие, говорящее об отсутствии» (М). Изображение в западном искусстве, как правило, говорит об отсутствии того, что изображено.
Мир теневого удвоения – это мир вне генеалогий и порядка имен и слов. Это мир молчания. А тень – не что иное, как производное этого первичного молчания, наступающего в полной слиянности матери и дочери. Самое удивительное свойство тени – это ее странное отношение к сходству. С одной стороны, тень повторяет, воспроизводит человека, а потому по определению кажется сходной с ним. И одновременно тень может быть тенью кого угодно, сходство в ней всегда ненадежно.
Александр ощущает, как его обволакивает тень Ясона и других мертвецов. И это обволакивание меняет движение времени, обращая его вспять к давно минувшему. Тень, отбрасываемая сейчас, становится неотличимой от теней прошлого: «Блуждающий дух самоубийцы становится обитателем комнаты, в чьей темноте, вникая в нее все больше, Александр чувствует, как его омывают волны чужого прошлого, как время Медеи, на пересечении с его временем, вовлекает в то давнее событие, в котором он не участвовал и в котором оказался лишь сейчас» (М). Наличествующее и отсутствующие утрачивают различимость. Ганделььсман описывает странную воронку времени, в которой души умершего и живого обмениваются местами: «…его бесконечность замкнута в пространстве чужой судьбы, ставшей отныне и твоей судьбой <…> Тень юноши, витающая теперь над Александром и Медеей, есть совершенный образ тени Александра, витающей над Медеей и юношей в их прошлом, подобно тому, как соитие, обладающее двойной силой избавления от боли, от прошлого того и другого в единой точке чувственной радости, – образ духовного раскрепощения, и подобно тому, как темнота в театре – отражение полного слияния сцены и зала, в котором происходит зачатие, мысль и освобождение» (М).
Мысль – это не логическое развертывание логоса, но сближение и неразличение идентичностей, позволяющее мыслить в категориях «эквивалентностей». Свет, уничтожающий темноту мифического мышления, прожигает в тени реальность, которая обретая кажущуюся ясность, блокирует понимание: «Свет, отраженный от стен, сходится на Александре и (увеличительное стекло реальности!) выжигает в нем дыру, по краю которой начинают подниматься язычки пламени. В ней подвешен весь мир: мы видим (но уже через уменьшительное стеклышко) тот же интерьер и тех же персонажей, но в такой абсолютной ясности, которая вызывает недоверие» (М).
У Павсания есть описание святилища Деспойны, у выхода из которого висело магическое зеркало: «При выходе из храма справа вделано в стену зеркало; если посмотреться в это зеркало, то свое лицо увидишь в нем или неясно, или совсем не увидишь, но статуи богинь, как самые статуи, так и трон, можно видеть совершенно ясно»[371]371
Павсаний. Описание Эллады (VIII, XXXVII: 4). Т. 2. С. 140.
[Закрыть]. Жан-Пьер Вернан, комментируя этот пассаж, говорит о магическом зеркале, зеркально выворачивающем собственную природу: «Оно опрокидывает собственную естественную роль – отражать видимость, представлять изображение видимых вещей, помещенных перед ним, – и наделяется иной функцией, прямо противоположной: пробить брешь в декоре „феноменов“, сделать видимым невидимое, обнаруживать божественное…»[372]372
Vernant J.-P. Œuvres. Religions, rationalités, politique. Vol. 2. P. 1386.
[Закрыть]
Но у Гандельсмана тени, очевидно принадлежа к разряду симулякров, видимостей, способны в большей степени выводить к сущность, нежели к «абсолютной ясности, которая вызывает недоверие». И эта сущность возникает как результат взаимоналожения множества отражений и теней – настоящих и прошлых. Такая катоптрика тоже представлена у Павсания в его описании святилища Деметры в Патрах: «Тут практикуется верный способ гадания не по всем вопросам, а только по вопросам здоровья. Сюда спускают зеркало, привязав его на тонкую веревку, и, опуская его прямо, стараются не погружать его глубоко в источник, но так, чтобы вода только касалась ободка зеркала. Затем, помолившись богине и совершив воскурение фимиамом, смотрят в зеркало. И оно показывает им болящего живым или мертвым, – настолько правдива эта вода»[373]373
Павсаний. Описание Эллады (VII, XXI: 5). Т. 2. С. 54.
[Закрыть]. Истина тут является в двойственном отражении – сначала в воде, а затем воды в зеркале, и обнаруживается в той мере, в какой отражения зыбятся и искажают друг друга. Погружение в мир теней нарушает устойчивость скульптурного мира Александра: «Его скульптурное видение мира поколеблено: небо треснуло и стало калейдоскопом. Достаточно малейшего дуновения, чтобы рисунок изменился» (М).
Татьяна Бёр замечает по поводу этого фрагмента Павсания: «Помимо прочего, волнующаяся поверхность воды, постоянно искажающая очертания отражения, дополнительно усиливает магический эффект этого устройства. Искажения и визуальная манипуляция принципиально важны для облегчения разделения онтологий реального и отраженного, лежащего в основе использования катоптрики к религиозных технологиях»[374]374
Bur T. Mirrors and the Manufacture of Religious Aura in the Graeco-Roman World // Mirrors And Mirroring from Antiquity to the Early Modern Period / Ed. by Maria Gerolemou and Lilia Diamantopoulou. London-New York, 2020. P. 113.
[Закрыть]. Однако это разделение онтологий – то есть того, что наделено бытием, и того, что относится к софистической сфере, лишенной бытия, – достигается не так легко.
Со времен Платона изображение находится под подозрением как нечто не обладающее подлинным бытием. Анка Вазилиу утверждает (и с ней можно согласиться), что с того момента, как власть «инструментализирует изображения» для своих целей, она подчиняет их языку, «подменяющему собой открытость изображения видимому»: «Это редукционистское использование изображения (характерное, например, для политической власти) в действительности опирается на властные способности языка, в свою очередь редуцируемому к эффекту слова, имени, формулы или девиза. Возможность такого использования восходит к архаическому представлению о близости логоса принципам и причинам, обуславливающей его универсальное, структурное и уникальное участие в мире умопостигаемого»[375]375
Vasiliu A. Dire et voir. La parole visible du «Sophiste». Parsi, 2008. P. 31.
[Закрыть]. Близость истокам (принципам и причинам) отложила в языке следы в виде этимологий, скрытых в морфологии слов и имен. Именно связь с языком позволяет, как пишет Гандельсман, представить «(уже через уменьшительное стеклышко) тот же интерьер и тех же персонажей, но в такой абсолютной ясности, которая вызывает недоверие».
Между тем приближение к мифу позволяет увидеть состояние имен до того момента, когда они входят в доминантное поле логоса и все еще являют себя в первичном мире если не молчания, то множественности отражений и деформаций.
26. Множество в едином
В 1960 году Жан-Пьер Вернан выступил на коллоквиуме «Проблемы личности» с важным сообщением «Аспекты личности в греческой религии». Основной тезис Вернана был сформулирован следующим образом: «Греческие боги – это Силы (Puissances), а не личности. Религиозная мысль откликается на проблему организации и классификации Сил: она различает разные типы сверхъестественных сил, присущую им динамику, их способ действия, их сферы, их ограничения; она различает их сложную игру: иерархию, равновесие, оппозиции, дополнительность. Она не ставит вопроса об их личностном или неличностном аспектах. Разумеется, мир богов не состоит из смутных и анонимных сил; он вбирает в себя ясно обрисованные фигуры, у каждой из которых имеются имя, социальный статус, атрибуты и характерные для них приключения. Но этого недостаточно, чтобы превратить их в единичных субъектов, автономные центры существования и действия, в онтологические единицы, которые мы обнаруживаем за словом „личность“. Божественная сила в действительности не имеет „существования в себе“ („éxistence pour soi“). Она обладает бытием внутри сети отношений, подсоединяющих ее к божественной системе в целом. И в этой системе она может вовсе не являться единичным субъектом, но быть множеством: либо неопределенным, либо исчислимым. <…> Часто замечали, что для обозначения божественной силы грек легко переходит в одной фразе от единственного числа к множественному и наоборот. Точно так же он может представлять Ха-рис как единичное божество, Хариты как неделимое множество сил, в котором нет никакого различия между ними, или как группу трех божеств, каждое из которых до известной степени индивидуализируется и имеет собственное имя»[376]376
Vernant J.-P. Œuvres. Religions, rationalités, politique. Vol. 1. P. 566–567.
[Закрыть]. Божества тут подобны «акторам» в понимания Латура.
Вспомним, что у Узенера сначала возникают боги мгновения, потом особые боги, связанные с повторением одних и те же обстоятельств, и в конце появляются личные боги со своей «биографией» и функциями. Но эти боги с именами лишь небольшой пантеон, возникающий из множества мелких, частных богов, демонов, нимф и т. д., не обладающих устойчивой идентичностью, закрепленной в имени.
Важно и то, что боги входят друг с другом в отношения, в которых возможен обмен качествами и, я бы сказал, «фрагментами идентичности». Я уже упоминал о зеркальном двойничестве Афины и горгоны или Аполлона и Марсия, неожиданно меняющихся местами, – сатир Марсий становится воплощением мудрости и разума, а лирник и бог прекрасного Аполлон становится кровавым мясником. Тот же Аполлон является источником всех бед Эдипа. Речь идет буквально о сближении и неразличении теней-сил.
Одним из первых обратил внимание на группировку сил в пантеонах богов Жорж Дюмезиль, заметивший, что индоевропейские общества, как и их мифология, следуют принципу трехфункциональности и действуют на основании распределения взаимосвязанных функций. Группировка богов (начиная с древнейших ведических гимнов), обнаруженная Дюмезилем, соответствовала трем основным функциям – сакральной (жреческой), военной и экономической, связанной с благополучием и процветанием. Дюмезиль заметил, например, что такой безусловно единичный, суверенный «верховный» бог, как Юпитер, в Древнем Риме изначально не был един: «Наряду с Юпитером, а иногда и смешивая с ним, Рим чтит бога, который дублирует Юпитера в некоторых его Функциях и содержит в своем имени элемент fides, одновременно честность и верность – основы права: Dius Fidius»[377]377
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. С. 114.
[Закрыть]. Фидес, как рассказывает Дюмезиль, был своего рода «полубогом», подобным Гераклу, и функционально отвечая за закон и порядок, был «ближе к человеку», чем иная ипостась этого божественного конгломерата – собственно Юпитера.
Таким образом, возникает важная для Дюмезиля тема божественных двойников, и даже близнецов, которые получают продолжение и отражение в мифах о земных царях, например Ромуле и Нуме: «Ромул и Нума – люди и характеризуются другим: они противопоставлены друг другу как менее человеческий, даже сверхчеловеческий и более человеческий. Ромул, по сути дела, принадлежит в большей части другому миру. Он сын некоего бога, следуя одному из теологических вариантов – Квирина, богом он становится после смерти, получая не только погребальный культ, но и обожествление. Именно уверенность в этом происхождении – основа его веры и в себя самого, и в царя богов. Внешний облик – красота, благородство, сила – с самого начала обнаруживает двойственность его натуры <…> Нума, напротив, самый обыкновенный человек, как все, и, будучи таковым, не испытывает никакого желания заступать место полубога»[378]378
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. С. 120.
[Закрыть].
Герои, как и боги, часто до конца не определены в своем статусе и получают индивидуализирующие характеристики только в оппозиции друг другу, они не обладают индивидуальностью «в-себе». Любопытно в этой связи и то, как описывает Дюмезиль связь близнецов с продолжением рода и установлением устойчивого социального порядка. Так Ромул, явно копирующий громовержца Юпитера, детей не имеет. Он искаженно отражается в Реме и этим исчерпывает свой генеративный импульс: «Ромул либо не знал женщин со времени похищения сабинянок и не имел детей, либо, если это и не так, не дал начало роду, gens, не имел продолжения в потомстве в истории созданного им города. Нyмa же, женатый два раза, признается предком по крайней мере четырех gentes, процветавших в разные века римского величия; даже один плебейский род претендовал на это»[379]379
Там же. С. 121.
[Закрыть].
Эта связь Нумы с генеалогией и бесплодность Ромула представляют для меня особый интерес.
В своей этапной книге «Боги индоевропейцев» Дюмезиль специально исследовал введенное им понятие «первых» и «последних» богов («dieux premiers», «dieux derniers»). В такой перспективе боги вписывались в течение времени и в какой-то мере даже производили само время. В Риме роль «первого» бога играл Янус (отголосок его имении все еще читается в названии первого месяца года – январь), а Весте отводилась функция «последнего» бога. При этом эта способность начинать, присутствовать при всех видах initia у Януса сопровождалась и непосредственной связью с определенными местами (loci), такими, например, как «ворота». Янус понимался как «покровитель всех мест входа и выхода, он являет себя в дверных проемах домов, в истоках и устьях рек»[380]380
Dumézil G. Les dieux des Indo-Européens. Paris, 1952. P. 92.
[Закрыть].
В «Фастах» (I, 126–141) Овидия Янус так говорит о себе, объясняя свою двуликость:
Даже владыке богов вход я и выход даю.
Янус поэтому я. Когда же мне жрец преподносит
В жертву полбенный хлеб, с солью его замесив
(Ты улыбнешься), тогда «Отворителем» я называюсь
Или, по слову жреца, имя «Затворщик» ношу.
Сменою действий моих объясняются эти названья,
Так называли меня по простоте в старину. <…>
В каждой двери ведь есть и одна сторона, и другая,
Та сторона на народ, эта на Ларов глядит,
Так что и в доме привратник, у самого сидя порога,
Видит того, кто вошел, видит того, кто уйдет.
Точно так же и я, привратник двери небесной,
Видеть могу и Восток, видеть и Запад могу[381]381
Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. С. 238–239.
[Закрыть].
Янус производит пространственную и временнýю разметку, он создает границы и соединяет то, что этими границами разделено, но он не создает генеалогий. Обсуждая связь Януса с Церерой, ассоциированной с плодородием (ее типичным жертвенным животным была свиноматка), Дюмезиль замечает: «Янус, который является „творцом“, потому что он – „инициатор“, не имеет связи с Церерой, которая сама несет в себе движущую силу роста»[382]382
Дюмезиль Ж. Религия древнего Рима. СПб., 2018. С. 501. Пер. Т. И. Смолянской.
[Закрыть].
Нечто похожее происходит и с Вестой. Веста, как известно, – богиня домашнего очага. Дюмезиль пишет об «обычае заканчивать любую религиозную церемонию, посвященную многим богам, Вестой. <…> Нет никаких оснований сомневаться в этом правиле, симметричном правилу, которое посвящает первое место Янусу. Оно прямо противоположно греческому правилу, согласно которому в аналогичных обстоятельствах первой богиней, к которой следовало взывать или которой следовало служить, была Гестия»[383]383
Там же. С. 436.
[Закрыть]. Но эта противоположность, гораздо более подвижная, чем кажется. Дюмезиль говорит о связи Весты с Агни из «Ригведы». Агни – тоже божество огня. «Индоевропейцы охотно ставили на одно из крайних мест свое божество доброжелательного огня – на первое или на последнее место. Различные народы – их наследники – отдавали предпочтение одному из этих двух мест»[384]384
Там же.
[Закрыть].
Любопытно, что Веста в римской религии постоянно сопровождается еще одной богиней – Вакуной. Сама этимология этого имени отсылает к «пустоте», вакууму, отсутствию – vacuitas. Дюмезиль показал, что идея «последнего», «завершения» связана в данном случае с заполнением зияния[385]385
Dumézil G. L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux et autres essais. Paris, 1985. P. 185.
[Закрыть]. Он также собрал сведения о том, что rex (царь) – разных индоевропейских обществ – поддерживал постоянную связь с весталками, девственницами, связанными с идеей «полноты», ненарушенности (Fulla), а вовсе не невинности, как принято считать[386]386
Ibid. P. 96.
[Закрыть].
В любом случае речь идет о связанности начала и конца, Януса и Весты, о их взаимозависимости, создаваемой процессом обнаружения пустоты, открытия ворот (начала) и завершения – конца, например победы в войне, восстанавливающей полноту, заполняющей зияние. Речь здесь идет о множественности взаимодействующих сил, времени и пространства, а не об открытии бесконечного процесса генерации и генеалогии, у которого нет конца. Янус ассоциируется с Вестой совсем не генеалогически, но потому, что они соединены в рамках связанности начала и конца.
Двуликий Янус – не единственный бог, природа которого множественна. В процитированном мной мнологе Януса из «Фаст» (I, 141–144) упоминается и тройственное божество – Геката:
Геката не просто множественное (троякое существо), она является и составным существом, которое, как указывает Гесиод в «Теогонии» (421–427), собрана из качеств и предназначения множества богов:
Долю имеет Геката во всяком почетном уделе
Тех, кто от Геи-Земли родился и от Неба-Урана,
Не причинил ей насилья Кронид и не отнял обратно,
Что от Титанов, от прежних богов, получила богиня.
Все сохранилось за ней, что при первом разделе
на долю
Выпало ей из даров на земле, и на небе, и в море[388]388
Гесиод. Полное собрание текстов. М., 2001. С. 33. Пер. В. Вересаева.
[Закрыть].
Любопытно, что Медея в «Аргонавтике» Аполлония Родосского выступает как жрица Гекаты, подсказывающей ей рецепты зелий и ядов. Когда Овидий в разговоре Медеи и Ясона ссылается на запрет Гекаты «переписывать часть жизни твоей на другого», речь идет о множественности самой Гекаты, которая табуирована для человека.
Для меня особенно существенно, что Геката – богиня дорог и перекрестков, также участвует в пространственной разметке мира и в распределении лотов судьбы (то есть фрагментов времени). Это богиня, собирающая вместе пространство и время, и в этой функции собирательницы она выражает множественность своего единства (например, три тела в одном).
Дюмезиль посвятил Гекате специальное эссе, что не удивительно, ведь ее тройственность хорошо ложится на его модель трехфункциональности. Он пишет о Гекате: «…богиня трех дорог, растроения (trifurcations), она властвует над этими местами выбора, который не имеет обратного хода, перекрестками. <…> Возникая повсюду, она у себя на земле, но и в море, противящемся труду, и в звездном небе[389]389
У Гесиода Зевс «славный удел даровал ей: / Править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря. / Был ей и звездным Ураном почетный удел предоставлен» (411–413; там же).
[Закрыть], и даже позднее <…> в Гадесе»[390]390
Dumézil G. L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux et autres essais. P. 87–88.
[Закрыть]. Дюмезиль сравнивает эту пространственную неопределенность Гекаты с Вач – персонификацией голоса в Ригведе. Вач отмечена всеобщностью, позволяющей ей «синтезировать» в себе разных богов, она «„несет“ и других богов, перечисленных до Бхаги <…> и принимает на себя обязанности, связанные с этими богами»[391]391
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. С. 21. «…Вач встречается с человеком, встречается только с людьми, на благо которых она действует. Одним словом: 1) Это я, говорит она, даю пищу всем живым („кто дышит“) и разумным („кто смотрит“ и кто владеет речью) существам и обеспечиваю им прочное и спокойное существование; 2) Это я, говорит она далее, будучи, по существу, священным глаголом, делаю людей жрецами и всеведущими, могучими и мудрыми 18; 3) Это я, говорит она, наконец, натягиваю смертоносный лук для Рудры…» (Dumézil G. L’oubli de l ’homme… P. 87–88)
[Закрыть].
Речь идет именно о первичности Голоса или Слова как таковых, еще не включенных в отношения дифференциации и разложения и переорганизации этого единства. Это словесная стихия с виртуальным множеством отношений, которые еще не кристаллизовались, стихия, в которой единое и множественное еще свободно соединены, как в поэзии и мифе. Дюмезиль противопоставляет Гекату, свободно решающую, какую судьбу послать человеку, какую долю ему определить, и Фортуну, действующую по воле случая. Геката – не богиня случая, но богиня свободной воли: «Свобода действительно фундаментальна для такого типа, и, несомненно, Геката обязана ей своим именем, потому что самая простая этимология связывает его с наречием ἔκατι „по свободной воле“ (ср. с ведическим vásān anu, ānu váśā – по своей воле, выбору)…»[392]392
Dumézil G. L ’oubli de l’homme et l’honneur des dieux et autres essais. P. 90.
[Закрыть] Речь буквально идет о некой первичности, в которой свободно устанавливаются связи, разметки и различия.
Дюмезиль связал ведическую Вач и Гекату с Аполлоном[393]393
См.: Dumézil G. Apollon sonore et autres essais. Vingt-cinq esquisses de mythologie. Paris, 1982.
[Закрыть] – богом струн пения и оракулов, но, что не менее важно, богом дорог – aguieus. Действительно, в гомеровских гимнах Аполлону рассказывается о его бесконечных странствиях в поисках тех мест, где он собирается построить храм для себя. Храм этот связан с голосом и с пересечением множества дорог, подобным перекрестьям дорог у Гекаты:
Здесь основать я, Тельфуса, прекраснейший храм
собираюсь.
Чтоб прорицалищем был для людей он, которые вечно
Станут сюда пригонять безупречные мне гекатомбы, —
В пелопоннесском ли кто обитает краю плодоносном,
На островах ли, водой отовсюду омытых, в Европе ль.
Будут они вопрошать мой оракул. И всем непреложно
В храме моем благолепном начну подавать я советы[394]394
К Аполлону Пифийскому (69–75) // Античные гимны. С. 66. Пер. В. Вересаева.
[Закрыть].
Связь дорог со словом весьма показательна. Марсель Детьен обратил внимание на то, что дельфийский Аполлон часто носит эпитет (эпиклесу) Aphḗtōr, который, по мнению Вальтера Крауса, принадлежит к семантическому полю глагола apheînai, означающего «разрешить уйти, уехать». Аполлон в таком контексте оказывается богом отъезда, ухода. Но он же оказывается и богом прибытия, Аполлоном Embásios, богом ступания на берег. Не случайно храмы Аполлона славились своими огромными порогами. Детьен замечает: «…порог – это самый большой камень здания, вокруг „порога“ резчики камня возводили стены Дельфийского храма. Порог мог достигать шести метров в длину, и двух в ширину и весить около десяти тонн, как порог храма IV века в Дельфах»[395]395
Detienne M. «J’ai l’intention de bâtir ici un temple magnifique»: A propos de l’ «Hymne homérique à Apollon» // Revue de l’histoire des religions. Jan. – Mars 1997. Vol. 214. № 1. P. 49.
[Закрыть]. Аполлон, таким образом, оказывается не просто богом дорог, но богом начала и завершения пути, подобно Янусу и Весте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.