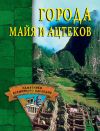Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"

Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Часть 3
Имена и двойники
20. Имена и боги мгновения
Конечно, логос, являющийся одновременно логосом мира, не есть миф. Но мне кажется, миф может быть понят как одна из возможных форм членения этого первичного, постоянно являющего из себя неустойчивые фигуры и имена божеств. Так, например, уже в XIX веке некоторые ученые видели в мифе способ странного упорядочивания языковой «сумятицы».
Одним из таких ученых был Макс Мюллер. По мнению Мюллера, миф – это способ упорядочить непреодолимую многозначность языка через изобретение историй. Язык в таком случае оказывается генератором мифа. Так, например, разбирая миф о прародителях греков Девкалионе и Пирре, он останавливается на эпизоде, где после потопа Девкалион и его жена бросали камни, которые становились мужчинами и женщинами. Мюллер пояснял: «Все становится понятным, если мы обратимся к языку, на котором рассказана эта история. Пирра означает „красный“, и первоначально это слово было названием для красной земли. Так как эллины претендовали на то, что они являются местными и коренными жителями земли, на которой они родились, Пирра, красная земля, естественно была названа их матерью, и, будучи матерью эллинов, она с необходимостью должна были сделаться женой Девкалиона, отца эллинов»[294]294
Мюллер Ф. М. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском институте в феврале – марте 1870 года. М., 2002. С. 69–70.
[Закрыть]. К этому объяснению он добавляет и другое: «Греческим словом для обозначения людей было λαоς, а для обозначения камней λαες. Когда дети спрашивали, откуда произошли λαоς, или люди Девкалиона, самым естественным было ответить, что они произошли от λαες, то есть от камней. Можно привести множество примеров такого рода, показывающих, что в самых бессмысленных традициях древности был смысл и, что еще важнее, многие из этих традиций, кажущихся абсурдными и отталкивающими для современных людей, являются простыми, понятными и даже прекрасными, если мы представим их в облачении того языка, на котором они создавались и который теперь пришел в упадок»[295]295
Там же. С. 70.
[Закрыть].
Конечно, сегодня такого рода объяснения кажутся наивными, и интересны они главным образом тем, что видят в мифе продукт гомофонии слов, близости означающих, толкающих в сторону нарративной мотивировки этой близости. Можно сказать, что язык в своей акустической массе слишком богат и требует историй для своего членения. Гораздо более сложную картину предложил Эрнст Кассирер в своей книге «Язык и миф» (1925). Вся книга исходит из предположения первоначальной недифференцированности мира, которая преодолевается с помощью языка и мифа, при этом в мифе центральную роль играют имена богов: «…языковое сознание и мифическое сознание имеет различия отдельных образов, только постепенно полагая их, „вычленяя“ их из первоначально индифферентного единого воззрения»[296]296
Кассирер Э. Язык и миф. К проблеме именования богов // Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М. – СПб., 2000. С. 335. Пер. И. А. Осиновской, М. В. Позднякова.
[Закрыть]. По мнению Кассирера, именно соединение языкознания и изучения мифов может пролить свет на «великий совершающийся здесь процесс разделения»[297]297
Там же.
[Закрыть]. В качестве подспорья Кассирер использовал книгу специалиста по античности Германа Узенера «Имена богов».
Узенер был последователем Мюллера, особенно его теории политеизма как «болезни языка», основанной на способности людей производить метафоры, которые «затвердевали» в образах богов[298]298
Об Узенере см.: Momigliano A. Hermann Usener // History and Theory. Dec. 1982. Vol. 21. № 4. Beiheft 21: New Paths of Classicism in the Nineteenth Century. P. 33–48.
[Закрыть]. Первый и ранний этап такой метафоризации явлений в именах богов, как считал Узенер, проявляет себя в явлении так называемых «богов мгновения» (Augenblicksgötter), когда какое-нибудь событие или одноразовое явление связывается с неким мимолетным богом. В качестве примера он приводит Aius Locutius – римское божество, чей голос предупредил римлян о вторжении галлов и которое после этого бесследно исчезло.
Кассирер так определяет значимость «богов мгновения»: «Если мгновенное ощущение придает вещи, находящейся перед нами, состоянию, в котором мы находимся, действию силы, которая захватила нас врасплох, ценность и как бы акцент божественности, бог мгновения ощущается и создается. Он стоит перед нами в непосредственной единичности и неповторимости, то есть как часть силы, способной открываться то тут, то там, в разных местах пространства в различное время и в различных субъектах многократно и все-таки одинаково, как нечто присутствующее только здесь и теперь, в один нераздельный момент переживания для одного субъекта, которого он одолевает своим присутствием и втягивает в свою орбиту»[299]299
Кассирер Э. Язык и миф. С. 337.
[Закрыть]. Здесь еще нет обобщения, но уже происходит превращение события и связанного с ним аффекта во что-то внешнее, отчужденное и символизированное.
Второй этап связан с появлением «особых богов» (Sondergötter). Особые боги связаны с явлениями, которые имеют тенденцию к повторению. Это путь к определенности, длительности и всеобщности. Тут имена богов, по существу, превращаются в понятийные термины. На третьем и последнем этапе «особые боги» превращаются в «личных богов». Приобретя имя, эти боги постепенно индивидуализируются, обретают черты личности с собственной непредсказуемой волей.
Таким образом, в мифическом членении первичной неопределенности постоянно возрастает уровень абстрагированности. Но не менее важно и то, что имя бога не позволяет этому расширению обрести черты понятийной всеобщности. Всякая всеобщность, длительность и повторяемость постоянно сворачивается «назад» к моменту события, впечатления, а главное, к имени бога, которое создает за любой всеобщностью сильный элемент единичности. По существу, миф производит сложный процесс, похожий на хиазм. Сначала мы имеем недифференцированность и аморфность, она распадается на события и порождает богов мгновения, которые благодаря повторяемости их манифестаций снова движутся в сторону нерасчленимости и всеобщности, но имя бога и вписанные в него следы мгновенности возвращают эту нерасчленимость к некой точке, которую я вслед за Бенвенистом идентифицировал с Я. Если в случае Арто Я размывается в пустоте и неопределенности, в мифе этого размывания не происходит. И это, на мой взгляд, важно для понимания связи мифа с поэзией.
Кассирер так описывает концентрирующую функцию бога: «Словно посредством изолирования впечатления, его вычленения из целого обычного повседневного опыта, в нем, наряду с его могущественным интенсивным усилением, возникает и внешнее уплотнение и будто вследствие этого уплотнения возникает объективный образ бога, будто он из него выпрыгивает»[300]300
Кассирер Э. Язык и миф. С. 349.
[Закрыть]. В другом месте Кассирер прямо говорит о функции Я в этом мифическом расширении и сужении: «Я обращено на это одно с величайшей энергией, оно живет в нем и забывается в нем. Следовательно, здесь вместо расширения созерцания царит его крайнее сужение, вместо распространения, которое ведет его постепенно через все новые круги бытия, – влечение к концентрации, вместо экстенсивного расширения – его интенсивное сжатие. В этой концентрации всех сил на одной точке заключается условие всего мифического мышления и всего мифического формообразования»[301]301
Там же. С. 348.
[Закрыть]. Приведу еще одно высказывание, подтверждающее сказанное: «Раньше было уже показано, что начальное действие языковых понятий состоит не в сравнении содержания различных созерцаний и в выявлении их общих признаков, а что это действие направлено на концентрацию содержания созерцания, на его соединение в одной точке»[302]302
Там же. С. 351.
[Закрыть].
Делёз и Гваттари говорили о том, что «концепты нуждаются в концептуальных персонажах, которые способствуют их определению»[303]303
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 2009. С. 6. Пер. С. Н. Зенкина.
[Закрыть]. Эти персонажи в чем-то подобны богам. Концепт в их представлении – «это множественность»: «Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным»[304]304
Там же. С. 21.
[Закрыть], и его наименование в качестве персонажа помогает установлению целостности во фрагментарности. У греков таким концептуальным персонажем был «друг», а в иных цивилизациях – Мудрец.
Появление же философии отменяет фигуру Мудреца, ставя на его место философа, который пытается мыслить понятиями. Делёз и Гваттари предлагают рассматривать философию как «учреждение того или другого плана имманенции», которая оказывается «имманентной Единому»[305]305
Там же. С. 54.
[Закрыть]. И именно философская имманентность (выражающая сущность философии par excellence) уничтожает мир концептуальных персонажей мифа: «На первый взгляд непонятно, почему имманентность столь опасна, но тем не менее это так. Она поглощает без следа мудрецов и богов. Философа узнают по тому, что он отдает на откуп имманентности – словно на откуп огню. Имманентность имманентна только себе самой, и тогда уж она захватывает все, вбирает в себя Всецелость и не оставляет ничего такого, чему она могла бы быть имманентна»[306]306
Там же. С. 55.
[Закрыть].
Философская имманентность все поглощает в Единое. И именно этому философскому поглощению и должны противостоять имена мифических богов. Миф предопределяет движение текста назад к собственному истоку, превращенному из неопределенности (из Единого) в точку. И при этом он позволяет поэзии существовать вне длительности и вне того распыления, которое, по мнению, например, Гандельсмана, определяют культуру, филологию и критику. В эссе о Мандельштаме он писал: «…древнюю силу стихии удерживает, усмиряет тренированная сила культуры. <…> поэт – та самая точка, в которой эти силы сходятся и через которую говорят: „Язык пространства, сжатого до точки“ <…> Таковы многие строки Мандельштама – пучки смыслов – „чистых линий пучки благодарные“»[307]307
Гандельсман В. Подтверждающий эпитет // Октябрь. 1999. № 8; https://magazines.gorky.media/october/1999/8/podtverzhdayushhij-epitet.html
[Закрыть]. Поэзия в такой перспективе – это чистая концентрация, сведение к точке события, исчезновение длительности. Именно поэтому поэзия, как и миф, выпадает из культуры, которая вся строится на памяти, преемственности и длительности, а значит поэт, одержимый концентрацией в точке, – это полная противоположность критику или филологу, распыляющим текст в культуре[308]308
Ср. у Кассирера: «Если дискурсивное мышление стремится к расширению, к связи и систематическому сочетанию, то языковое и мифическое восприятие наоборот – к уплотнению, концентрации, к изолирующему вычленению» (Кассирер Э. Язык и миф. С. 360).
[Закрыть].
Логика смыслов в поэзии оказывается логикой случайного, никак не детерминированной разверткой сюжета или речи. Относительно расположения главок в «Велемировой книге» Гандельсман замечает: «Движение от одной вещи к другой дискретно и обусловлено случайным импульсом…» Не случайно Гандельсман часто писал о дискретности поэзии: «…поэтическая истина дискретна. Выпадение в другое измерение, где она творится, характеризуется тем, что все нормальные житейско-психологические связи с миром обрублены…»[309]309
Гандельсман В. Сталинская «Ода» О. Мандельштама; http:// www.stosvet.net/union/Gand/esse.html
[Закрыть] В этом смысле поэзия выпадает не только из культуры, но и из жизни. Сворачивание в точку в конечном счете создает странное движение Я к собственному исчезновению, ведь Я немыслимо без жизненных связей и контекста существования: «…творческое событие, и если вы способны справиться с тем, что вы никто, то оказываетесь в точке непрерывной новизны воссоздания себя, в точке неустанного рождения жизни перед лицом смерти. Именно это имеет в виду поэт, говоря, что искусство только и делает, что размышляет о смерти и творит этим жизнь. <…> Каждый раз вы вновь и вновь выпадаете в нее – в точку непрерывной дискретности»[310]310
Гандельсман В. Выступление на симпозиуме; http://www. stosvet.net/union/Gand/esse.html
[Закрыть].
Такое понимание слова соответствует духу мифа, не ведающего времени, связи с практическими контекстами, «контекстом опыта», по выражению Кассирера. Философ описывал, каким образом мифическое слово, вычленяясь из контекста существования, приобретает свободу, легкость движения и ассоциирования с другими словами. Связано это с тем, что расхождение между означающим и означаемым исчезает в полном поглощении того и другого именем, слово становится самодостаточным вместилищем смысла: «Сознание не разворачивает отдельное содержание, оно не идет от него ни вперед, ни назад, чтобы рассмотреть его со стороны его „оснований“ или „следствий“, а покоится в его простом состоянии»[311]311
Кассирер Э. Язык и миф. С. 360.
[Закрыть]. Усиление значения «состояния» важно для концентрации в некой точке: «…мифическое и первичное языковое мышление не знает такого „контекста опыта“. Ибо его действие состоит, как мы видели, напротив, в освобождении, в насильственном вычленении и обособлении. Лишь в том случае, если это обособление удается, если созерцание концентрировано в одном пункте и в известной степени сведено к нему, из этого возникает мифический и языковой образ, слово языка и мифический бог мгновения»[312]312
Там же. С. 361.
[Закрыть].
Всякое проявление мифа и поэзии возникает на пересечении имени бога и Я. И то и другое совпадают в этой точке наивысшей концентрации, совпадают и отчасти парадоксально отменяют друг друга. Как замечает Кассирер, в какой-то момент всякий бог исчезает за понятием бытия, бытие, то, что есть, – это он сам. Но бытие в конечном счете в аспекте его концентрации в имени превращается в Я: «…единственным „именем“ божества остается имя Я. Моисей спрашивает открывшегося ему Бога, какое имя ему назвать израильтянам, если они захотят знать, кто тот Бог, который его послал, Бог ему отвечает: Я есмь, кто Я есмь. Так и скажи им: „Я есмь“ послал меня к вам»[313]313
Там же. С. 371. В русском переводе: «Я есмь сущий… Сущий послал меня к вам» (Исход 3, 14).
[Закрыть].
Изначальный хаос лишен бытия, бытие устанавливается только через слово. «Состояние» каким-то образом соотносится с этим самодостаточным установлением бытия. Вообще этот процесс, характерный как для мифа, так и для поэзии (и, может быть, для поэзии в большей мере), описывается Кассирером как установление единичного (точки) к целому (состоянию, бытию). Сосредоточенное созерцание «входит в целостность, тотальность явлений, но одновременно противостоит этой тотальности как нечто самостоятельное и особенное. Все более тесная связь единичного созерцания с другими созерцаниями не означает, что оно исчезает в них. <…> Созерцание не расширяется, а сжимается, оно в известной степени стягивается в одну точку. В этом сжатии находят и подчеркивают тот момент, на который падает акцент „значения“»[314]314
Там же. С. 378.
[Закрыть]. Собственно, такое сжатие и есть установление смысла. Кассирер говорит о «фокусе значения». Смысл (и мысль) в такой перспективе связан не с развертыванием и расширяющимся движением вовне, но со сворачиванием, а это сворачивание оказывается парадоксальным образом рождения, порождения. Делёз замечал по поводу Арто: «Он знает, что задача не в том, что бы направить или методично применить предсуществующую по природе и праву мысль, а в том, чтобы породить еще не существующее (иного произведения нет, все остальное – произвольное украшательство)»[315]315
Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 184–185. Пер. Н. Б. Маньковской.
[Закрыть]. Рождение – это отказ от орнаментального развертывания и движение вспять к самому себе.
21. Происхождение поэтов
То, что миф не расширяет созерцания, а, наоборот, сжимает его до имени и персонификации в фигуре, имеет существенное значение для самого процесса порождения текста, связанного с мифом. А порождение текста имеет прямую связь с порождением фигур и имен. Сюжет «Велимировой книги» – рождение русской поэзии из Адама-Хлебникова. И этот поток рождений поэтов из Хлебникова не является генеалогическим разворачиванием истока и даже не вписывается в привычную для генеалогии диаграмму дерева. Рождение у Гандельсмана всегда происходит не через движение от родителя к потомству, но как общее противо-движение к истоку, к нерасчленимости, в которой обнаруживаются раздвоения. В каком-то смысле Хлебников постоянно рождается с теми, кто из него вышел. Так, например, рождение Введенского вводится цитатой из стихотворения Хлебникова о Русско-японской войне:
«Я в волне увидел брата», ах, / захлебнись, Ниппон, во хлябя-а-х!» (ВК, с. 11) (у Хлебникова: «Я в волне увидел брата, / Он с волною спорил хлябей…). (ВК, с. 48). Эта цитата переходит в цитату Введенского из «Элегии»:
Плавниками рыба павает,
по соседству воин плавает
(море вместимо, вестимо,
если Цусима)
и Введенскому, как корягой,
машет рыбой навагой.
(ВК, с. 11)
В комментариях Гандельсман поясняет: «В „Элегии“ Александра Введенского мы видим воина, который плавает навагой: „Вот воин, плавая навагой, / наполнен важною отвагой, / с морской волнующейся влагой / вступает в бой неравный“. Цусимское сражение произошло, когда Введенский только-только родился» (ВК, с. 48). Рождение тут связано с регрессией на стадию рыбы, с погружением в Талассу, ассоциировавшуюся с приплодными водами в утробе, о чем я уже писал. Кстати, в использованном стихотворении Хлебникова движение от истока – это движение к смерти и только[316]316
Я в волне увидел брата, Он с волною спорил хлябей, И туда, где нет обрата, (курсив мой. – М. Я.) Броненосец шел «Ослябя» (Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 213).
[Закрыть]. И подчеркивается, что упомянутое сражение совпадает с моментом рождения Введенского. Но главное тут, конечно, плотное связывание текста Хлебникова с текстом Введенского, сделанное таким образом, что они оказываются совершенно недифференцированным общим истоком.
Второй текст о генезисе новой русской поэзии в «Велимировой книге» называется «Рождение многих из Хлебникова» и начинается с темы палиндрома, то есть движения вспять по мере разворачивания текста: «Рифмы автор палиндромной: / дым – а через строчку – мы» (ВК, с. 12) – это отсылка к названию первой части «Мыдым». И вскоре появляется строфа:
Замес бесовский крепок <…>
а глаз подмигивает: я, мол, око.
Но глаз его не око – лом.
Взгляд вкалывается в порядок —
и ветхий мир идёт на слом.
Бес – ядок, адок.
Гремуч и на разломы падок.
(ВК, с. 12)
Строфа эта получает в примечаниях далеко не очевидное при чтении толкование: «Идея создания единого языка, вернувшись во времена до Вавилонского столпотворения, до смешения языков, до горделивого замысла людей сравняться с Богом, – тот же вызов Ему, но уже с другой стороны разделительной полосы» (ВК, с. 50). Палиндром рифмуется с обратным движением («обратом») вспять к единству и нерасчленимости языка. Идея эта называется Гандельсманом «бесовской», так как ведет к «разрушению „вавилонской башни“ – в порядке, обратном библейскому» (ВК, с. 50), а это, по существу, эквивалентно движению к небытию. Палиндромное, симметричное божественное «око» оказывается бесовским «ломом», который взламывает установивший порядок мира подобно революции.
Тема Вавилонского столпотворения оказывается важной не только для Гандельсмана (я уже приводил упоминания им Сеннаара – места расположения Вавилонской башни), но и для революционной культуры Советов. В «Велимировой книге» столпотворение выступает как символ одновременного творения и разрушения. Гандельсман комментирует: «Созидание и разрушение в работе Х. идут рука об руку. Вторая составляющая преобладает, как она преобладала в образовании Советского государства. Х., как никто из поэтов, смоделировал в языке то, что произошло впоследствии в стране» (ВК, с. 51).
Разрушение Вавилонской башни как культурную тоталитарную инволюцию описывал Николай Трубецкой в эссе «Вавилонская башня и смешение языков». Он понимал это разрушение как возврат к интеллектуальной и культурной однородности одноязычия. «Внутренняя связь между столпотворенчеством и понятием однородной общечеловеческой культуры ясна. <…> Если представить себе культуру, творцом и носителем которой является все человечество, то ясно, что безличность и расплывчатость в такой культуре должны быть максимальными»[317]317
Трубецкой Н. С. Избранное. М., 2010. С. 216.
[Закрыть]. Любопытно, что в СССР в 1920-е годы некоторые лингвисты (прежде всего Н. Марр) верили в постепенное слияние языков и, по существу, восстановление единого языка, предшествовашего столпотворению[318]318
См.: Moret S. De la fusion des langues au repli sur soi (URSS 1917–1953) // History of Linguistics 2011. Selected Papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS XII). Saint Petersburg, 28 August – 2 September 2011 / Ed. by V. Kasevich, Y. Kleiner, P. Seriot. Amsterdam-Philadelphia, 2014. P. 181–190.
[Закрыть]. Но еще до этого идеи слияния языков циркулировали в социалистической среде.
А. А. Богданов говорил о возникновении «всеобщего языка». В романе 1908 года «Красная звезда» была представлена такая языковая утопия: «– Когда-то и у нас, – прибавил Мэнни, – люди из различных стран не понимали друг друга; но уже давно, за несколько сот лет до социалистического переворота, все различные диалекты сблизились и слились в одном всеобщем языке. Это произошло свободно и стихийно, – никто не старался, и никто не думал об этом. Долго сохранялись еще некоторые местные особенности, так что были как бы отдельные наречия, но достаточно понятные для всех. Развитие литературы покончило и с ними»[319]319
Богданов А. Красная звезда (Утопия). СПб., 1908. С. 46.
[Закрыть].
Интересный анализ вавилонского мифа в интересующей меня плоскости дал Жак Деррида, назвавший миф о Вавилонском столпотворении «мифом об истоке мифа»[320]320
Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. СПб., 2012. С. 9. Пер. В. Е. Лапицкого.
[Закрыть]. Философ обратил внимание на то, что слово Babel (в европейских языках обозначающее башню и смешение языков и отделяющее эти предметы от города Вавилона – Babylon) одновременно является именем собственным, но и именем нарицательным, отсылающим и к смешению языков и к замешательству строителей, утрачивающих способность возводить башню.
В 11-й главе Книги Бытия, где рассказывается этот библейский эпизод, говорится о том, что до возведения башни «на всей земле был один язык и одно наречие» (11, 1). Когда строители приступают к работе, они не только хотят построить себе город и башню до небес, но и «сделать себе имя» «прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (11, 4). Господь, видя это намеренние, «сошел посмореть город и башню» (11, 5), смешивает их языки и рассеивает их по всей земле. В еврейской Библии, в отличие от русского синодального перевода, есть важное добавление. Бог сопровождает свое решение:
«После чего он выкрикивает имя свое – Babel».
Деррида приводит этот эпизод в буквальном переводе Андре Шураки (который я тоже использую), так переданный по-русски переводчиком Виктором Лапицким:
Деррида считает, что желание строителей создать для себя общее и единое имя выражает «желание обеспечить себе, самим себе уникальную и универсальную генеалогию»[322]322
Там же. С. 16.
[Закрыть]. По его мнению, Бог наказывает вавилонян не за строительство башни, а именно за желание самим установить генеалогию, то есть неразрывную связь с единым истоком. Право устанавливать генеалогии принадлежит исключительно Богу, который вместо придуманного людьми имени называет свое – Babel, которое странным образом означает не только бога, но и смешение. Это соединение само обязано смешению. К «правильной этимологии», восходящей к Bab-El, что значит врата бога, тут примешивается ложная «этимология», возводящая это имя к глаголу balal, что значит спутывать, смешивать. Деррида так объясняет происходящее: Бог «навязывает» «свое имя отца) и этим насильственным навязыванием приступает к деконструкции башни как универсального языка), рассеивает генеалогическое родословие. Он разрывает потомственность»[323]323
Там же. С. 17.
[Закрыть]. «Смешение» внутри собственного имени бога накладывает импринт смешенности на восходящие к этому имени родословные людей. Вместо упорядочивания, связь с богом ведет к хаосу.
Филон Александрийский с удивительной проницательностью оставил комментарий относительно слова «смешение» в контексте разделения общего языка на разные наречия. Он комментирует выбор слов «Законодателем» (то есть Моисеем): «…если бы он разъяснял нам только происхождение наречий, то вместо „смешения“ нашел бы слово более точное – „разделение“, ведь рассекаемое не „смешивается“, а, наоборот, „разделяется“, и тут не только имена друг другу противоположны, но сами действия. Ибо „смешение“, как я уже сказал, – это гибель простых свойств ради появления одного сложного, а „разделение“ – это рассечение единого целого на множество частей, как в случае с родом и видами, выделяемыми в нем. И если бы Мудрый распорядился рассечь единый язык на множество наречий, то воспользовался бы словами более подходящими и точными: „рассечение“, „распределение“, „разделение“ или иные подобные, а не супротивное им „смешение“»[324]324
Филон Александрийский. О смешении языков (191–192) // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000. С. 337–338. Пер. О. Л. Левинской. Подробный комментарий к толкованию Филоном вавилонского мифа можно найти в кн.: Sherman Ph. M. Babel’s Tower Translated. Genesis 11 and Ancient Jewish Interpretation. Leiden-Boston, 2013. P. 250–274.
[Закрыть].
Филон, конечно, прав. Именно смешение уводит библейскую историю от классификации на роды и виды, которые лежат в основе генеалогического мышления, и ведет в область неразрешимого богатства некой первичности, связанной с таинственным именем Бога. Это разрушительное обогащение или обогащающее разрушение. Деррида называет это обогащающее разрушение деконструкций и так формулирует его отношение с именем Бога: «Именно начиная с имени собственного Бога, исходящего от Бога, сошедшего от Бога или от Отца (ясно сказано, что ЯХВЕ, имя непроизносимое, на башню сходит) и им помеченного, и рассеиваются, смешиваются или приумножаются языки, в соответствии с происхождением, в самом своем рассеянии остающимся запечатанным одним-единственным именем, которое будет самым сильным, единственной идиомой, которая его снесет. Ведь идиома эта несет в самой себе метку смешения, она несобственно подразумевает несобственное, а именно Bavel, смешение»[325]325
Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 18.
[Закрыть]. Мне еще предстоит вернуться к проблеме генеалогии и роли имени в ней.
Разрушение – классический топос возвращения к мифическому истоку. Жан Боллак показал, каким образом цикличность времени у Аристотеля (развитие цивилизации и следующая за ним катастрофа, ее униичтожающая) связана с мотивом роста знания, становления философии (софии) и затем возвращения к первичности мифа. Такая катастрофа чаще всего – потоп, который возникает в текстах разных авторов, в том числе у Платона и самого Аристотеля.
Любопытно, что в стихотворении «Периферия» Гандельсман причудливо связывает Вавилонское столпотворение с потопом. Стихотворение кончается странной имитацией смешения языков:
Люцифер-опус-ляпсус, сгинь!
Эпцетум,
поркус блигва гатис дзынь-дзынь:
оби цвинатас вум,
изалис кримус – рассус миксио тбинь.
Ди, талем авэртитэ казум!
(РС, с. 309)
К этой строфе дается комментарий: «Di, talem avertite casum! – «Боги, отвратите такое бедствие!» Строфа символизирует смешение языков, за которым следует потоп. Латинское обращение к богам взято из Вергилия и не имеет ни малейшего отношения к Вавилону и потопу. Это цитата из Третьей книги «Энеиды» (III, 263–265), из рассказа Энея о его скитаниях в поисках места для основания города (здесь возможна отдаленная перекличка с основанием Вавилона). И касается она столкновения с гарпиями и пророчества, которое он слышит от ведуньи-гарпии Келено. Это мрачное пророчество повергает Энея и его спутников в уныние и понуждает обратиться с мольбою к богам: «С берега руки простер отец мой Анхиз, призывая / Милость великих богов, и назначил почетные жертвы. / „Боги! От нас отвратите беду и отриньте угрозы!“…»[326]326
Вергилий. Энеида с комментариями Сервия. М., 2001. С. 51. Пер. С. Ошерова.
[Закрыть] Здесь крылатые монстры гарпии, сходные с другим крылатым чудовищем – Сфинксом, прямо связаны с темой пророчества (об этом ниже). Келено начинает свое пророчество с упоминания Феба-Аполлона, от которого она якобы его получила. Но Гандельсман явно связывает это невнятное пророчество со смешением языков и утратой словесного смысла, которое отсылает к первоначальной стихии – воде. Гибель цивилизации в воде особенно показательна, так как именно из мифологемы воды, по мнению Аристотеля, возникает философия. Боллак замечает: «…философский век начинается с настоятельного утверждения, что вода – исток всего»[327]327
Bollack J. La Grèce de personne. Les mots sous le mythe. Paris, 1997. P. 160.
[Закрыть].
Ницше так обозначил этот переход от мифа к софии через голову «науки»: «Фалес становится первым греческим философом. Если бы он сказал: из воды происходит земля, мы имели бы научную гипотезу, ложную, но все же трудноопровержимую. Но он вышел за пределы научного. Выражая свое представление о единстве гипотезою воды, Фалес не преодолел низкий уровень физических воззрений своего времени, а перескочил через него»[328]328
Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху греков // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. Часть 1. М., 2012. С. 314. Пер. Л. Завалишиной.
[Закрыть]. Вода из мифических вод становится первым принципом метафизики, кроющимся за разнообразием мира. И именно вода, конечно, связана с идеей смешения, а не разделения. Не случайно в главе о рождении Введенского Гандельсман так сосредотачивается на мотиве воды. При этом сам этот мотив (через смерть в воде и Цусиму) отсылает и к водам Стикса.
Идея единого принципа за многообразием мира предвосхищает метафизику бытия. Боллак справедливо замечает: «Мифическая форма порождения, потомства, союзов и расхождений служит выражению той связи, которая соединяет разнообразие феноменов с принципом единства»[329]329
Bollack J. La Grèce de personne. P. 161.
[Закрыть]. Первичная нерасчленимость (прежде всего генеалогическая или генетическая), таким образом, оказывается на грани мифа и логоса. Кстати, сама оппозиция мифа и логоса, к которой я неоднократно прибегал, едва ли работает в этой точке генерации и первичности, в этой мифической «сингулярности». Сам термин миф, как указывает Клод Калам, проникает в обиход только в эпоху Просвещения, в XVIII веке, и получает теоретическое обоснование, например, у Джамбаттиста Вико. До этого речь шла скорее об «историях» (fables). Калам утверждает, что «mûthos в архаическую эпоху отсылает к любому виду дискурса, оказывающему воздействие на публику, – «перформативному» слову, по выражению англосаксов, которое предпочтительно рассматривать в широком прагматическом измерении…»[330]330
Calame C. Qu’est-ce que la mythologie grecque? Paris, 2015. Цитирую по электронному изданию без пагинации.
[Закрыть] Прагматический характер мифа тесно связыван с моментом представления для публики. И в этом смысле «миф» оказывается эквивалентен поэзии, и прежде всего обнаруживается в гимнах, воспеваниях, ламентациях и т. д. Lógoi же понимаются древними греками как истории, а их рассказчики – прежде всего авторы письменных текстов – это историки, которых называют логографами. Калам замечает, что обращающийся к богам – прежде всего поэт, а не историк, именно через него говорят музы. Поэт не столько рассказывает истории, сколько поет. Первичность мифа в такой перспективе оказывается не чем иным, как отражением сущности поэзии.
Именно перформативность характерна для крика, к которому сводил выражение Арто. Но в греческом мифе тоже есть крик. Я имею в виду, например, крик Эдипа, когда он обнаруживает труп повесившейся Иокасты («Он развязал веревку с диким воплем»[331]331
Эсхил. Софокл. Еврипид. Трагедии. Переводы Дмитрия Мережковского. М., 2009. С. 150. Ср. с криком, рыком, рычанием в «Велимировой книге».
[Закрыть]). Крик Эдипа кажется воплощением такой первичной неартикулированности, он выражает нечеловеческие боль и страдания, но Эдит Вышегрод оспаривает такой по видимости неоспоримый взгляд: «…крик Эдипа далек от того крика, который биологический рефлекс вызывает к жизни в ответ на физическую боль, он как бы является выжимкой некоего телоса („намерения“) и сложной дискурсивной формации…»[332]332
Wyschogrod E. Crossover Queries: Dwelling with Negatives, Embodying Philosophy’s Others. New York, 2006. P. 127.
[Закрыть] Вышогрод утверждает, что крик Эдипа укоренен в ситуации инцеста, которую Эдип осознает, а инцест – это социальное правило, отделяющее человека от животного и природы. Инцест нарушает установленный порядок космоса, который принадлежит уже юридическому «топосу», то есть чисто концептуальной формации. Таким образом, по мнению Вышегрод, неартикулированный крик Эдипа «лежит на линии между природой и культурой»[333]333
Ibid. P. 129.
[Закрыть].
В этом смысле крик Эдипа, катастрофа разрушения Вавилонской башни и рождение поэзии из вод потопа и Стикса принадлежат к единому смысловому пространству мерцания между мифом и логосом. Боллак, как мы помним, возводил генерацию и генеалогию к установлению принципа единства, явленному в фалесовской воде. Именно от единого начала и могут рисоваться линии потомства. Но вода, как и крик, еще не знает генеалогий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.