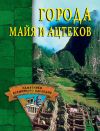Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"

Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
18. Флейта
Греческий миф отличается от «мифа» Анзьё хотя бы тем, что он с очевидностью сопрягает не двух, а трех персонажей. Помимо Аполлона и Марсия, в нем активно участвует Афина – изобретательница алоса, которая в ужасе выбрасывает его и проклинает любого, кто на нем играет. Убивая Марсия, Аполлон лишь приводит в исполнение проклятие богини. Но чрезвычайно существенно также и то, что первоначально Марсий даже не старается играть на флейте, она играет сама, и при этом лицо Мар-сия – гротескное лицо сатира – маска – воспроизводит искаженное лицо Афины, играющей на ало-се. Когда Афина смотрит в воду и видит деформацию своего лица, она видит себя как Марсия, ее гротескного двойника и зеркальное отражение. Снимая кожу с сатира, Аполлон снимает с него маску Афины, играющей на флейте. Вот как Анзьё описывает трансформацию девственной Афины в сатира, не развивая этой темы: «Девственная воительница Афина пришла в ужас при виде своего лица, превращенного в пару ягодиц, со свисающим между ними пенисом»[251]251
Anzieu D. Le moi-peau. P. 47.
[Закрыть].
Но этим зеркальное удвоение не исчерпывается. Жан-Пьер Вернан подчеркнул связь флейты с горгоной Медузой. Он напомнил, что музыкальные инструменты использовались в Греции, чтобы позволить проявить себя невидимым потусторонним силам. Отсюда производимое ими подражание реву быков или подземному грому. Но из всех инструментов наиболее тесную связь с демоническим – и горгоной – поддерживала флейта, «изобретенная Афиной, чтобы «подражать» кричащим звукам, которые она слышала вылетающими изо рта горгон и их змей»[252]252
Vernant J.-P. Œuvres. Religions, rationalités, politique. In 2 Volumes. Paris, 2007. Vol. 2. P. 1503.
[Закрыть]. Но, – замечает Вернан, – мимесис чреват последствиями: приобретением внешних черт горгоны, сокрытием собственного лица за ее маской. По версии Вернана, Афина в ужасе отбросила флейту, увидев в воде свое лицо, искаженное гримасой горгоны. «Играя на флейте, Афина деградировала до состояния чудовища. Ее лицо превратилось в подобие маски горгоны»[253]253
Ibid. P. 1504.
[Закрыть]. Эта метаморфоза интересна еще и тем, что Афина, подобно Зевсу, как известно, носила эгис – то ли щит из звериной шкуры, то ли саму шкуру, иногда украшенную головой горгоны Медузы. Как сообщает Аполлодор, дублируя жест Аполлона, Афина даже «содрала с Палланта кожу и покрывала ею свое тело во время сражения»[254]254
Аполлодор. Мифологическая библиотека (I, VI: 2). Л., 1972. С. 9.
[Закрыть]. Содранная кожа (если она не повреждена) может служить защитой. В Пушкинском музее в Москве есть слепок (оригинал в дрезденском Альбертинуме) со статуи Лемнейской Афины, приписываемой Фидию, покрытой эгисом с головой горгоны.

Миф в своей редуцированной форме как будто говорит об оппозиции крика, шума, рыка (Марсий) артикулированному пению, логосу и поэзии в классическом смысле – Аполлону. Эта простая дуальность укоренена в почтенной традиции. Аристотель в «Политике» (1341a, 22–26), например, писал: «…флейта – инструмент, не способный воздействовать на нравственные свойства, а способствующий оргиастическому возбуждению, почему и обращаться к ней надлежит в таких случаях, когда зрелище скорее оказывает на человека очистительное действие (katharsin), нежели способно его чему-либо научить. Добавим к этому еще и то, что игра на флейте создает помеху в деле воспитания, так как при ней бывает исключена возможность пользоваться речью. Поэтому паши предки с полным основанием запретили употребление флейты как у молодежи, так и у свободнорожденных людей вообще, хотя первоначально они ею пользовались»[255]255
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1976–1983. Т. 4. 1983. С. 640. Этот взгляд на флейту воспроизводит и Плутарх, когда рассказывает об Алкивиаде: «Приступив к учению, он внимательно и прилежно слушал всех своих наставников и только играть на флейте отказался, считая это искусство низменным и жалким: плектр и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи. „А потому, – заключал Алкивиад, – пусть уж играют на флейте дети фиванцев: говорить они все равно не умеют. Нами же, афинянами, как говорят наши отцы, предводительствует Афина, и покровитель наш – Аполлон; но первая бросила флейту, а второй содрал с флейтиста кожу“. Так, мешая шутки с настойчивыми увещаниями, он и сам не занимался и других отвращал от занятий, ибо мнение, что Алкивиад прав, презирая флейту и издеваясь над теми, кто учится на ней играть, быстро укрепилось среди детей. С тех пор игра на флейте была решительно исключена из числа занятий, приличествующих свободным гражданам, и навсегда опозорена (Плутарх. Алкивиад (II) // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М., 1961.Т. 1. С. 273–274).
[Закрыть]. Но уже в «Пире» (215 а-е) Платона ясность оппозиции Силена (немоты) и Логоса оказывается неработающей. В панегирической речи Алкивиада в честь Сократа тот неожиданно сравнивает его с Силеном, то есть с Марсием. Это особенно поразительно потому, что именно Сократ оказывается воплощением доведенного до совершенства словесного дара и рациональности Логоса. Алкивиад говорит о Сократе: «Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия. Что ты сходен с силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не станешь оспаривать. <…> Далее, разве ты не флейтист? Флейтист, и притом куда более достойный удивления, чем Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст, с помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще любой, кто играет его напевы. Те, которые играл Олимп, я, кстати сказать, тоже приписываю Марсию, как его учителю. Так вот, только напевы Марсия, играет ли их хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей и, благодаря тому, что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах. Ты же ничем не отличаешься от Марсия, только достигаешь того же самого без всяких инструментов, одними речами.
Когда мы, например, слушаем речь какого-нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас, правду сказать, не волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены. Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю, от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов…»[256]256
Платон. Соч.: В 4 т. СПб., 2007. Т. 2. С. 150–151.
[Закрыть]
Это сравнение Сократа с Марсием переводит рациональность логоса в разряд транса, обычно ассоциировавшегося с криками или немотой. Но не менее парадоксально и то, что сатир флейтист Марсий в некоторых источниках, например у Диодора Сицилийского, предстает воплощением мудрости и целомудрия. Он пишет о «фригийце Мар-сии, которым восхищались за его ум и целомудрие; а доказательство его ума они находили в том факте, что он имитировал флейтой звуки, производимые множеством тростников, и переносил все эти ноты в свою флейту…»[257]257
Diodorus of Sicily (III, 58). In 12 Volumes. London-Cambridge, Mass., 1933–1967. Vol. 2. 1935. P. 271.
[Закрыть] Аполлон в поединке с Марси-ем ведет себя куда менее мудро и сдержанно, сдирая кожу со своего оппонента, то есть ведет себя вполне как погруженный в транс корибант[258]258
Корибанты – экстатические жрецы Кибелы (которой, кстати, служил и Марсий), по некоторым версиям, были сыновьями Аполлона и даже Афины и Гелиоса. См.: Detienne M. Apollon le couteau à la main: Une approche expérimentale du polythéisme grec. Paris, 2009. Не случайно в гомеровском гимне Аполлону Пифийскому (357) приводятся слова бога, обращенные к жителям Крита: «В правую руку возьмите вы жертвенный нож…» (Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1988. С. 73). Детьен переводит закрепившийся за Аполлоном титул «князя приносящих в жертву» как «князь мясников и поваров» (Detienne M. L’Apollon meurtrier et les crimes de sang // Quaderni Urbinati di Cultura Classica. 1986. New Series. Vol. 22. № 1. P. 9).
[Закрыть]. Таким образом, оппозиция Логоса и флейты оказывается подорванной со всех сторон. Кьеркегор, обсуждая эту речь Алкивиада, использует выражение Ларошфуко «fièvre de la raison»[259]259
Kierkegaard S. The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates. Princeton, 1989. P. 49.
[Закрыть] – то есть «лихорадка разума» – и указывает на «единство» в Сократе комического и трагического[260]260
Ibid. P. 52.
[Закрыть]. Мне представляется, что именно сочетание несочетаемого в одной фигуре превращает ее в мифическую фигуру par excellence и обеспечивает ту «лихорадку разума», которую испытывает Алкивиад, слушая Сократа. Комбинация Афины, горгоны, Марсия и Аполлона создает такое же несводимое к идентичностям мифическое единство. Отсылка к трагедии тоже кажется мне важной, так как трагедия оказывается именно тем явлением, в котором миф проявляет себя с особой силой.
Николь Лоро показала, до какой степени трагедия несовместима с Аполлоном, особенно в ее дифирамбической, хорической музыкальной части. Платон, не любивший трагедию, критиковал музыку флейт за чрезмерное миметическое влияние. Отделенная от речи, такая музыка целиком лежит в области подражания звукам мира. Подражатель в принципе для него человек, который утрачивает свое Я и становится беспринципным всем: «…ничем уже не побрезгает, всему постарается подражать всерьез, в присутствии многочисленных слушателей, то есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра и града, и скрипу осей и колес, и звуку труб, флейт и свирелей – любых инструментов – и вдобавок даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц»[261]261
Платон. Государство (397, a-b) // Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3. Часть 1. С. 194.
[Закрыть]. Сам процесс мимесиса, не пропущенный через логос, делает подражателя вибрирующим инструментом, флейтой, тростником, что через экстаз парадоксально ведет к смягчению нравов: «– Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили; если он проводит всю жизнь то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопений, тогда, если есть в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железо, и ранее бесполезный, крутой его нрав может стать ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырежет прочь из души все сухожилия, и станет он тогда „копьеносцем некрепким“»[262]262
Там же (411, a-b). С. 214.
[Закрыть].
Сходным образом, воздействуя на зрителя, трагедия превращает его в вибрирующего носителя неустойчивых эмоций. В этом смысле трагедия противостоит Аполлону и внешне противостоит лирической поэзии, изначально восходящей к пению, сопровождающему игру на лире. Лоро показала, что хоры ранней трагедии чрезвычайно близки форме френа – threnos – то есть оплакиванию умерших, сопровождавшемуся звуками флейт. Френ – это музыка и ламентации, относящиеся к царству мертвых и противоположные гармонии и рациональности лирики. Лоро показала, что френос, будучи фригийским жанром, ассоциируемым с флейтой (и Марсием), противоположен гимну (humnos) и пеану (paian), относимым к аполлоническим жанрам. Она же показала, что в трагедии френ и эти жанры артикулированных словесных песнопений соединяются. Например, в «Царе Эдипе» наблюдается «одновременность пеана и ламентаций, возносимых Эдипу»[263]263
Loraux N. The Mourning Voice. An Essay on Greek Tragedy. Ithaca, 2002. P. 63.
[Закрыть]. Глубина аффективного воздействия флейт позволяет соединять плач с утешением. Как пишет Секст Эмпирик, такая музыка «является <…> и утешением в страданиях. Поэтому флейты и наигрывают мелодии для людей, находящихся в скорби, облегчая [тем самым] страдания последних»[264]264
Античная музыкальная эстетика. М., 1960. С. 213.
[Закрыть]. Гиперподражательность тут позволяет преодолеть боль утраты. В этой связи Лоро говорит об оксюморонной природе трагедии, соединяющей в себе несоединимое, например радость и печаль.
Она говорит о празднествах, где «те же крики поочередно, а иногда одновременно выражают радость и боль»[265]265
Loraux N. The Mourning Voice. P. 64.
[Закрыть]. Но для того чтобы этот трагический оксюморон состоялся, «голосовая оболочка» стенаний и радостных экстазов не должна быть дифференцирована в тот или иной женр словесности.
Трагический оксюморон возможен только на смешении френа и пеана. И именно флейта – несет в себе идеальное подражание стонам человека (как и звукам природы), в которых подавлена членящая рациональность слова. Именно в этом контексте, на мой взгляд, получает особое значение замечание Кьеркегора о том, что Сократ одновременно относится и к комедии и к трагедии. Гнев Аполлона, по мнению Диодора Сицилийского, был связан с пониманием того, что он проиграл соревнование в рамках чистого мелоса, без примеси рационализирующих слов. Флейта выигрывает там, где царит первоначальная мифическая амбивалентность. Диодор замечает, что после того, как он снял с сатира кожу, он «быстро раскаялся и пришел в отчаяние от содеянного им, он порвал струны лиры и уничтожил гармонию открытых им звуков»[266]266
Diodorus of Sicily (III, 59). Vol. 2. P. 275.
[Закрыть]. Порча лиры Аполлоном, конечно, перекликается с выбрасыванием флейты Афиной.
Как только мы выходим за рамки чистой вербальной рациональности и погружаемся в миф, оппозиции, столько важные для структуры языка, начинают утрачивать свою релевантность. Всё становится всем. И ясный репертуар ролей и идентичностей начинает испаряться. Это отсутствие установленных ролей хорошо видно на дальнейшей судьбе мифа об Аполлоне и Марсии в поэзии. Долгое время Марсий представал в поэзии как варвар, дерзко бросивший вызов богу поэзии и искусств[267]267
См.: Моисеева А. Две интерпретации мифа о Марсии: прародитель графоманов или отец поэтов? // Филолог. 2010. № 13. См.: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/ mpub_13_267; Моисеева А. Образ Марсия в русской поэзии ХХ – XXI вв. // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы V Всерос. науч. конф. (г. Пермь, 10 апр. 2017) / Отв. ред. И. И. Русинова. Пермь, 2017. С. 327–332.
[Закрыть]. Постепенно, однако, ситуация меняется, и Марсий все больше приобретает черты истинного поэта, противостоящего сухой рациональности и чванству Аполлона.
Максимилиан Волошин перевел на русский язык поэму Анри де Ренье «Кровь Марсия» (посвященную Стефану Малларме), в которой сатир – одинокий мудрый отшельник, переводящий звуки природы – вод и ветра в музыку:
На фоне Марсия Аполлон выглядит не особенно привлекательно:
В монологе Марсия, заключающем поэму, сатир однозначно утверждает свою победу над богом и говорит о гибели под ножом Аполлона как об освобождении вечных звуков природы от тленного и страждущего тела:
Поэма де Ренье может пониматься как своего рода поэтический манифест, в котором артикулированная речь классицизма должна уступить место мифу – природе, погруженной в сонорность без артикуляции и смысла.
В 1911 году Бенедикт Лившиц написал «Флейту Марсия», в которой точно так же отметается аполлонический дискурс в пользу марсиева «безумия»:
Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед —
Неверная. О Марсиевых ранах
Нельзя забыть. Его кровавый след
Прошел века. Встают, встают в туманах
Его сыны. Ты слышишь в их пэанах
Фригийский звон, неумерщвленный бред?
Еще далек полет холодных ламий,
И высь – твоя. Но меркнет, меркнет пламя,
И над землей, закованною в лед,
В твой смертный час, осуществляя чей-то
Ночной закон, зловеще запоет
Отверженная Марсиева флейта[271]271
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания. Л., 1989. С. 39.
[Закрыть].
Меркнущее пламя отсылает и к топосу поэтического пламени, и к алтарю-жертвеннику Аполлона, и к поэме де Ренье, в которой гимн Аполлона, сыгранный на лире, вставал «Над мирною и пурпурной землею. / А лира пела под руками бога, / Как бы охваченная nламeнeм…»[272]272
Ренье А. де. Соч.: В 5 т. Т. 5. Яшмовая трость. С. 372.
[Закрыть]
19. Спеленутость
Миф, как только он попадает в дискурсивное поле поэзии, несет в себе сильный импульс дестабилизации знака и значения. Он позволяет реверсию смыслов, отказ от установленности ролей, то есть от идентичности. Побежденные и победитель меняются местами, жертва палаческого ножа обретает право на вечность, в то время как вечный и бессмертный бог отступает в прошлое и исчезает в забвении, – бессловесный шум, носитель чистой миметической акустики, становится иерархически выше рациональной, артикулированной речи.
Вернемся к Гандельсману. В поэтическом цикле «Апории» он пишет: «Последовательность движенья – призрак, / стихотворенье движется к началу / себя…» (РС, с. 306), в том же стихотворении он развивает эту тему невозможности отрыва от истока, начала:
Стихотворенье движется напрасно,
и надо возвращаться к тем портьерам,
слегка колеблющимся, не рифмуя праздно.
К волчку, к вращению его с завывом…
(РС, с. 305)
Возвращение к истоку – это всегда возвращение к нерасчленнеости, недифференцированности, к предельной концентрации смыслов, которые еще не обрели развертывания в логосе. И эта тема спеленутости, свернутости смыслов к истоку появляется у Гандельсмана, начиная с его первого сборника «Шум земли». В одном из стихотворений цикла «Зима на Крестовском» Гандельсман обращается к собеседнику из «угольной ямы» – могилы и шахты, где добывают графит для письма, – как могильной утробы, в которой смерть и рождение еще не различимы:
Я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем,
только с тобою, ещё нерождённо-нежнеющим
во временнóм послезавтрашнем срезе, ты выуди
смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди
быть в этой угольной яме, безумной от копоти,
выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте
письменной речи…
(РС, с. 30)
Образ истока возникает в виде «спеленутого», как ребенок, «мертвого предка» (РС, с. 80). Это образ, в котором в мифическом времени, где смерть и младенчество еще не разошлись, встречаются младенец и мертвец. Поэзия обживает пространство первоначальной «тьмы», куда уходит речь, превращаясь в шум: «речь срывается в словесный шум, кишащий / самим собой <…> Речь раньше разума, невнятность не каприз, / но чуянье и призрак настоящий» (РС, с. 27).
Или:
Это есть облегание темы,
обступанье словесною тьмой
внутрь себя светоносного темпа
шевелящейся жизни одной,
ты её не поймёшь, не раскроешь —
так увит в скорлупе ото всех,
как свернувшийся моря зародыш,
закипающий грецкий орех…
(РС, с. 71)
Для Гандельсмана важен мотив свертывания, свитка, который не позволяет развернуться речи, постоянно отступающей к своему истоку. Тот еще не напечатанный сборник, бóльшая часть которого составляет «Велимирова книга», завершается циклом «Рождение новой жизни в свитках». Свитки во многом – часть наших представлений о дальневосточной культуре. И в цикле ей отдана дань. И действительно, например, в китайской поэзии «язык» и «мысль» никогда не развернуты до конца и пребывают в странном состоянии близости начала и конца. Элиот Уайнбергер пишет о том, что китайская поэзия мыслит себя как «фрагмент, реликвию, из которой человек выстраивает утраченное целое»[273]273
Weinberger E. Outside Stories 1987–1991. New York, 1992. P. 7.
[Закрыть], возникающее из руин. Новое рождается из утраченного и ушедшего. Отсюда и обращение к «так называемым пустым (бессмысленным) словам, через которые ch’i (дыхание или дух) должен циркулировать сквозь стихотворение, как ветер в руинах»[274]274
Ibid.
[Закрыть]. Дыхание жизни возникает там, где смерть оставила пустоты.
Цикл «Свитков» открывается «Свитком воды», в котором говорится о «водах, текущих вспять»[275]275
Гандельсман дает и конкретизирующий комментарий к этому образу: «Река Волхов иногда течет вспять. Сохранились древние писания, что такое явление наблюдалось в XIV веке. В апреле 2013 года повторилось это уникальное явление, когда течение Волхова повернуло в обратную сторону, а затем и вовсе остановилось» (ВК, с. 79).
[Закрыть], с очевидностью отсылающих к Разину Хлебникова. Как известно, Хлебников много фантазировал на тему уструга Разина, который плывет не только против течения речи, но и против течения времени[276]276
«На гордом уструге „нет-единицы“ плыть по душе Разина по широким волнам, будто по широкой реке, среди ветел и вязов, сидящих бакланов, среди плавающих баб-птиц, править челн поперек волне, поперек течению, избрав Волгой его судьбу, точно орел жестким клювом, оконченную плахой, но дав жизни другое течение, обратное относительно звезд над нею, перерезая время, наперекор ему, от калмыцких степей к Жигулям, плывя через шумящий поток его Я. И скрягой считать прозрачные деньги волн, плеск волн, когда призрачный уструг „нет-единицы“ тихо плывет по реке Разина поперек естественного течения природы времени его Я, в искусственном направлении…» (Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 567)
[Закрыть]. Разин же соединяется Хлебниковым с египетским Ра, на тему которого фантазировал и Гандельсман, когда писал о течении времени и спеленутости мертвецов. Этой спеленутости у Хлебникова соответствовала поэтическая форма «перевертеня», где каждая строка может читаться слева направо, а затем справа налево – к началу. Палиндром оказывается знаком обращенности стиха к истоку. Мартин Литчфилд Уэст приводит пример систематического нарушения общепринятого порядка слов в древней индоевропейской сакральной поэзии при общей ее формульности и отсутствии ориентации на новизну. По его мнению, речь шла о скрытой имитации «языка богов», маркированного дистанцией по отношению к «языку людей»[277]277
West M. L. Indo-European Poetry and Myth. Oxford, 2007. P. 76–77.
[Закрыть]. Само нарушение порядка дискурса ставит под сомнение линейность божественной речи в горизонте движения от прошлого к будущему. Время богов становится вечностью, не отличающей того, что было, от того, что есть и будет. Соссюровские анаграммы, о которых речь шла раньше, – не только сокрытие сакрального имени под несакральностью человеческой речи, но и конструирование иного (в смысле темпоральности и развертки) уровня значений.
Среди ранних вариаций Гандельсмана на мифологические темы есть текст, отсылающий к древневавилонской мифологии творения, в нем фигурирует прародительница мира богиня Тиамат. Этот текст повествует одновременно о погружении в первичный хаос – «ад» – и о возникновении нечленораздельной поэзии их хаоса:
Я тоже проходил сквозь этот страх —
раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, —
всех внутренностей, выгоравших
за единый миг,
и становился как пустой тростник,
пустой насквозь,
пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос,
я падал в ад,
точней во тьму иль в вашу Тиамат,
не находя,
где финиковый сад,
где друг умерший, где моё дитя,
где солнца жар,
где ты, спускающийся в Сеннаар,
где та река
и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
летучий дар.
Я этим жил на протяженье лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал
звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал прижизненно,
а зря или не зря —
поди измерь…
Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,
ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри – река,
смотри – над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!
(РС, с. 28–30)
Здесь погружение во тьму происходит одновременно с опустошением, с превращением тела в тростник, в тот пустой тростник, из которого сделана свирель Пана или флейта Афины-Марсия. Погружение во мрак – в первоначальность – происходит в Сеннааре (Шумере) – царстве Нимрода, к которому относились, как указывает Библия, «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне» (Быт 10, 10). По-древнееврейски Сеннаар – Шинар (שנִׁ עְ רָ Šin`ar) значит «страна рек». Реки, река играют существенную роль и в мифе о Тиамат и в тексте Гандельсмана. Существенно и то, что люди, поселившиеся в Сеннааре, еще говорили на едином «божественном» языке: «На всей земле был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там» (Быт 11, 1–2). И именно в Сеннааре была возведена Вавилонская башня, которая привела к исчезновению первичного языка и расщеплению архаического единства на искусственные наречия. Погружение во тьму – это погружение в мир, где еще не произошло отделению смерти от жизни, речи от нечленораздельных звуков.
Само пение тростника – созвучное мелосу флейты у Марсия – возникает из паров, поднимающихся от протекающей в потустороннем мраке реки. Река – становится прообразом истечения звуков. И эти звуки восходят через полый тростник с парами в том самом месте, где еще не произошло разделение языков, где не возникла «семиотика», отделенная от «семантики».
Следует сказать и несколько слов о мифологии Тиамат. Эта богиня – протагонист аккадского мифа о сотворении мира «Энума Элиш», который начинается так:
Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиамат, что все породила,
Воды свои воедино мешали.
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Тростниковых зарослей видно не было.
Когда из богов никого еще не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено[278]278
Цит. по: Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии / Сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова. М., 1981. С. 32.
[Закрыть].
Апсу в эпосе – пресноводный океан, а Тиамат соленое море, и от смешения этих вод происходит первоначальный хаос, который потом упорядочивается и открывает пространство творению. Вальтер Буркерт поясняет: «Ти-амат (Ti-amat) – это форма, встречающаяся в Энума Элиш для обозначения «той, кто всех породила». Аккадское слово, лежащее за ней, – tiamtu или tâmtu – обычное слово для обозначения моря»[279]279
Burkert W. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence оn Greek Culture in the Early Archaic Age. Cambridge, Mass., 1992. P. 92–93.
[Закрыть]. Но в том же эпосе встречается и форма taw(a)tu – Tawtu, которая точно транскрибируется как Thetys. Тетис (Тефида) – греческая богиня моря, прямо связанная с Талассой. Буркерт подробно анализирует связь этого аккадского мифа с греческой мифологией и называет выявленные им множественные параллели «рифмовкой имен»[280]280
Ibid. P. 92.
[Закрыть].
Тиамат известна благодаря ее антагонизму с богом Мардуком, который вызывает ее на поединок и убивает. Сначала он опутывает богиню Хаоса сетью:
В поединке с Мардуком, устанавливающим порядок в хаотическом мире[282]282
Торкилд Якобсен считает, что сотворение космоса из хаоса в этом поединке предстает как битва стихий – водной (Тиамат) и небесной – Мардук, которому подчиняются ветры, громы и молнии (Jacobsen T. The Battle between Marduk and Tiamat // Journal of the American Oriental Society. Jan.-Mar. 1968. Vol. 88. № 1. P. 106).
[Закрыть], Тиамат превращается в хтоническое чудовище (иногда говорят о змее), а Мардук становится аналогом Аполлона. Он использует стрелу – классическое оружие Аполлона – и взрезает тело Тиамат, раздутое ветрами и вихрями, почти так же, как Аполлон расправляется с Марси-ем или с чудовищем Питоном-Тифоном, гибель которого знаменует появление аполлонического Дельфийского оракула[283]283
Подробный анализ этой параллели см.: Fontenrose J. Python. A Study of Delphic Myth and its Prigins. Berkely-Los Angeles, 1959.
[Закрыть]. Я упоминаю об этом потому, что именно оракул оказывается инструментом перевода нечленораздельного языка гадания в артикулированную речь, в том числе и поэтическую. Пророчества оракула не опираются на установленную систему знаков и внятную рациональность. Как пишет Жан-Пьер Вернан, они «целиком принадлежат вдохновенному слову и предполагают подчинение человека богу. Поэтому они выглядят как безумие, сумасшествие, но божественное безумие…»[284]284
Vernant J.-P. Parole et signes muets // Vernant J.-P. et al. Divination et rationalité. Paris, 1974. P. 15.
[Закрыть]
До нас дошло множество историй непонимания оракулов (самая известная, это, конечно, Эдип). Человеческий ум систематически интерпретирует их искаженно. Оракулы постоянно предлагают толкователю двусмысленности, которые греки называли kibdēloi, игры слов, загадки, наталкивающие на неправильные разгадки. Речь идет о языковой неопределенности, неспособности языка обрести однозначность[285]285
См. об этом: Crahay R. La bouche de la vérité // Vernant J.-P. et al. Divination et rationalité. P. 208–217.
[Закрыть]. С чем связана эта неспособность «правильной» интерпретации и многозначность оракула? Ключом к этом вопросу могут послужить фрагменты Гераклита Темного, о котором говорили, что его высказывания стилистически воспроизводят оракулы Аполлона, и который сам считал себя пророком Аполлона. Оракульный текст обыкновенно состоит из двух слоев – поверхностного, доступного профанам, и глубинного. Как замечает по этому поводу публикатор и интерпретатор Гераклита А. В. Лебедев, в оракулах «мантический» код «надстраивается» над грамматическим, так как истолкование оракульного текста не исключает, а предполагает его предварительное правильное «членение»[286]286
Лебедев А. В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием фрагментов). СПб., 2014. С. 69.
[Закрыть].
Многозначность оракула сближает его с многозначностью физического мира, который для понимания требует такого же членения, как то, что предполагают грамматика и морфология языка.
Один из фрагментов Гераклита (27 (93)) гласит: «Владыка, чье прорицалище то, что в Дельфах, и не говорит /прямо/, и не скрывает, а подает знаки»[287]287
Там же. С. 154.
[Закрыть]. Эти знаки могут быть составлены в разные цепочки, войти в разные членения и дать правильное или ложное понимание. Лебедев так формулирует проблему: «Ошибка современных интерпретаций в том, что они понимали логос Гераклита как «логос чего-то“, то есть как принцип, закон изменения или „интенциональную структуру“ (Кан) реальности (мира), то есть как абстракцию. На самом же деле метафорическое выражение „этот логос“ референциально обозначает саму реальность, сам Универсум, но понимаемый на сигнификативном или иконическом уровне как „Речь“, или „Книгу природы“ (Liber Naturae). Оно означает „логос“ со всем богатством языковой и смысловой семантики этого слова, но обозначает „видимый мир“, непосредственно воспринимаемый чувствами»[288]288
Там же. С. 106.
[Закрыть]. В каком-то смысле в таком тексте язык еще не отделился от природы, не стал ее искажающим (в человеческом сознании) зеркалом и референтной структурой. Знак и реалии тут еще слиты воедино.
Любопытно и то, что в античных грамматиках (например, в самой древней из дошедших до нас – Дионисия Тракса) речь разбивается на артикулированные единицы, к которым относятся 24 буквы (γράμματα) от α до ω, а также элементы (στοιχεῖα), восходящие к стихиям, из которых, по убеждению еще досократиков, составлена материальная сторона мира. Эти элементы (подобно линиям и штрихам, из которых составлены буквы) «складываются в серии στοιχός) и конфигурации»[289]289
The Grammar of Dionysios Thrax. St. Louis, MO, 1874. P. 5.
[Закрыть]. Питер Хуго Мэтьюз объясняет, что, в отличие от графов, элементы ответственны за создание звуковой материи речи, «артикулированного вокального звука», обладающего силой воздействия на материю и способностью создавать формы. Именно элементы благодаря тем комбинациям, в которые они могут вступать, и заключенные в них силы создают материальность звучащей речи[290]290
См.: Matthews P. H. What Graeco-Roman Grammar Was About. Oxford, 2019. P. 42.
[Закрыть]. В принципе буквы и элементы призваны совпадать, хотя их различение уже говорит о возможности двусмысленности.
В качестве примера Гераклитового «логоса» я хотел бы привести знаменитый афоризм (29 (51)) о сходстве лука и лиры – двух принципиально аполлонических аттрибутов: «Они не понимают, как враждующее между собой находится в согласии, единое: наоборотный лад (гармония), как /лад/ лука и лиры»[291]291
Лебедев А. В. Логос Гераклита. С. 154. «Согласие» у Гераклита «гомо-логия», как поясняет Лебедев, «едино-словие».
[Закрыть]. Этот афоризм возникает в контексте гармонии и тождества противоположностей, которые нам легче всего понять в категориях искусства, гармонии, песнопения, мира (лира) и разрушительной войны (лук). Лебедев поясняет: «…единственно правильное понимание сравнения было известно Симпликию, который говорит в „Комментарии к «Физике» Аристотеля“, что согласно Гераклиту „добро и зло совпадают в одном наподобие лука и лиры“ <…>. Каким образом лук и лира могут „совпадать“ или сливаться в одном? Интерпретация Симпликия наводит на мысль, что тут имеются в виду некие графические символы лука и лиры, которые могут „сливаться“ таким образом, что становятся неразличимыми. Гераклитовский закон нерасторжимого единства противоположностей иллюстрируется сравнением с „ламбдообразными бревнами“ (λαβδοειδή ξύλα), то есть стропилами, которые держат крышу дома, упираясь друг в друга: при обрушении одного из них рушится и второе. <…> Лямбдообразный символ Λ может ассоциироваться не только со стропилами или с рукопашным „сцеплением“ борцов (как у Гомера), но и быть схематическим изображением лука в нормальном положении или лиры – в перевернутом положении»[292]292
Там же. С. 300.
[Закрыть]. Эта «наоборотность» сродни перевертням и палиндромам Хлебникова.
Аполлон, владеющий и луком и лирой, знает, что стоит перевернуть лук – и он превращается в лиру, и наоборот, а это означает обратимость войны и мира и их принципиальную нерасторжимость, так как и то и другое вписано в начертания одной буквы. Вещь, состояние общества и письмо нерасторжимы, между ними нет простой референтной связи, они физически вписаны друга в друга, и членение (или переворачивание) одного автоматически приводит к переворачиванию другого. Лук и лира – инструменты, но и знаки оракульного текста Аполлона. Эта нерасторжимость мира и текста сближает песнопения Аполлона со звуками воды и ветра, производимыми тростником и флейтой Марсия.
Elementa (stoikheia) Марсия тут сближены с lit(t) erae (grammata) Аполлона. Элементы – это материальные стороны речи, существующей в мире наряду с иными материальными вещами и поддерживающей связь с физическим миром. Но между миром и текстом проявляется и существенное различие. Звук флейты не знает артикуляции и членений, а знаки Аполлона имеют и то и другое, а потому могут меняться местами, производить ложную видимость и становиться объектом интерепретации. Речь тут идет все о той же проблеме членения нерасчленимого акустического потока, над которой ломали голову Соссюр и Якобсон. Явление артикулированности, то есть языка как носителя смысла, – всегда чревато ложью и непониманием. Появление аполлонических, «знаковых», текстов позволяет и бесконечную неправильность их интерпретации, а следовательно, мир ложных видений и самообмана, которым систематически занимаются посетители оракулов. Олимпийцы и их оракулы возникают в зазоре между миром и текстом. Ницше писал об изобретении греками «искусственного посредующего мира олимпийцев»[293]293
Ницше Ф. Рождение трагедии / Сост. А. А. Россиуса. М., 2001. С. 77.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.