Текст книги "Златоуст и Златоустка"
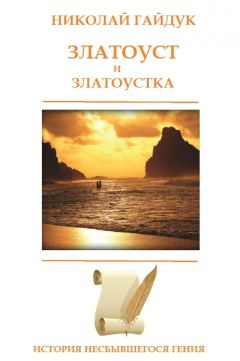
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава третья. Любовь на бересте
1
Весна в том далёком приснопамятном году пришла на землю раным-ранёхонько. Получилось, как в той поговорке: не глядя в святцы да в колокол бух. И птицы раньше срока прилетели, и цветы из-под снега так дружно проклюнулись, будто сговорившись. Заголубели подснежники. Жёлтыми чашечками закрасовался весенник, светло-синие ирисы, хохлатки, весенний морозник. И воздух над полянами, над перелесками, густо напоённый медовым ароматом, бродил, как брага, охмелял, охмурял.
Ой, да что там говорить! В крови кипела юность и весна, и парень втрескался в одну пригожую красу, которую случайно повстречал в родном лесу, где жил семнадцать лет, молился колесу. И все думы теперь были только о ней. И не простые думы были, нет. Стихи в голове зазвенели. А как же иначе? Любовь окрыляет, любовь поднимает к звёздам и солнцу, и человек невольно становится поэтом…
Парня звали – Иван Простован. Ивашка, петухом расшитая рубашка. Он был «не здешний». Он был подкидыш. Приёмные родители нашли мальчонку в грозовую июльскую ночь где-то под ракитовым кустом, где он кричал, как недорезанный острыми ножами молний. И то, что он теперь бумагу стал изводить почём зря – не удивило приёмных родителей. Был бы родной, тогда бы рты разинули: откуда в нём такой талан? А подкидыш – тёмная лошадка. Да и вообще баловство такого рода – сочинения да песнопения – деревенская жизнь испокон веков не признаёт; этим не прокормишься. Короче говоря, никто из домашних не заинтересовался виршами – все озабочены были добычей хлеба насущного. Только дед проявил любопытство, да и то, скорей всего, от скуки.
Это был могутный, колоритный дед Илья, дед Мурава – седая бородища у него была иззелена, словно сухой травой лицо обмуровало. Похожий на былинного Илью Муромца, дед подолгу просиживал на русской печи, газетки, журналы штудировал.
С трудом разобрав почеркушечки внука, дед ухмыльнулся в зеленоватую бороду.
– Ох, парень, ты и врать горазд! – басовито похвалил, по-богатырски глядя из-под руки. – У тебя такие перлы получаются, должно быть, от того, что перловки обожрался.
Внук похлопал синими, наивными глазами – длинные ресницы врастопырку.
– А что, дед? Плохо?
– Ничего, – сдержанно ответил критик. – В темноте под одеялом можно той царевне почитать.
Они посмеялись. Дед посоветовал печь протопить этими перлами и успокоиться. Но Ивашка был настроен по-боевому.
– Хочу поехать в Стольный Град!
Дед, «разинув бороду», с печи едва не грохнулся.
– Ты чо, сдурел? Зачем это – за тридевять земель?
– А пускай пропечатают!
– Ну? И што? Обзолотишься? Парень помолчал, глядя в окно.
– Тогда она узнает, что Ванька не дурак, и согласится замуж. Над переносьем деда крупная морщина прострочила.
– Постой, милок! Постой! Ты про кого гуторишь? Ты на ком жениться вздумал? А? – Дед седую молнию метнул из-под бровей. – Давай, рассказывай, кто она такая, твоя краля?
– Да я и сам пока не знаю, – с грустью сказал Ивашка. – Они обретаются где-то в тайге, в потаённом местечке. Я случайно увидел. А теперь вот найти не могу.
2
Искать пришлось долго, упорно. Подкидыш забросил работу на кузнице – дремучую тайгу вдоль и поперёк исходил в окрестностях и за перевалами. Жить в одиночестве и под открытым небом – не то, что в кузнице, пропахшей гарью! – понравилось. Вольная воля кругом. Ветровей. Красота. И ничуть не пугали зеленовато-тёмные, в упор смотрящие глаза тайги; косматые урманы, откуда пахло звериным логовом. Даже в самом страховидном месте, где у любого охотника душа замирает в предчувствии близкой опасности, – Ивашка вёл себя так, будто пришёл домой, где можно беспечно разуться, рубаху и портянки просушить возле костра, похлебать ушицу и поспать на свежей хвойной перине.
И день, и ночь искал он свою любовь, мечту и наваждение – будто иголку в стогу. Не скоро, но всё же «иголка» нашлась – сладкой болью проколола сердце. «Как теперь к ней подступиться?» – кручинился парень, сидя над рекой и глядя в сторону заимки, хорошо запрятанной в пазуху тайги.
Заимка эта много лет тому назад пустила корни за перевалами – в потаённом, укромном местечке, окружённом скалистым «забором» и непроходимым чернолесьем. Заимка скромная – приземистый сосновый теремок, дощатый сеновал да небольшая пасека на островках у Золотого Устья; там после первых весенних солнцепёков и до самой осени попеременно красовались какие-то изумительные цветы, в чашечках своих таящие медвяную пыльцу, похожую на капельки мёда.
Он уже знал: на заимке проживают старообрядцы – соблюдают «истинную» веру, молятся о спасении бессмертной человеческой души, опасаясь прихода Антихриста. Затаившись неподалёку, парень смотрел на заимку и думал: «Эти кержаки даже на порог меня не пустят. Ещё, гляди, собаками затравят. Придётся караулить, делать неча…»
В густой сухой засаде – в кустах шиповника, в кондовых соснах – комаров кормить пришлось; а вслед за тем нагрянули дожди, и он ушёл, не солоно хлебавши, – даже издали не смог увидеть свою царевну. Однако же характер был настырный. Ходил и ходил на заимку. И вскоре обнаружил тёмную баньку, потаённо стоявшую в берёзах на берегу. Стал караулить, когда затопят, когда можно будет, по-воровски пробравшись по кустам, посмотреть в золотое потное оконце, за которым волшебным цветком распустился огонь керосиновой лампы. Сердце бешено билось в такие минуты – отчаянно толкало к потному окну. Подкидыш понимал, что могут быть собаки – налетят, разорвут на куски; или выйдет на крыльцо белобородый кержак – саданёт из ружья. Понимать-то понимал, но ничего с собой не мог поделать – молодая кровь ковшами кипятка обжигала башку, наполняя душу и тело каким-то угарным томлением. Парень весь как будто разбухал, и «разбухание» это начиналось где-то внизу, в паху, а вдогонку за этим и сердце уже разбухало, и голова – со знание туманилось. И вот однажды, когда он находился в таком необычайно «разбухшем» состоянии – кто-то сзади подкрался к нему и тяжёлой рукой попытался схватить за плечо. Рука кержака показалась пудовой, железной – Ивашка вздрогнул, подскочил и, не раздумывая, со страшной силой молотобойца треснул по мохнатой морде кержака. Приглушённо зарычав, кержак взмахнул короткими руками и упал – прямо на свет, лежащий под оконцем. И в следующий миг волосы у парня зашевелились от ужаса. Этот кержак – сутулый и громоздкий – оказался ручным медведем, которого держали на заимке вместо сторожа. Это был Дядька Медведь – Медведядька, так его звали.
После этого случая Подкидыш зарёкся приближаться к заимке, но упрямой затеи своей не оставил – подкараулить царевну. И это удалось ему июньскою порой, когда старообрядцы вышли на травокос – неутомимо, проворно литовками состригали молодое разнотравье вперемежку с дикими и дивными цветами, распугивали стрекоз, бабочек, шмелей и пчёл. Теперь-то Ивашка знал, что есть у кержаков надёжная и страшная охрана – Медведядька. И поэтому Ивашка загодя «вооружился» на всякий случай. С ним теперь ходила по тайге «немногословная», умная лайка, способная издалека учуять запах медведя. Запах тот – и зимой и летом одним и тем же цветом; настолько сильный, крепкий, что даже самый смелый жеребец иногда не решается переступить через свежий косолапый след. Ивашка – не раз и не два – был свидетелем того, как лошади вприсядку танцевали и от страха грызли удила на дороге возле деревни, где ночью побродил громадный зверь, а поутру люди не могли на кузницу проехать.
Однако у ручного Медведядьки в тот погожий день был выходной – так позднее шутил Ивашка, не зная, как объяснить своё невероятное везение.
Возле потаенного Золотого Устья дивчина оказалась одна. После покосной работы – не спеша, блаженно – девушка купалась, нежилась в тёмно-синей запруде, где серебром сияли звёзды белых лилий. Он подкрался к той запруде и…
И что там было дальше – на берегу под плакучими ивами – даже под пытками он никому и никогда не рассказал бы, нет. Любовь – это сказка и тайна, которую знают только два влюблённых сердца на земле. Ни словечком он не обмолвится, только щёки порой красноречиво будут говорить, краснея как два помидора, при одной только мысли о ней. При воспоминании о том, как она – царевна Златоустка! – выходит из воды и стоит на солнечном песке, одетая в одно лишь «драненькое платьице» – лёгкую и трепетную тень плакучей ивы, игриво дрожащую на покатых, загорелых плечах, на спелых яблоках грудей, на тонкой талии и ниже, ниже…
Помирать он будет, не забудет, как над головою в чистом небе горячо и судорожно вздёрнулась белая молния, видная только ему одному. Затем угрюмо бухнул гром, слышный только ему одному. И ослеплённый, и оглушённый этой небесной красотой, парень упал на колени, как дикарь пещерного столетия, свято почитающий грозную богиню. Доходя до неистовства, он головой – воспалённым лбом – несколько раз ударился о берег и начал целовать её следы в песке, продырявленном крупными дробинами воды, скатившейся с её длинных волос, похожих на царские кудри – цветы неземной красоты. Подкидыш был готов не только землю целовать – готов был камни грызть, чтобы хоть как-то, хоть чем-то подкрепить бессвязные, бессильные слова о своей огромной и всепоглощающей любви, о верности на веки вечные.
Вот об этом Ивашка и попытался кое-что нацарапать «на бересте», как говорили те, кто видел парня возле реки, где он сидел на пеньке, грыз карандаш.
– Был нормальный Ванька, а стал Иван-дурак, – горевал сердобольный народец в округе. – Скоро все берёзы обдерёт. Целыми днями бересту изводит.
3
Солнце над горами понижалось – косые красноватые лучи половиками задрожали возле порога и возле печи, на которой восседал дед Мурава. Деревенский этот Илья Муромец по натуре был человеком добрым, но грубоватым – долгое время работал лесничим, привык дубиною махать, соловьев-разбойников по лесам гонять.
– Царевна, говоришь? – Дед поглядел на писульки внука. – Да какая там, на хрен, царевна? Что я не знаю этих кержаков? Какие там хоромы и дворцы? Ну, пасека у них, ну, медогонка. И что? Да она такая же царевна, как я – царь Горох.
– Много ты понимаешь! – Ивашка забрал писанину. – Считай, что не показывал…
– Ну-ну, не серчай! – примирительно сказал бывший лесник. – Если в наших сказках даже простая лягушка – царевна, дак почему бы и нет? Это я согласен. А вот замуж за тебя она не хочет потому, что не слепая.
Подкидыш походил по горнице и, остановившись напротив зеркала, мрачновато посмотрел на свою физиономию – скуластую, кое-где побитую щедринами. Посмотрел – как на чужого, которого маленько недолюбливал. Высокий и широкий лоб, ещё не потревоженный морщинами, казался чересчурным – поросят можно бить, как шутят в деревне. Большие синие глаза, подёрнутые поволокой, казались девчачьими, и потому Ивашка время от времени старался глядеть хмуроброво, с суровинкой. Волевой подбородок был ему по душе. А вот эти жиденькие усики – два ржаных колоска над пухлой губой, говорящей о доброте и нежности – эти колоски ему не нравились; хотелось, чтоб скорее они заколосились, прибавляя парню возраст, придавая мужественный вид.
Отворачиваясь от зеркала, он поддёрнул штаны.
– А что? Симпатичное хрюкальце! И вообще… В школе нам говорили, что Лев Толстой по молодости был некрасивым, неловким и застенчивым.
– Эва, куда ты хватил! Не высоко? – изумился дед. – А скоко у Толстого было ребятишек? Я прочитал тут, в газетке. Он их много настрогал своим рубанком. А ты?
– И я настрогаю!
– Дурное-то дело не хитрое, внучек. Я не об этом пекусь. Как ты прокормишь детишек? Ты ведь, Ванька, оболтус. Ты вот на рыбалке был позавчерась, полную лодку рыбы натягал. А что опосля? – Дед нахмурился. – На кой чёрт отпустил?
Ивашка удивлённо вскинув брови.
– А ты откуда знаешь?
– Вся деревня знает. Кто-то с берега видел, растрезвонил. Вот зачем ты рыбу отпустил? Пуда полтора или все два?
Простован в окошко посмотрел – в сторону реки.
– Жалко стало. Как-никак живая тварь…
– Живая! – Дед сердито крякнул. – Ладно. Едем дальше. Вот зимой ты на белку пошёл. И чего? Снова жалко?
– Ну, а ты как думал? Она такая кроха, а мы ей – пулю в глаз.
– Тьфу на тебя! – Дед обескуражено покачал головой. – Да лучше ты ей пулю в глаз, чем она тебе орехи будет грызть!
– Какие орехи?
Запрокинув кудлатую голову под потолок, дед неожиданно расхохотался.
– Был один знакомый у меня. Соловей-разбойник в тёмном лесе. После работы на большой дороге он на радостях нажрался бражки, да и заснул голышом под сосной. А белка-то поблизости жила. Дак она ему чуть было все мужицкие орехи не отгрызла…
Синие глаза Подкидыша бестолково хлопали длинными ресницами, точно взлететь хотели.
– Чо ты буровишь, дед? Я не пойму.
– Вот то-то и оно. Когда созреешь, тогда и можно будет с тобой гуторить. – Становясь серьёзным, дед глазами показал на писанину. – Чем ты собираешься кормить своё семейство? Вот этими перлами на бересте? Дак эти перлы, милый, никогда не станут перловой кашей.
– А скоко я ореха из тайги притарабанил? А грибы? – перечислял добытчик, загибая пальцы. – А коренья? А мумиё…
– Дак я тебя за это не корю. Живёшь тайгой, вот и живи, не рыпайся. Не суй свой нос, куда собака хобот не совала.
Помолчали, слушая старинные ходики, размеренно шагающие в сторону летнего вечера. За окнами шум нарастал – усталые люди с полей возвращались: кто пешком, кто на телегах. В тишине за поскотиной ботало чуть слышно побрякивало – коровы шли домой. За деревней закат догорал – горсточка багряно-малиновых углей мерцала на горизонте. Сумерки стали сурьмиться по дворам, по улицам. Берёзы под окошком посинели, точно озябли, хотя на дворе было жарко – листва на деревьях поникла; уши лопухов скукожились возле ограды.
Как ни старался жизнью умудрённый дед – не переломил упрямство внука.
– Нет! – Подкидыш исподлобья уставился в туманные дали. – Поеду в Стольноград! Пускай пропечатают!
Приглушённый говор за стеной раздался, кашель. Дед головой встряхнул, потыкал пальцем:
– Вон батька пришёл. Он тебе съездит… по ушам, по загривку.
– А я не для того тебе рассказывал, чтобы ты ябедничал. Сокрушённо вздыхая, дед прилёг на печку, руки за голову заложил. Надоело внука образумливать.
– Баловство это, Ванька. В такую даль тащиться – одуреешь.
Это скоко суток пыхтеть на паровозе?
– На паровозе долго. Вот если бы на самолёте…
– Так на ём, поди, дорого? На ковре-самолёте.
– Дороговастенько. В том-то и дело. А то б я давно умотал. Дед Мурава помолчал, глядя в пол, задумчиво царапая зеленоватое сено своей бородищи. Затем сосредоточенно уставился в серебристо-синий потолок, точно в бездонное небо, по которому мчался ковёр-самолёт. И вдруг он заворочался, потрескивая хворостом хворых сухожилий и суставов.
– Эх! – отчего-то веселея, дед свесил ноги с печки. – Хрен с тобой! И чего не сделаешь, любя… Может, я чего не понимаю в этой твоей писанинке. Может, оно и правда хорошо. Там-то люди грамотные. А ну, как в люди выбьешься, в писателя. – Дед нажал на букву «я». – Хэ-хэ. Дам я тебе денежку. Мне отвалили пенсию на днях. Я ведь не зря всю жизнь дубиною своею груши околачивал, соловьёв-разбойников по лесам гонял.
Жиденькие усики Подкидыша – два ржаных колоска – озарились улыбкой.
– Вот спасибо! Я отдам! – поспешно заверил. – Я непременно…
– Ты матери с отцом, гляди, не проболтайся, а то они всю плешь мне прогрызут. – Дед закряхтел, вытаскивая деньги откуда-то из-под тулупа. – На, держи. Да тока положи куда подальше, чтоб не спёрли…
Всю ночь не спал Подкидыш, волновался. Да и как иначе-то? Он всей душой, всем сердцем чуял: что-то начинается в его судьбе, что-то новое, необычайно радостное, хотя и тревожное.
4
Всё, что с нами в жизни приключается впервые – да если ещё в детстве или в юности, – тогда любое мало-мальски хорошее событие становится почти что эпохальным, о котором трудно рассказать без частокола восклицательных знаков!!!
Примитивный самолёт, фанерный «кукурузник» в глазах Подкидыша превратился в ковёр-самолёт, расшитый серебром и золотом. Распугивая коров, пасущихся неподалёку, надсадно тарахтя движком на взлёте и подпрыгивая на неровной земляной полосе, ковёр-самолёт разогнался, поднялся, вихляясь на встречных воздушных потоках – и воспарил под облака. И вот тогда Подкидыш первый раз глядел на землю глазами птицы. Он залюбовался голубыми этими горбатыми предгорьями, похожими на две больших ладони, в которых крепкими груздочками белели березняки, плотной стеной стояли зеленохвойники из пихтачей, из кедрачей и сосен; светлой жилкой трепетала река, вдоль которой прилепились домики деревни Изумрудки.
Утреннее солнце на гористом горизонте было похоже на кузовок, в котором с горбушкой насыпано багрово-малиновой ягоды. Незримая чья-то рука приподняла кузовок над горами и опрокинула. И побежали вприскочку, покатились ягодки по перевалам, по увалам, по лугам и покосным полянам. И заиграли, запрыгали яркие ягодки, умываясь росой, беспечно резвясь и ликуя на пороге нового дня. И золотыми листьями вспыхнул заревой огонь по ручьям, по рекам и озёрам. И невозможно было передать восторг, бушующий в груди человека. Радостное сердце то вдруг замирало где-то под рёбрами, то начинало вырываться из-под рубахи…
Рыжий какой-то, хозяйственный мужичонка, проживающий в Изумрудке, тоже в город летел. На коленях у него стояла плетёная корзина, в которой колыхался белый толстый цветок с оранжевым лепестком – жирный гусь в корзине восседал, бестолково пялился на землю, проплывающую далеко внизу; гусь, наверно, удивлялся тому, что он крыльями не машет, а всё равно летит под облаками…
«Домашним уткам и гусям крылья подрезают!» – вспомнил Ивашка, испытывая странную жалость к этому обескрыленному гусаку и одновременно к этому рыжему односельчанину.
Летели не долго. Совершили посадку на окраине старого областного центра. Городской аэропорт, расположенный среди полей, заметно отличался от сельского; здесь коровы не паслись рядом с самолётами, здесь и травы-то не было на лётном поле – кругом асфальт, размеченый белыми и жёлтыми полосками, фонари на асфальте, точно большие красные цветы.
Тут нужно было делать пересадку. Ивашка потолкался от одного стеклянного скворечника к другому – купил билет. Подождав немного, двинул на посадку в самолёт, гудящий гигантским гудом. Этот «летающий дом» вызывал не только восхищение – жутковато становилось. Такой громоздкий лайнер, мама родная. Да как же он взлетит? А ну-ка навернётся?..
Озираясь по сторонам, Ивашка понемногу стал утрачивать беззаботно-восторженный пыл. Тоскливо становилось, неприютно.
И вдруг знакомый лётчик повстречался – Маковей Литагин.
– Звездолюб! – едва не закричал Подкидыш, так обрадовался.
Бравый, жизнерадостный Маковей Литагин родился и вырос в Изумрудке. Он ещё в подпасках – лет, наверное, в семь, стал неисправимым звездолюбом. Когда мальчишки с бородатым дедом выгоняли лошадей в ночное, Маковейка не сидел возле костра, не слушал байки – постоянно лежал где-нибудь в стороне на травушке, созвездьями любовался. Вот с тех пор и прилипло к нему – Звездолюб. Скуластый, бровастый, с небольшой курносинкой, открытого нрава и громкого говора – Маковей Литагин отличался пронзительной какой-то, редкой синеглазостью; точно ангел слетел с небес, чтобы людей научить обращаться с ковром-самолётом. Ивашка и раньше встречал Звездолюба – приезжал к родителям в деревню. И всякий раз, когда Подкидыш видел нарядного лётчика – особенно, когда вблизи – сердце блаженно обмирало; смотрел, не мигая, почти не дыша. И где-то в подсознании Подкидыша всякий раз невольно отмечался тот странный факт, что вся родня Литагиных – от мала до велика – в земле копаются, в навозе. А Звездолюб – с малолетства задира и неслух – взял да в город уехал, чтобы выучиться на лётчика, который дерзновенно ходит-бродит по облакам и около ясного солнышка, ясного месяца. «Наверно, он тоже подкидыш! – думал Ивашка. – А иначе в кого он такой?»
Заметив парня, Звездолюб остановился и начал расспрашивать, куда Ванюха лыжи навострил.
В руке на отлёте поднебесный «ангел» по-щегольски держал тёмно-голубую новую фуражку из чистошерстяной материи на шёлковой подкладке. Двубортный тёмно-голубой костюм был подогнан по фигуре Звездолюба. Ослепительно-белая сорочка, чёрный галстук, чёрные полуботинки – всё было идеально чистым, выглаженным. «Жених!» – говорили про Звездолюба, холостяка со стажем.
Собираясь отойти от земляка, Литагин поинтересовался, какой у него номер рейса и подмигнул:
– Со мной полетишь. Прокачу с ветерком.
После этой встречи Подкидыш приободрился – возвратилась прежняя уверенность в том, что он всё правильно затеял. Надо брать пример с таких, как этот дерзновенный Маковей Литагин.
Волшебный «ковёр», на котором предстояло воспарить, – самолёт Ту-134 – в просторечии назывался весьма прозаично: «Свисток», «Стиляга» и «Туполёнок». В ту далёкую пору это был один из самых знаменитых пассажирских лайнеров – первый реактивный самолёт родного Отечества.
Простован по-мальчишески был восхищён этим лайнером, таким роскошным, таким огромным: между креслами ходила симпатичная девица в синей пилотке – стюардесса, раздававшая леденцы.
Сжигая чёртову уйму керосина – как это всегда происходит на форсаже – Ту-134 пронзил облака, укрывающие небо над аэродромом, и Простован увидел «вторые небеса», солнечные, гладенькие, сияющие лазурью, которая бывает лишь на картинках. Приподнимаясь, парень посмотрел в иллюминатор и ощутил сладко-леденцовый холодок под ложечкой. Самолёт, напрягаясь могучими жилами, взлетел уже настолько высоко, что земля затуманилась где-то внизу. В слезинки превратились озёра на полях. Гордые горы присели-присмирели, бугорками скромными прикинулись. Зелёная долина, как скатерть-самобранка, в лоскуточек скрутилась. Деревни, сёла, города – всё стало детской забавой с той высоты, с которой на землю смотрит сам Господь Бог.

Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































