Текст книги "Златоуст и Златоустка"
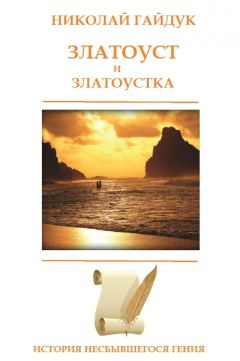
Автор книги: Николай Гайдук
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава пятая. Черновик и Музарина
1
Сусальное золото с куполов по капельке сочилось, янтарной смолою сползало с колоколен. От жары изнемогали не только люди, птицы и деревья – бронзовый какой-то памятник на площади до того размягчился, даже руки по швам опустил, бронзовую шляпу на землю обронил. От полуденной жары трещали камни на мостовых. Жестокий солнцежар сожрал почти все тени возле домов и деревьев – негде укрыться. Только одно тенистое мелкое рваньё лежало под кустами, под фонарным столбом. Раскалённый воздух, свирепый как пчела, позванивал под ухом и норовил ужалить даже сквозь одежду. Мороженое в тот день и в тот час пользовалось необыкновенным спросом, да только вот беда – шоколадные и сливочные брикеты очень скоро таяли в руках, сладкими струйками стекая под ноги. Газированная вода в автоматах сделалась похожа на приторный чай. А желтопузые бочки, на которых написано «Холодный квас», до того нагревались, хоть пиши – «Кипяток».
Наклоняя голову, точно болванку, зажатую калёными клещами, юный гений побито поплёлся вдоль берега мутной, малоподвижной реки, зеленоватой местами, а кое-где заржавленного цвета. Белыми лилиями там и тут виднелись рваные бумажки, стеклянными поплавками торчали бутылки. Река эта, почти убитая людьми, придушенная гранитными берегами, на солнцепёке дышала такой благовонностью – ни напиться, ни утопиться, ни искупаться, по крайней мере.
Зверская жара, да плюс ещё издательские черти, измордовавшие парня, да ещё потеря денег – всё это сделало своё чёрное дело. Давление подскочило – вертикально вздувшаяся жила перечеркнула широкий и высокий лоб юного гения. Большие синие глаза с туманной поволокой сделались какими-то задымленными. Заунывный звон по-над ухом стал рассыпаться, точно тройки с бубенцами проносились где-то по берегу. В глазах зарябило, затем потемнело. Он опустился на камень возле реки и застонал, обхватывая голову руками.
И вдруг по-над ухом почудился голос – уже знакомый:
– Крепись, Иван, крепись!
Он содрогнулся. Часто-часто моргая, осмотрелся, но никого не увидел, только одинокая пчела жужжала, проверяя пыльные чашечки цветов, да воробей с открытым клювом под деревом сидел, полоумно глядя на человека.
«Померещилось…»
Но через несколько секунд голос повторился.
– Кто здесь? – тихо спросил Подкидыш, глядя в пустоту. – Вы где?
– Я рядом. Не видишь? А ты в ладоши три раза хлопни, и я перед тобой – как лист перед травой.
Поначалу он хотел отмахнуться от такого совета, какой бывает в сказках, а затем – почему бы и нет! – вяло хлопнул.
И тут же неподалёку замаячило небольшое чернильно-грозовое облако, сквозь которое просвечивало солнце. Подкидыш зажмурился. А когда опять открыл глаза – тёмное облако обернулось черномазым стариком, который потоптался лаптями по воздуху и плавно опустился на бледно-зелёную травку. «Не может быть!» – Ивашка опять зажмурился.
А старик тем временем слегка поклонился и тряхнул головой:
– Позвольте представиться. Старик-Черновик. Чернолик. Оруженосец от литературы. Ваш покорный слуга. Азбуковед Азбуковедыч. Абра-Кадабрыч. Пушкин меня звал Абрам Арапыч. Достоевский говорил, будто я похож…
Винегрет из имён перемешался в голове Подкидыша, только имя Пушкина знакомо зазвенело.
– Пушкин помер, – прошептал он, сам уже готовый умереть от жары.
Черноликий старик погрозил указательным пальцем, испачканным химическими чернилами.
– Классики не умирают, молодой человек. Это, во-первых. А во-вторых, я же не сказал, что это было вчера. Это было при жизни Солнца русской поэзии. Видишь, как я загорел под этим солнцем. Так загорел, что меня эфиопом считают.
Голова у Подкидыша так разболелась, что каждое слово молотком по голове стучало.
«Что он болтает? Пьяный, что ли?»
Абра-Кадабрыч ухмыльнулся, и что-то сверкнуло во рту у него.
– Кто? Я? Да ни в одном тазу! – твёрдо заявил он. – Я с тобой хотел маленько тяпнуть. По случаю знакомства. – Старик-Черновик покопался в кармане и вытащил флакон с химическими чернилами. – Ну, так что, Иван-царевич? Со свиданьицем!
Простовану чуть дурно не стало, когда посмотрел на чёрный флакон.
– Вы пьёте эту гадость?
Запрокинув голову, черномазый рассмеялся, и во рту полыхнул крупный зуб, напоминающий золотое перо от самописки.
– Ну, ты меня расхохотал. Шуток, что ль, не понимаешь? Да я бы давно уже сдох от чернил. – Помолчав, старик вздохнул, мечтательно глядя куда-то за реку. – Пушкин меня шампанским угощал. Лермонтов винишком на Кавказе баловал. Гоголь, тот всё больше горилку предлагал, да сала шмат. Представляешь, парень, если бы я с каждым классиком квасил? Я – Старик-Черновик – до белой бы горячки докатился. И тогда уж точно бы чернила пил как конь на водопое в такой вот жаркий полдень. Ха-ха. Ну, пошли отсюда. Пошкандыбали. А то плохо мне на солнце, Ваня. Прямо скажем, хреново, сынок. Я же всё время прячусь в тени. В большой тени от гения. Нет, нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Такая моя планида. А ну-ка, пойдём вон туда…
Оруженосец поманил его куда-то вдоль берега, и вскоре они оказались у голубовато-сизого, уютного заливчика, откуда потянуло свежим воздухом, напоминающим разрезаный арбуз.
2
Неподалёку в тени деревьев жаворонком журчал питьевой фонтанчик, искусно вмонтированный в камни. Подкидыш умылся, напился и почувствовал себя гораздо лучше. И только тогда взялся внимательно рассматривать оригинального оруженосца от литературы.
Старик-Черновик был похож на средневекового странствующего рыцаря в чёрном плаще, на котором красовалась яркая заплата, где поэтической вязью было начертано: “СЛАВЬСЯ”, а немного пониже, другим уже почерком: «НАРОД-ЗЛАТОУСТ». В руках оруженосца блестело большущее золотое перо – величиной с карабин. Долговязая борода Абра-Кадабрыча смолистыми волнами сползала к башмакам, пошитым из кожи, годящейся на книжный переплёт. Маленькие чёрные глаза походили на чёртиков, прячущихся под седыми кустами бровей. Глаза довольно молодо, задорно мерцали чернильными кляксами – белков не видно. Крючковатый нос походил на перевёрнутый вопросительный знак. На голове Старика-Черновика разметались курчавые длинные волосы, напоминающие мелко настриженную и помятую копировальную бумагу. Волосы кое-где седина прострочила – серебристыми строчками. А кое-где видна была красная строка – в виде узорной ленточки, какую вплетают себе папуасы, чернокнижники или шаманы.
Солнце, обычно медлительное под небесами, на этот раз как-то очень скоро передвинулось – неожиданно сильно опять засияло – только уже с другой стороны. Солнце так нещадно припекало, что Старик-Черновик временами словно растворялся в потоках слепящего света…
– Вредно мне на таком солнцежаре. – Он ладонью глаза прикрыл. – В небесной канцелярии сказали, завтра будет гроза. Вот это я люблю. Люблю грозу в начале мая… Да и в конце июля тоже… Завтра будет хорошо. Завтра мы с тобою, Ваня, можем заняться культурной программой.
– Завтра я дома буду.
– Ну, это зря. Ты что? Лететь в такую даль только затем, чтобы тебе накостыляли эти козлы винторогие? Ардолионы чёртовы, которые уши не моют, а только бреют. Так не годится. Надо, сынок, по театрам, по музеям, по выставкам…
– Нет! Домой поеду! – уперся Подкидыш, забывая, что денег-то нет, умыкнули. – Как мне скорее отсюда в аэропорт?..
Старик помолчал, не желая парня отпускать.
– Через подземное царство – скорее всего. Что говоришь? Только в сказках бывает? Ну, почему? И тут имеется. И звать это царство – метро.
– Такое маленькое? – удивился Подкидыш. – Не больше метра?
Азбуковед Азбуковедыч улыбнулся.
– Со мной не пропадёшь. Я ведь волшебник. Это царство чуть больше метра, а мы сделаем вот что, сынок, ты только слушайся.
Они подошли к подземелью, где горела красная буква «М». Волшебник заставил Ивашку зажмуриться, а когда он снова открыл глаза – Азбуковедыч был уже без чёрного плаща и без золотого пера величиной с карабин. Теперь он был одет без затей, как простецкий гражданин своего Отечества; серый пиджак и тёмно-серые штаны, растоптанные туфли, похожие на лыковые лапти. И через минуту-другую они со свистом помчались в вагоне подземного поезда. Это была первая поездка Простована по лабиринтам изумительного царства. На остановках, на станциях всё блестело, сияло, арочные своды поражали высотой и размахом…
Благополучно вынырнув из подземного царства, они пошли по каким-то сонным закоулкам, по загогулочкам, где нет асфальта. И, в конце концов, пришли в тихую комнатку, похожую на дворницкую.
– Вы же хотели меня проводить в аэропорт! – удивился Ивашка.
Черноликий старик подмигнул.
– Хочешь поскорее улететь отсюда? Прекрасно! А это чем тебе не самолёт? – Он показал на старую метлу. – Метёт по небу только так…
Подкидыш рассердился и хотел уйти, но вдруг откуда-то – точно из глухой стены – возникла Музарина, Музочка, внучка Старика-Черновика. Муза Вдохновеньевна, так он любовно внучку называл.
Владевшая секретом молодильных яблок, Музарина всегда была изящная, весёлая, с такими золотыми искрами в глазах, которые бывают только у влюбленных. И Подкидыш в ту минуту засмущался, здороваясь. И Музарина зарделась, как зорька.
– Проходите, – пригласила, потупив глаза.
Переступив порог, Подкидыш ахнул. Неказистая дворницкая осталась за спиной, а впереди открылся дивный зал, похожий на библиотеку. На стеллажах от потолка до пола находились книги со всего земного шара, книги, которые Старик-Черновик – не без помощи внучки – писал и переписывал в компании с живыми классиками; так он говорил, по крайней мере. Музарина предложила гостю расположиться в мягком вольтеровском кресле, а сама привычно взялась хлопотать по хозяйству. Простован, ротозейничая, походил по комнате, как ходят босиком по льду – осторожно, пугливо. Жар-птицу увидел – в углу сидела в клетке, переливаясь огоньками цвета радуги. А в другом углу стоял на красной лапе, дремал серый крупный гусак, из которого Старик-Черновик дёргал перья для повседневной работы, а для чистописания ему необходимо было перо жар-птицы.
– Как интересно, – прошептал ошеломленный гость, когда Музарина пригласила за стол.
Черновик повеселел, заметив, как парень переменился в обществе внучки.
– Чайку сейчас попьёшь, чуточек отдохнёшь, и мы втроём пойдём. Бог любит троицу. Ты, Ваня, был когда-нибудь в театре? Я не говорю – в Большом. Хотя бы в Малом. А? – Старик потыкал пальцем. – Вижу по глазам, что не был. Не беда, Ванюша. Лиха беда – начальник!
– Дедушка хотел сказать: лиха беда – начало, – с улыбкой пояснила Музарина. – Дедушка слова в простоте сказать не может, всё время вывернет…
– Так, так, – охотно поддакнул дедушка, – вывернет как шубу кверху смехом. Итак, что я хотел? А вот что! Надо нам с тобою сходить в театр, посмотреть, как душат Дездемону, или что-нибудь ещё такое же весёлое. Надо развеяться после этих редакционных козлов. После них поэты и прозаики обычно впадают в запой. И запой этот, прошу заметить, совсем не творческий. Ну, а поскольку ты не пьешь – и это замечательно! – значит надо как-то по-другому душу отмывать. Правильно я говорю?
– Дедушка, – с улыбкой спросила Музарина, – ты в театр собираешься идти в таком наряде?
– Пардон. Хорошо, что напомнила. Затрапезу эту я сейчас сниму.
Азбуковед Азбуковедыч скрылся в боковой двери и через несколько мгновений – как фокусник – неузнаваемо преобразился; он даже как будто помолодел в белоснежном парике, в белом фраке, в золотистых башмаках.
– Дедушку теперь зовут Белинский, – подсказала внучка, улыбаясь. – А на самом деле он – Чернышевский.
– Да! Потому что я всё время задаюсь вопросом: «Что делать?» – Старик пытливо посмотрел на парня. – Ну, что вот прикажете делать с этим юным гением? Его ведь тоже надо приодеть. Минуточку. Я, кажется, придумал. Сейчас найду.
– Ого! – Глаза Ивашки засияли, когда увидел новую одёжку. – Это что? Это мне?
– Это денди лондонский носил. Тот самый, который легко мазурку танцевал и по-французски гарцевал… – Старик засмеялся, потрясая буклями седого парика. – Ну, то есть, мог изъясняться и писать на языке Вольтера и Гюго.
С неохотой и даже настороженностью парень начал переодеваться и вдруг лицо его – как лицо именинника – озарилось радостью.
– Деньги! – закричал он. – Деньги нашлись! Вот они! За подкладку завалились! Никто их не украл! Все целёхонькие!
– Теперь ты не бедный родственник! – обрадовался Азбуковед Азбуковедыч. – Ах, как это славно, что не обокрали, не облапошили! И дело вовсе не в деньгах. Дело в том, что горько, очень горько, Ваня, в людях разочаровываться. А теперь я снова всем нашим народом очарован, ей богу. Теперь мы смело можем идти к свободе, к свету – к свету театральной лампы! Музарина, Музочка? Ты готова? Идём.
Ивашка впервые тогда увидел свет волшебной театральной лампы – слово «рампа» не скоро запомнил. Театр ошеломил его и поверг в какое-то божественное, почти бездыханное созерцание. Подкидыш плохо помнит, что он смотрел – в смысле автора, в смысле названия и содержания. Зато запомнился восторг, в груди полыхающий так, что рубаха вот-вот задымится.
После театра взбудораженный парень всю ночь заснуть не мог. До утра они проговорили о театральном искусстве, о чудесах, которые можно творить при помощи драматургии. Правда, всё больше старик рассуждал, а парень слушал, делая умное лицо. А Музарина, влюблёнными глазами обжигая парня, какие-то блюда на кухне варганила, угощала напитками, похожими на птичье молоко. Музарина двигалась бесшумно, почти не наступая на половицы рассохшегося пола. Странная девушка была, словно полувоздушная. Казалось, ветер дунет – и Муза улетит. Сам того не замечая, он любовался Музой, но потом вспоминал про Златоустку и нарочито, даже грозно хмуробровился, изображая ноль внимания и фунт презрения.
Под утро он заснул с улыбкой на устах – ему приснился «Ардолион, который бреет уши»; лысый как дыня, а уши обросли густыми волосьями и стали похожими на уши медведя. Опускаясь на четвереньки, Ардолиоха, охая, вымаливал прощения и косматыми ушами чистил башмаки Подкидыша, а башмаки-то были не простые – бронзовые. Да и сам Подкидыш будто не простой, а бронзовый – памятник Златоусту.
3
Небесная канцелярия опростоволосилась насчёт прогноза: ни капельки дождя не выпало, а вот капель пота было не пересчитать. Денёчек выдался опять калёный, как пропечёный на сковородке, на которой Ивашка опять вертелся, желая пристроить свои гениальные перлы, хотя старик сказал, что лучше этого не делать. В свой поход Подкидыш отправился один – принципиально отказался от поддержки Азбуковедыча, который вознамерился, было, снова сыграть роль незримого духа-помощника. Ивашка заявил, что стыдно и негоже ему, здоровому лбу, за чужую спину прятаться. Старику это понравилось. Но результат был снова неутешительный. Из одного издательства парня с треском вышибли, а в другом чуть не скрутили, чтобы сдать в милицию, потому что парень снова начал фокусы выкидывать – раскалёнными своими глазищами передвигал графины и пепельницы, книги и даже стулья. А поскольку там было немало стеклянных предметов – стеклозвону было много-много.
По издательствам парень пошёл с утра – как денди лондонский одет. А вернулся – как обыкновенный горьковский босяк.
Музочка, влюблённая в него, ужаснулась, увидев на пороге хмурого гения, изрядно помятого, побитого, а местами даже оборванного.
– Примочку надо сделать. – Музарина обеспокоилась, глядя на синий фонарик, цветущий под левым глазом милого дружка.
– Ничего, и так сойдёт. Переживём, перекуём мечи на калачи. Ему было стыдно. Ивашка то и дело хмуробровился, руку с примочкой грубовато отталкивал – по полу капель рассыпалась… Желая потрафить ему, Старик-Черновик взял какие-то бумаги со стола.
– А я тут время не терял. – Он потыкал гусиным пером, поклевал по страничке. – Маленько подработал. Подретушировал. Посмотри. Как тебе? Так, по-моему, лучше.
Подкидыш неожиданно развеселился, но как-то ядовито, желчно.
– Все, бляха-муха, знают, как мне надо писать! Я сам не знаю, а они – эти козлы издательские, а вместе с ними и ты – все знают, как русский Ваня должен писать. А этот Ваня, чтоб вы знали, никому и ничего не должен. И вообще… Пора домой. Делом надо заниматься, а ни этой бумажной хреновиной. Лучше буду на кузнице работать, коней ковать.
– Пегасов обувать? – Черновик ухмыльнулся. – А как насчёт блохи? Может, попробуем? Мне довелось однажды поработать с великим мастером. Помню, поймали блоху на меху…
Затосковавшему парню эта болтология уже приелась.
– У тебя ещё резинка есть? Стирательная… – сердито спросил он, когда Музарина ушла на кухню. – Возьми, пожуй, помолчи маленько.
Азбуковедыч не обиделся, он так и сделал: пожевал, помолчал. Эта покорность парню понравилась, – даже неловко стало за свою несдержанность.
– Поеду, – сказал уже помягче, – дома-то, наверно, потеряли…
– И там потеряли, и тут не нашли, – с горечью вздохнул Абра-Кадабрыч. – Ну, пошли, провожу.
Парень посмотрел на чёрный плащ оруженосца, где сверкала золотая заплатка.
– Не будешь переболокаться? Так пойдёшь?
– Переоденусь, конечно. Мне лишние проблемы не нужны.
– Ну-ну. Кем теперь ты будешь?
– Надо подумать. – Старик посмотрел на серебряный крюк – вешалка сверкала на стене. – Сегодня вот эта шапка-невидимка больше всего мне к лицу.
– А где эта шапка? А ну, покажи.
– А вот, висит…
– Не вижу.
– Так она же – невидимка, – сказал старик и растворился в воздухе. И тут же дверь перед Ивашкой сама собой открылась. – Прошу! – сказал Незримый дух, посмеиваясь.
Опять они спустились в гулкое, гранитами и мрамором сверкающее подземное царство – метро. Собрались ехать в аэропорт. И вдруг на беломраморной стене Подкидыш заприметил такую расчудесную картину – сердце ахнуло восторгом, кровь по мозгам шибанула. «Златоустка моя! Золотаюшка! Похожа, как две капельки…»
Незримый дух, крутящийся неподалёку, прошептал по-над ухом:
– Нравится? Картина-то.
Покрываясь румянцем смущения, парень стоял, молчал, всё ещё не веря, что эту Златоустку он увидел не в окошке – на холсте, на обыкновенной тряпке, можно сказать, или на бумаге.
– Картина? – пробормотал он. – Да так…Ничего…
– Батенька, да вы просто ценитель. Вы истинный дока. – Незрима хохотнул. – Это, между прочим, мировой шедевр. Ну, конечно, не подлинник, репродукция. А если хочешь, подлинник посмотрим.
– А по морде не дадут, если будем подсматривать? – спросил Подкидыш, глядя на полуобнажённое изображение. – А то я однажды на заимке возле бани…
Незрима по-над ухом почти всю дорогу насмешничал, покуда они ехали до какой-то Большой Художественной Галереи. И там, среди картин, одетых в золотой багет, Незрима потешался, то и дело зубоскалил, предупреждая парня, чтобы тот был поосторожней возле голых картин. А их там собралось немало – как специально выставили из запасников. Там тебе и голая «Венера» Боттичелли, и пышногрудые, толстозадые женщины Рубенса, и соблазнительные «Большие купальщицы» Ренуара, и всякая другая до бесстыдства обнажённая натура, которую тут обзывали коротко и скромненько – «ню».
– Ню, что? – надсмехался Незрима, отталкивая парня от картины. – Ню, отойди. Осторожно подсматривай, а то по мордасам схлопочешь.
– Да ладно, сколько можно…
– Нет, я серьёзно. У меня однажды был конфуз. Джоконда, Мона Лизка прямо в лоб заехала.
– Кто? Вот эта? – Парень замер возле Моны Лизы. – Так она же одетая.
– Вот в том-то и дело. Одетая баба, но гордая. Меня, говорит, сам Леонардо да Винчи писал, а ты, говорит, заплатил десять копеек, а глазеешь на цельный червонец! Ха-ха… – Незрима тихонько потянул за рукав. – Ну, хватит глазеть на дамочек. Пошли, посмотришь пейзажи.
Забывая обо всём на свете, он с головой ушёл в чудесные картины. Отчётливо, реально ему слышался шуршавень опавших листьев на тропинке, по которой он идёт сквозь золотую осень Левитана, осень, нежно пахнущую ароматом старых, на приворотном зелье разведённых красок. А через несколько шагов золотая осень погасла, улетучилась – и Подкидыш оказался на берегу полночного Днепра. Стоял, как зачарованный, смотрел на молочно-изумрудный лунный свет Куинджи. А вслед за этим, шагая по течению Днепра, он выходил на берег моря, над которым начиналось пиршество красок Айвазовского; свежий ветер с моря налетал, надувал рубаху пузырём, шаловливо щекотал под рёбрами. И дальше, дальше двигался Ивашка. Торчал ротозеем. Дышать забывал, любуясь русскими пейзажами Поленова, Саврасова, Шишкина. Ему вдруг становилось то холодно, то жарко – пейзажи были зимними и летними. И только Старику-Черновику, шагающему рядом, было ни жарко, ни холодно: привык. Он спокойно, буднично повествовал о русских и зарубежных художниках 17, 18 и 19 веков, говорил, как им трудно и горько жилось, зачастую даже есть было нечего, а теперь истинный ценитель искусства за одну-единственную картину Рубенса, Боттичелли, Ван Гога или Клода Моне такие деньжищи даёт на торгах с молотка – на всю жизнь хватило бы и художнику, и деткам его, и внукам с правнуками. Вот этого Подкидыш не мог уразуметь. Да как же так? И почему? Старик вздохнул; бывает так, что мало быть талантливым, а надо ещё и помереть.
Подкидыш, подавленный величием того, что он увидел в Большой Художественной Галерее, глаз до утра не мог сомкнуть. Ему расхотелось бумагу марать и ходить по редакциям, по издательствам. Правильно дед говорит – баловство. Лучше на кузне работать, подковы на счастье ковать.
Утро было серенькое. Тихое. И даже Музарина, всегда румяная, была в это утро поблекшая, глаза погасли; она, видно, сердцем почуяла, что не скоро увидит Ивашку, который объявил, что уезжает.
Азбуковед Азбуковедыч попытался отговорить, но вскоре понял: бесполезно. И тогда пошёл он переодеваться, чтобы проводить в аэропорт.
– Надел бы шапку-невидимку, да и всё, – посоветовал парень.
– По Сеньке шапка, а по ядрёной матери колпак, – ответил Абра-Кадабрыч. – Шапку-невидимку можно износить по пустякам, а когда приспичит, то шапка не сработает. Шапку, парень, надобно беречь. Так что я сегодня, в это серенькое утро, буду серый скромный житель Стольнограда. Ну, ладно, почапали. В третий раз, между прочим, уже сбираемся. Бог любит троицу.
Музарина зарделась на пороге прощания, чмокнула парня в щёку и отпрянула.
4
И наконец-то шумный Стольноград – разноцветный и разноязыкий, суетливый, крикливый и шепотливый, прекрасный, но всё-таки гранитами угнетающий душу, – Стольноград остался за спиной. Небо за городом – словно с колен поднималось, в полный рост распрямлялось, зачёсывало набок русую чубину облаков, пронизанных солнцем. И дальше, дальше небо – сочно и просторно – открывало синие глаза. С перезвонами и перещёлками запели птицы, бойким бисером бросаясь там и тут… Ветер встрепенулся в кустах, в деревьях – на краю аэродрома. И заслышался гигантский гул, легкой лихорадинкой наполняющий землю.
– А как же с билетом? – заволновался Подкидыш. – Кассирша говорит…
– Жди меня здесь! – приказал старик, облачённый в серую сермяжку старорежимного покроя с позолоченными пуговицами, на которых красовались то ли царские, то ли дворянские гербы и вензеля. Только это было не сукно, в котором спаришься по нынешней погоде – эта современная сермяжка походила на сюртук общеевропейского покроя из легких, «летних» тканей.
Подкидыш стал рассматривать репродукции, засиженные мухами: горы, водопады. Это были картины современных художников – от слова «худо». После вчерашних полотен Подкидыш на все эти мазюкалки даже вполглаза смотреть не хотел. Да и некогда было…
За спиной раздался бодрый голос:
– Корыто подано! – Абра-Кадабрыч потрясал билетом над головой. – А ты боялся!
– Достал? А кассирша говорила…
– Кассирша не пророк. – Старик с любопытством поглядывал по сторонам. – Ох, как тут всё расстроилось. Муму непостижимо. Кругом стекло и мрамор. Я не был тут, наверно, лет сто тридцать…
Простован недоверчиво покачал головой.
– Столько не живут!
– А я не живу – существую. Оруженосцу от литературы ни пенсии, ни выходного пособия. Нет, я не жалуюсь, ты не подумай. Это к слову пришлось.
Посмотрев на билет, Подкидыш увидел солидную сумму.
– А как же я деньги верну? Куда можно выслать?
– На деревню девушке. – Азбуковедыч улыбнулся. – Деньги – пыль на дорогах истории.
Услышав этот каламбур – «на деревню девушке» – Подкидыш вдруг ощутил какой-то удивительно знакомый аромат, облаком прокатившийся рядом. Он не сразу понял, что это, а вернее – кто это. Это была Музарина, влюблённая в него. Музарина, плутовка, взяла без спросу шапку-невидимку и до самого трапа проводила парня и поцеловала напоследок. И вот когда она поцеловала – тогда только дошло до парня, что это за облако ароматами дышит. Но это открытие он сделает немного позже, а пока он слушал тираду старика.
– Сынок! Поезжай до дому, пиши, как знаешь, дуй во все лопатки и никого не слушай. Знаешь, как сказал один французик, с которым я встречался в прошлом веке или позапрошлом, дай бог памяти. – Вспоминая, старик поцарапал загривок. – Французик этот, каналья, очень ловко тогда завернул. Дайте, говорит, мне две любые строчки любого поэта, и я приговорю его к гильотине. Ты понял?
– А что это такое? – рассеяно спросил Ивашка, вдыхая странный аромат незримого облака. – Гиль… тина… Или как её?
– Гильотина? Ну, это тот же топор, только с французским акцентом. Понятно? Так что пошли они, эти козлы… Алхимики, алфизики и всякие другие мудрецы. Вот уж кого надо под топор! – Абра-Кадабрыч ладонью рубанул по воздуху и неожиданно закричал: – Рубить надо! Рубить дурные головы! Рубить как острохамские арбузы!
– Тихо. – Подкидыш стал озираться. – Народу полно.
– А что народ? Народ у нас безмолвствует! – раздухарился побледневший старик, промокашкой вытирая потный лоб. – Как я давеча просил, как умолял Солнце русской поэзии. Будь другом, говорю, возьми да напиши: «Народ глаголет! Народ кипит!» Так разве он послушает. Повеса.
Поначалу Ивашка стеснялся; казалось, весь народ аэропорта только то и делает, что смотрит на них и даже пальцем показывает. Однако людям было не до того, они горели жаждой как можно больше чего-то увезти из богатого Стольного Града. Свертки, коробки, авоськи, упаковки и вязанки всевозможных товаров – всё это время от времени наплывало откуда-то из дверей, настырно и тупо толкало то справа, то слева, то спереди, то сзади. И никто из этих деловых и суетливых граждан не обращал внимания на болтавшего старика. Только однажды милиционер мимо прошёл, покосился.
И наконец-то объявили посадку. И в эту минуту Ивашка вдруг ощутил странно-щемящее, болезненно-сладкое чувство родства, чувство единой крови с этим чудаковатым и необыкновенным Стариком-Черновиком. И показалось, будто они уже давным-давно знакомы, и хорошо понимают друг друга.
– Спасибо, – смущённо сказал парень. – До свиданья, стало быть, и это… Привет и поклон Музарине…
– Да, да, конечно. Будьте здоровы быки и коровы. Пока, пока. Долгие проводы – лишняя проза. Иди на ковёр-самолёт. – Старик обнял его и не сдержался от каламбура: – Я иду по ковру, ты идёшь пока врёшь… Я правильно склоняю или нет? Ха-ха. Бороду даю на отсечение, что ты сейчас глядишь и думаешь, будто я из дурдома сбежал.
– Ну, вот ещё! – Парень вздёрнул подбородок.
– Сейчас твоё лицо, – сказал старик, – напоминает мне лицо надменного лорда Байрона. Это хорошо. Это обнадёживает. Ну, всё, ступай, ступай…
Старик что-то ещё хотел сказать, но вдруг заметил на полу капельку, упавшую откуда-то словно с потолка. (Это была слеза Музарины).
– Странно, – пробормотал он, поднимая голову. – Дождика нет, а крыша протекает.
«Что болтает, сам не знает!» – Принюхиваясь, Подкидыш поймал себя на странном ощущении: этот дивный аромат, который в последние минуты преследовал, – дух Музарины, Музы.
5
Автобус подвёз пассажиров к могучему лайнеру и, войдя в салон, Подкидыш опять увидел земляка – бодрого, подтянутого лётчика Маковея Литагина, жизнерадостного Звездолюба, которому был доверен огромный ковёр-самолёт Ту-134. И опять на сердце парня стало спокойно, светло, будто встретил старшего брата или друга по духу, по мечте и дерзновенности.
Приятный человек был Маковей Литагин; добравшись до высокого летчицкого кресла, он остался верен своему характеру – открытому, приветливому, не думал много о себе, не зазнавался.
Когда самолёт набрал необходимую высоту и занял привычный эшелон, командир передал управление своему помощнику и ненадолго покинул кабину.
Пройдя по ковровой дорожке – вот уж действительно ковёр-самолёт! – Звездолюб остановился около Ивашки. Присел на свободное место – напротив. Поправил свой двубортный тёмно-голубой костюм из чистошерстяной материи на шёлковой подкладке.
– Ну, как? – улыбчиво спросил. – Не зря смотался в Стольноград?
– Отлично! Где только я не побывал, что только не повидал…
– Молодец! Я рад за тебя!
– А я за тебя, – простодушно ответил Ивашка, рассматривая позолоту каких-то наплечных знаков различия Звездолюба. – Ты генерал? Или кто?
Засмеявшись, лётчик неожиданно склонился к нему.
– Земляк! – сказал заговорщицки. – Пошли ко мне в кабину. Хочешь? Ну, пошли. Но только уговор: ты ничего не трогаешь руками.
– Ясное дело! – Парень развеселился. – А ногами можно? Солнце горело где-то сбоку и сзади – лайнер летел на северо-восток на высоте нескольких тысяч метров. А на таких высотах краски изменяются до неузнаваемости. На обочинах небесного пути – то справа, то слева – лениво разрастались зеленовато-золотые облака, похожие на кроны райского сада, уже немного тронутого предосенним дыханием. А там, вдали, в преддверии Господнего предела, верхний край небосвода был червонно-синий с переходом-переливом в голубизну океанской безбрежности, расплескавшейся так широко, что глазам становилось больновато – от перенапряжения, от жадного желания заглянуть куда-то за пазуху горизонта. А тут, вблизи – вдоль крепких многослойных стёкол, которые и пуля не прокусит, – время от времени пробегала рваная дымка, стремительно скрывавшаяся под крылом или серебристой паутинкой мелькающая вдоль фюзеляжа.
– А у него какая скорость? – поинтересовался Ивашка.
– Летит быстрее молнии! – пошутил Звездолюб и скороговоркой добавил: – Крейсерская скорость – восемьсот пятьдесят. Потолок – двенадцать тысяч сто.
– Ого! – Подкидыш посмотрел на потолок кабины. – А что это за лампочка мигает?
– Вот эта? – Литагин улыбнулся. – Эта сигнальная лампочка. Она говорит, что, мол, хватит постороннему в кабине находиться. Хорошего, мол, понемногу.
Парень засмеялся и ушёл на своё место. Долго смотрел в иллюминатор, будто заснул с открытыми глазами.
Величаво, неспешно ковёр-самолёт всё летел и летел над землею. Летел, сверкая серебром и золотом узоров на крыльях, на фюзеляже, плавно покачивался на воздушных лазоревых волнах, с облако на облако соскальзывал, будто с одной белоснежной горы на другую. Улыбаясь, Ивашка отрешённо думал, что примерно такие же горы были в детстве у него. Чистые-пречистые снега запомнились – облакообразно громоздились под окнами, вспухали во дворе, на огородах. А снегири залётные – весёлые да искромётные – как проблески зари полыхали среди белоснежных, не примятых никем облаков.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































