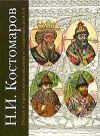Текст книги "Русское язычество. Мифология славян"
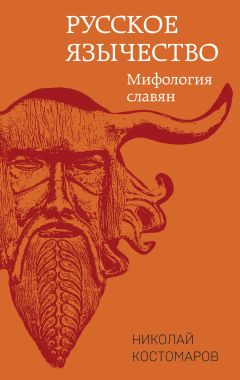
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Ой, пила бим та й водицю, водиця нечиста:
Нападало у кирничку яворового листа;
Ой, уробить лединчики, мосток калиновий,
Вичистити из кирнички листок яворовий!
Зная уже символизацию криницы и калины, а также и калинового мостика, смысл этой песни, по-видимому, загадочный, делается понятен: женщина хочет разогнать свою грусть и просит молодцов пособить ей.
Вещи из явора также имеют печальное символическое значение: девица, томясь сердечным недугом и не находя себе ни в чем покоя, говорит, что она хочет брать воду, но вода не берется, и ее яворовый коромысел сгибается в дугу.
Ой, у бору воду беру – вода не береться,
Яворовий коромисел у дужечку гнеться.
В свадебных песнях новобрачная, с грустью разлучаясь с родителями и родительскою хатою, называет свои сени яворовыми.
Синечки мои яворови,
Будете неметени:
Ненька старенька, а сестра маленька,
Я пиду вид батенька.
Об этом дереве в песнях есть мифические истории: то явор с другими деревьями вырастает из могилы и как бы из тела лица, похищенного насильственною смертью, то живая личность, гнетомая тяжелым горем, превращается в явор. Одна песня, говоря об убитом козаке, заставляет вырастать явор из его ног:
Куди впали били ноги,
Там виросли два явора, —
а другая, галицкая, песня рассказывает, что два явора выросли из ног убитой и погребенной девицы.
Де Настини били ноги,
Там виросли два явори.
Но гораздо полнее и связнее представляется история двух супругов, погибших жертвою злой свекрови.
Оженила мати сина молодого,
Та взяла невистку та не до любови,
Не билее личко, не чорнии брови,
Та не знала мати, як розлучати —
Послала сина до виська служити,
Нелюбу невистку до стадечка пасти.
«Та послужи, синку, та два годочки,
А на третий до мене в гостиночку прийдеш».
Як прийшов же син у саму недилю,
Нелюба невистка в самий понедилок.
Посадила сина та за стольчиком,
Нелюбу невистку за скамницею;
Чествовала сина и вином и медом,
Нелюбу невистку та отрутою.
«Випьемо, жинко, по половинци,
Щоб нас поховали в одний домовинци,
Та випьемо, жинко, по цилий чарци,
Щоб нас поховали обох в одний ямци».
Як умер же син та у недилю,
Нелюба невистка та у понедилок.
Поховали сина та пид церквою,
Нелюбу невистку пид дзвиницею.
Вирис на синови зелений явир,
На невистонци била тополя.
Стали их могили та присуватися,
Став явир до тополи та прихилятися.
Вийшла тоди мати сина поминати,
Нелюбу невистку та проклинати…
«Либонь же ви, дитки, вирненько любились,
Що ваши вершечки до купки схилились!»
Последняя, возненавидев свою невестку, хотела отравить ее, но сын выпил яду вместе с женою. И похоронили сына под церковью, а невестку под колокольнею. На могиле сына вырос явор, а на могиле невестки – белый тополь. Мать приходит поминать сына и проклинать невестку и видит, что их могилы стали придвигаться одна к другой, а явор стал склоняться к тополю. И мать сказала: «Верно, дети, вы крепко любили друг друга, когда верхушки ваши склонились одна к другой». Галицкий вариант этой песни вместо тополя ставит на могиле невестки березу.
На серед села седила вдова.
Ой, мала жь вона сина Василя,
Ой, мала жь вона, до школи дала,
Зо школи взяла, в вийсько виддала,
В вийско виддала, на вийну пислала…
Чекае рочок – не йде синочок,
Чекае другий – не йде син любий;
На третий рочок иде синочок,
Синочок иде, невистку веде.
Ой, вийшла мати з новой хати,
Ой, взяла ж вона сина витати.
Винесла вона дви склянци вина,
А третя бутилька сама тротина.
До синонька пье червоним вином,
Невистци дае саму тротину.
Син вина не пив, пид коня вильяв,
А тротиноньку по половинци;
Невистка пье, та й омливае,
А син ся дивит, з коня ся хиляе.
«Знала сь нас мати, як чаровати,
Знай же нас, мати, вкупци сховати!» —
А мати сина не послухала,
Як сама хтила, так их сховала:
Сина Василя пид оконцями,
А невисточку пид воротцями;
На сину Василю соненько сходить,
По невистонци увесь мир бродить;
На синонькови явир зелененький,
На невистоньци била березонька.
Береза росте, розростаеся,
Лист до листонька привертаеся,
А явир росте, розростаеся,
Лист вид листонька видвертаеся.
А вариант Гродненской губернии – липу:
Мати сина оженила,
Да нивистку ни злюбила.
Дала сину каплун исти,
А нивистци чимирици;
Син ж тое зознав,
Своюй милой исти ни дав:
«Иижмо, мила, пирод мое,
А потом будем исти твое,
Помрем разом обое». —
Помер син в нидилю,
А нивистка в понидилок.
Кладуть сина в церкви,
А нивистку на цвинтари.
На синови вирос зилён явор,
На нивистци била липа.
Явор стину пробивае,
З липки листок доцягае,
Лист з листком злипаеться,
В матки скипаеться.
Глубокая древность этой песенной легенды доказывается общностью не только народной поэзии других славянских народов, но и прочих, принадлежащих к арийскому племени. Так, у сербов есть песня, в которой рассказывается, что двое любовников были погребены вместе и на могиле молодца выросло сосновое деревцо, а на могиле девицы – красная роза, и роза прильнула к сосне. В старинной английской балладе «William and Margareth» на могиле красавицы вырастает роза, а на могиле рыцаря – боярышник (Ministrelsy of the Bord., 221). Подобные образы есть и в скандинавской поэзии (Uldralgte dunskevis, p. 352). Замечательно, что в наших песнях дерево на могиле невестки изменяется: то тополь, то береза, то липа – а деревом на могиле мужа остается все один и тот же явор.
В явор превращается живой человек – это молодец, которого мать прогнала от себя. Известные варианты этой песни – галицкие: мать прогоняет сына за то, что в пятницу пел, в субботу умывался (?), в воскресенье завтракал. Сестра спрашивала брата, когда он приедет гостем. «Когда камень пустит корень, а верба родит яблоки», – отвечал ей брат. Мать терпела два года, на третий пошла искать его и стала под явором. Начала она рвать листья с явора, а явор сказал ей: «Не рви, родимая, листья – это мои волосы. Куда только ты, мать, ни посмотрела, верхи деревьев увяли. Куда, – говорит явор, – ты ни шла – за тобою кровавая река бежала».
Иди, синку, причь от мене,
Най не маю грих на тебе,
За пятничне спиваненько,
За недильне сниданенько.
Пишов синок до сестроньки,
Та найстарша коня дала,
Середуща осидлала,
Наймолодша виправляла:
«Коли, брате, гостем будеш?» —
«Тогди, сестро, гостем буду,
Та як каминь коринь пустить,
Та як верба ябно вродить».
Терпила рик, терпила два.
А третого не стерпила:
Пишла мати в лис шукати,
Стала соби пид яворець
Та й узяла листье рвати.
А явир взяв промовляти:
«Не рви, ненько, та листьенько.
Бо то мое волосьенько!
Куди сь мати подивила —
Вси вершечки увялила;
Куди мати, каже, пишла —
То кровава ричка бигла».
Другой, также галицкий, вариант излагает эту легенду несколько иначе. Мать рассердилась на сына и прокляла его. Сын, разгневавшись, простился с сестрами и дал им обещание тогда возвратиться, когда камень поплывет по воде, а перо потонет, когда солнце будет ходить обратным путем.
Сын уехал сначала в темный лес, а там в чистое поле; конь его превратился в камень, а он сам – в зеленый явор. Мать стала плакать о сыне и пошла искать его в поле. Стал дождь капать; мать стала на белый камень под явор, стали ее кусать мухи; она начала ломать ветви; тогда изрек ей слово явор: «О, мать проклятая! Ты не дала мне проживать в селе, не даешь и в роще стоять. Белый камень – мой конь, зеленые листья – моя одежда, тонкие прутья – мои пальчики». А мать растосковалась и рассеялась прахом.
В недилю рано мати сина лала,
Мати сина лала, та й проклинала,
А синойко ся дай розгнивавши,
Казав старший сестре хлиба напечи,
А середульший коня вивести,
А наймолодший коня всидлати.
Найстарша сестра хлиба напекла,
А середульша коня вывела,
А наймолодша коня всидлала.
Коня всидлала, та й ся звидовала:
«Колиж, братцю, к нам гостейком прийдеш?» —
«Озьми, сестрице, билий каминець,
Билий каминець, легкое перо,
И пусти ти их на тихий Дунай:
Як билий каминець на верх виплине,
А легкое перо на спид упаде.
Подумай, сестро, що з сего буде?..
Коли сонейко на зопак зийде,
Втоди, сестрице, гостьом в вас буду». —
Навернув коньомь од схода сонця
И поихавь си в темний лисочок.
Виихав овин в чистое поле,
Став ту коничок билим каминем,
Вин молодейкий зеленим явором.
Ой, стала мати за сином плакати
И пошла она его гледати.
Вийшла она в чистейке поле,
В чистейке поле, в болоничейко.
Ой, став ей дожчик кропити,
Стала она на билий камень,
На билий камень под зелен явир.
Ой, стали ей мушки кусати —
Стала она галузки ламати;
Прорик яворець до ней словце:
«Ой, мати, мати, мати проклята!
Не дала есь ми в сели кметати,
Кще ми не даеш в полю стояти.
Билий каминець – мий сивий коничок,
Зелене листья – мое одиння,
Дрибни прутики – мои пальчики!
А мати его ся розжаловала,
Та и на порох ся россияла».
Есть еще один вариант – угорский, похожий на предыдущий, но здесь мать сама, проклиная сына, приказывает ему превратиться в явор, а коню его – в камень. Это происходит на праздник русалий. Через неделю мать пошла искать сына, искала на ярмарке и не нашла, а возвращаясь домой, ушла от дождя в лес и там узнала в яворе своего сына.
На сами святи Русаля,
Мати синочька прокляла,
А як она го прокляла,
Та го до лиса послала,
Вигнала его до лиса:
«Иди ти соби до биса!
Жеби ти там стал явором,
А твий коничок каменем!»
Як тому тиждень переходил,
Матери жаль ся уробил:
«Ей Боже, Боже, Боже мой,
Ах, где ся подил тоть син мой.
А буде ярмак на Левочи,
Пийду я, нийду плачучи,
Пийду я, пийду на него.
Глядати сина моего».
Ходит от краму до краму,
Смотрит до очей каждому.
Треба ся домов вертати,
Не мож ту сина познати;
Як ишла домов, дощь падал,
Та ей до лиса там загнал.
А стала она под явор,
Вздихала: «Боже, Боже мой.
Ей явор, явор зелений,
Який ти красний, румений,
Таки на тоби голузки,
Як мого сина волоски,
Таки на тоби листочьки,
Як мого сина губочьки».
А явор ку ней промовил:
«Ой, иди, мамо, ти домов,
От тамо до дому своего,
Ужь я не пийду до него!
Ид оганяти худобу,
Бо я до дому не пойду.
Я ту остану явором,
А сивий коник каменем!»
В песне из Глуховского уезда жена прокляла своего мужа и велела ему превратиться в явор; его конь должен был сделаться горою, сабля – дорогою, шапка – кочкою, а синяя одежда – чистым полем. Пошла вдова жать в поле, дождь стал капать; она укрылась под явор и говорила: «Яворушка зеленый! Прикрой моих деток-сироток!» Явор сказал ей: «Я не явор, я – твоим детям батюшка; вспомни, как ты меня отправляла в путь и проклинала».
Жона мужа виряжала,
Виряжаючи, проклинала:
«Бодай ихав, не доихав,
Щоб ему кинь горою став,
А шабелька дорогою,
А шаночка купиною,
Сини сукни чистим полем
А сам молод явороньком!»
Пишла вдова в поле жати,
Стала хмара набигати,
Та й став дожч накрапати.
Пишла вдова пид явора.
«Явороньку зелененький!
Прикрий дити сиритоньки!» —
«Ой, и я ж не яворонько,
Я ж тим дитям та батенько.
Згадай, як мене виряжала,
Виряжаючи проклинала!»
Во всех этих песнях, при всем их разнообразии, общим остается то, что в явор превращается человек в силу произнесенного над ним заклятия. Но в археологическом отношении едва ли не важнее всех та песня, где козак встречает на море сиротку, которая закляла его в явор, стоящий посреди моря. Мы уже приводили эту песню.
В весенних песнях встречается явор в припевах к такой песне, в которой, по-видимому, нет ничего грустного. Но припев мог быть отнесен и к другой песне, а не к той, к которой он принадлежал прежде. В купальских песнях является явор с сосною, в противоположение мужской личности женской. Молодец говорит, что он срубил явор и спугнул с него трех соколов; эти соколы оказываются молодцами, которые вслед за тем называются по именам; потом он срубил сосну и спугнул с нее трех кукушек, которые также оказываются девицами с собственными именами.
Нихто того не видав
Як я явора зрубав,
Три соколи зигнав:
Перший соколонько – молодий Иванько,
Другий соколонько – молодий Петрусько,
Третий соколонько – молодий Пархимко.
Нихто того не видав,
Як сосонку зрубав,
Три зозули зигнав:
Першая зозуленька – молода Орися.
Другая зозуленька – молода Явдося,
Третя зозуленька – молода Настуся.
Здесь, как нам кажется, проглядывает мрачное значение явора, как и сосны: молодец срубил явор и согнал с него соколов, то есть освободил молодцов от грусти и тоски и пустил их веселиться.
Между галицкими песнями есть колядка, в которой колыбель младенца Христа представляется висящею на яворах:
А в полю, в полю два яворойки,
На явороньках суть ретязойки,
На ретязойках колисанойки,
В колисайноци Бижее дитя:
Колисала го Бижая Мати,
Ей колисала, твердо заснула;
Прилетали к ней вирлове птаси,
Полетили з ним аж пид небеса.
Мы едва ли ошибемся, если объясним, что присутствие яворов здесь означает земные невзгоды и страдания, ожидающие Христа в земной жизни, тем более что в другом варианте той же колядки жиды покушаются наделать зла младенцу.
На тих яворах висить скобойка,
А в тий скобойци колисанойка,
В тий колисанойци сам милий Господь.
Там тади лежит давна стежейка,
Тов стежейков идет сим-сот жидив.
Едни ми гварят: «Заколишиме!»
Друга ми гварят: «Переверниме!»
А трети гварят: «З собов возьмиме!»
Но в галицких песнях есть, однако, следы такого значения явора, которое не сходится со всеми приведенными примерами. Таким образом, в колядках поется, что среди двора стоит явор, на котором золотая кора и серебряная роса; прекрасная девица обдирает золотую кору и стряхивает серебряную росу, потом несет то и другое к золотых дел мастеру, чтоб он сделал золотую чашу и серебряный кубок: из чаши будет пить сам Господь, а из кубка хозяин, в честь которого колядуют.
Стоить явир посеред двора,
На явори золота кора,
Золота кора, срибная роса,
А уточила (?) красная панна,
Золоту кору, тай обтручила,
Срибную росу тай обтрусила,
И нонесла до золотничка:
«Ой, золотничку, голубоньку,
Зроби мини золотий келих,
Золотий келих, срибний кубок.
А з келиха сам Господь пье.
А из кубка сам господарь».
В другой колядке наверху явора сокол вьет гнездо; в середине дерева в борти – пчелы, а у корня – черные бобры; все это, как предметы богатства, предоставляется хозяину и хозяйке.
Ой, там за двором, за чистоколом,
Стоит ми, стоит зелений явир,
А в тим явори три користоньки:
Една ми користь – в верху гниздонько,
В верху гниздонько, сив соколонько;
Друга ми користь – а в середини,
А в середини в борти пчолоньки;
Третя ми користь – у коринячка,
У коринячка чорнии бобри.
Сив соколонько – пану на славу,
Яри пчолойки – Богу на хвалу,
Чорнии бобри – та на шубоньку,
Та на шубоньку господиноньци.
Таким образом, в обеих этих колядках явор является уже не с обычным своим мрачным значением, а скорее представляется образом богатства. Но нельзя поручиться, чтобы здесь было одно и то же дерево под именем явора, тем более что в чешских и словацких песнях явор является совсем не тем глубоко грустным символом, как в южнорусских, и, может быть, западнославянское воззрение отразилось здесь на западных окраинах южнорусского племени. Наконец, надобно принять во внимание и то обстоятельство, что одно дерево могло заменить другое с ослаблением ясности мифологических воззрений. Так, в чрезвычайно любопытной колядке о сотворении мира (см. ниже о голубях) в одном ее варианте – дуб, в другом – явор, и, при соображении с другими подобными образами, можно склониться к тому, что явор заменил дуб неправильно.
Лоза также постоянный символ несчастия и слез, чему немало способствует и созвучие слов, постоянно встречаемое в тех образах, где в народных песнях является это дерево: лозы – слезы применительно к разным положениям и девицы, и молодца, и замужней женщины, и козака, и детей.
Еще козак не заихав за густии лози,
Вже облили дивчиноньку дрибненькии слези.
Или:
Десь мий милий далеко,
За густими за лозами
Умиваеться слизами.
Или:
Пишли дити за лозами,
Виливаються слизами,
Тоби б, тату, так Биг дав,
Як се ти нас розигнав.
Или:
Заростало Запорожье густими лозами,
Та вмилися козаченьки дрибними слизами.
Калина в лозе – образ несчастного замужества.
Ой, у лози калинонька в лози,
Тепер моя головонька в тузи.
А вжеж в лози калинонька зацвила,
А вжеж мене мати за пьяницю дала.
На пути козаку расцветают лозы – невзгода.
Ой, зацвили густи лози
Козакови при дорози,
Козак блудить, козак нудить.
Девица, не дождавшись милого, сопоставляет себя с лозами.
Хилитеся, густи лози, видкиль витер вие,
Дивитеся, кари очи, видкиль милий ииде;
Хилилися густи лози, та вже перестали,
Дивилися кари очи, та й плакати стали.
Лоза – страдание от врагов.
Тяжко лозам хилитися через береженьки:
Тяжко очам дивитися через вороженьки.
Ночевать в лозах или под лозою – образ бедствия.
Пид лозиною всю нич почувала,
И з лозиною всю нич розмовляла:
Ой, лозино, ти жовтий цвите,
Пропала я, ох мий бидний квите!
Ой, лозино, ой ти ж, зелененька,
Пропала я, та щей молоденька!
Лоза – постель утопленника.
Моя постилонька у води лозинонька.
Есть песня, в которой молодец бросает свою возлюбленную в Дунай и сам обещает за нею последовать. Она, конечно, мертвая приплыла к густым лозам.
Ой, взяв милий милу пид биленьки боки,
Пустив милу на Дунай глибокий.
«Пливи, мила, миленька, водою,
А я зараз плину за тобою!» —
Ой, виплила, мила, за густии лози,
Ой, облили мене дрибненькии слези!
Хвойные деревья – ялина (ель) и сосна – также печальные символы. Ель встречается редко. В песне, которую мы приводили выше, говоря об яворе, она равняется с этим последним и сопоставляется с томлением изнывающего от любви молодца, которому и еда не идет на ум.
Хоч не явир, хоч не явир,
Так зелена ялина;
Кличе мати вечеряти,
Вечеронька мини не мила.
Ель в другой песне является на могиле матери:
Найшла в поли ялину,
Матинчину могилу, —
и здесь она имеет только иносказательный смысл, так как на самом деле нет обычая сажать ель на могилах. В иной песне об умершем козаке она материал для гроба.
Будеш мати дом яловий,
Темненькую хатиноньку,
Високую могилоньку.
В свадебных песнях она символ смирения, безгласности.
Похилее дерево ялина,
Покирнее дитятко Маруся.
С сосною сопоставляется плачущая девица, еще чаще замужняя женщина и мать-вдова.
Ой, стояла сосоночка напроти сонечка,
Ой, плакала дивчинонька, сидя в виконечка.
Вие витер в чистим поли,
По крутому береженьку,
По жовтенькому писочку,
По хрещатим барвиночку.
Вода сосну пидмивае,
Горностай коринь пидъидае,
Зверху сосна усихае.
На верх сосни пчоли вьються,
В молодой слези льються.
Ой, сосенка, сосенка!
Деж ти так виросла?
«Ой, виросла я в лужку,
При крутому бережку, —
Заскрипило деревце. —
Я в лугу стоючи заплакала,
Я, вдова, свого сина годуючи».
Женщина, скучая в разлуке с родными, воображает их гуляющими под вишнею:
Ой, у саду сосна,
Пид сосною вишня;
Там моя родина
На гулянья вийшла.
Родина гуляе, мене не поминае.
Покладу я кладку на биструю ричку,
Пиду до матинки хоч у темну ничку, —
а самую вишню помещает под сосною, вероятно, знаменуя этим последним образом собственную грусть о том, что она не с родными. Козак, тоскуя в чужой земле в турецкой, говорит, что его занесла туда вода, которая пошла от сосны.
Ой, сосно, сосно кучерява,
Изросла на жовтим писочку,
На крутим бережечку;
Туди вода ишла,
Бона мене занесла
В чужу землю – в Туреччину.
Сосна, колыхаемая ветром, возбуждает у сироты думы о его лихой судьбе.
Витер повивае, сосенку хитае.
Не хитайся, сосно, мини жити тошно!
Тошно на чужини, як на пожарини:
Нихто не пригорне при лихий години!
Ночевать под сосною – образ горя и слез. Козак увез девицу и спрашивает ее, где она будет ночевать. Девица говорит, что под сосною:
«Ой, де мемо почовати, моя мила дивчино!» —
«Ой, пид сосною пид зеленою, мий нелюбе, з тобою!» —
и потом следуют слезы.
«Чом же ми ся повмиваем, моя мила дивчино!» —
«Вмиемося – ти росою, я слизою, мий нелюбе,
з тобою». —
«Що ж ми мемо поснидковати, моя мила дивчино!» —
«Ой, ти ягодоньки, я слизоньки, мий нелюбе, з тобою!»
Сосна играет роль в одной песенной истории очень трагического свойства. Это песня о молодце, который соблазнил девицу, а потом увез ее в бор и привязал к сосне, а сосну зажег. Песня эта чрезвычайно распространена и перешла повсюду в Великую Россию. Действующие лица в этой песне по настоящей общеходячей редакции – донец и шинкарка. Собственно, в том виде, в каком она поется, эта песня кажется первоначально скорее великорусскою, донскою, зашедшею в Малороссию, но мотив ее, именно сожжение женщины, является в чистой малорусской песне о пани Марусеньке. Последняя песня – времен гайдамацких: гайдамаки убили пана и приезжают с вестью к его жене, Марусе. Не всегда, но в некоторых вариантах этой песни мы встречаем описание, как козаки-гайдамаки сожгли Марусю, привязав ее к сосне.
Як взяли Марусю лугами-ярами,
Та повезли Марусю битими шляхами,
Привязали Марусеньку до сосни плечима,
До сосни плечима, в темний бир очима;
Запалили сосну з верху до кориня.
Сосенка горит, Маруся кричит:
«Не есть ви козаки, есть ви гайдамаки!
Уже мое биле тило та й попелом сило,
Уже моя руса коса до гори димом пишла».
В галицких песнях мы находим подобную нашей песне – песню о донце, но вместо донца там действует Волошин: он соблазняет девицу и увозит ее при пособии товарищей; приехавши в лес, ей приказывают стлать постель. «Меня, – говорит она, – моя мать еще не отдавала вам на то, чтоб я вам стлала постель под зеленым явором». Тогда Волошин говорит: «Встань, кремень, выруби огонь! Зажигай сосну сверху и снизу! Гори, гори, зеленая сосна, теки, черная смола, на белое тело шинкарке, чтоб ей не хотелось идти от нас прочь».
А вже вчинили дивчини зраду:
Ой, ведут милю, та й ведут другу,
Ой, на трети ж би видпочивати,
Пустили ж они коники пасти,
Казали ей все лижко класти.
«Мене ще мамка ба и не виддала,
Щоби я з вами все лижко клала.
Ой, пид явором, пид зелененьким,
Из Волошином та й молоденьким». —
«Устань кременя, викреши огню,
Запали сосну в верху и споду;
Ой, гори, гори зелена сосно,
Ой, течи, течи, чорная смоло,
Та на шенкарча, на биле тило,
Щоби шенкарча прич не хотило!»
Галицкий вариант, по языку и тону, не может быть последующим видоизменением песни о донце и шинкарке, тем более что он принадлежит к разряду колядок, песен древнего склада. Поэтому мы полагаем, что в народных песнях мотив о сожжении женщины, привязанной к сосне, очень древний, быть может, относящийся к мифологическому периоду, и, вероятно, он состоит в связи с словацкою песнью о сожжении девицы посредством зажженной липы – песнью, в которой Коллар видел либо принесение в жертву, либо же древнюю кару, постигающую девицу, утратившую невинность, а может быть, и казнь за волшебство.
Горела липа, горела,
Под нооу паненка седела;
Кедь на ню искри падали,
Вшецци младенци плакали.
В свадебных обрядах сосна не имеет, по-видимому, того грустного значения, какое ей придается в песнях; так, из сосновых ветвей делается вильце, убранное разными украшениями и цветами. Но сосна здесь означает не себя, а другое дерево, и употребляется на вильце только зимою, потому что на вильце требуется дерево зеленое, а она одна в это время года зеленеет; если же свадьба бывает в такое время года, когда можно достать иное зеленое дерево, то употребляют ветви яблони, груши, черемухи, калины. Вероятно, в древности для этой цели назначалась специально калина, так как и теперь калиновыми ягодами непременно должно убираться вильце. В песнях, приноровленных к обряду убирания вильца, поется о калине, и нам кажется, что сосна здесь стала заменять калину, что сделалось уже при ослаблении прежнего строгого сознания поэтической символики.
Як ми вилйце вили,
Вси лужечки сходили,
Червону калину поламали.
Говоря о сосне, мы не можем не упомянуть о чрезвычайно странной песне, которой смысл для нас совершенно непостижим. «За воротами, за праворотами (?) стоит сосна, она ярче серебра, прекраснее золота; в этой сосне корабль плывет, в том корабле красная девица; пришел маленький мальчик – она на него засмотрелась, она поклонилась хоругви».
За воритьми, за праворитьми.
Там стоит сосна вид срибла ясна,
Вид срибла ясна, вид злата красна,
А у тий сосни корабель пливе,
А в тим корабли кгречная панна;
Прийшло до ней мале пахоля,
Вона на его задивилася,
Короговци поклонилася.
«А я гетмана перепрошу,
Тебе, молоду, замуж возьму».
«А я (говорит, по-видимому, мальчик) гетмана упрошу, тебя молодую замуж за себя возьму». Никак нельзя поручиться, чтобы тут и первоначально была сосна: могло быть, конечно, другое дерево, могли образы совсем перепутаться и исказиться, что, вероятно, и произошло.
Осина в песнях малорусских почти не встречается; только в галицких колядках поется, что Божия Матерь шла через гору с Младенцем-Спасителем и стала на пути отдыхать; тогда все деревья склонили свои ветви, но проклятая осина не поклонилась, а с нею также показал строптивость и проклятый терн. За это проклятой осине суждено трястись, а терну – колоть до Страшного суда.
Стало ий ся стало галузья кланяти,
Бучья й коринья и всяке творинья,
Лем ся не вклонили проклята осика,
Проклята осика и прокляте терня.
Проклята осика! Бодай ся трясла
До суду судного, до вику вичного;
А прокляте терня! Бодай есь кололо,
До суду судного, до вику вичного!
Это предание (совпадающее с апокрифическим преданием о поклонении деревьев Христу), по-видимому, немецкое, по крайней мере оно существует в Германии (см. Nork Mythol. der Volksg. 951), и можно предполагать, что оно вошло в Галицию от немцев. Но есть другая песня, где трясение осины происходит из другого источника. Идет речь о какой-то девице. Ее отец пашет землю и говорит: «Нет моей девочки, некому водить волов!» Старший брат сеет пшеницу и говорит: «Нет моей сестры, некому носить пшеницу!» Средний брат собирается боронить и говорит: «Нет моей сестрицы, некому водить лошадей!» Старая мать ткет и говорит: «Нет моей девочки, некому навивать челноки». Меньшой брат вынимает пистолет и собирается за сестрой. Как только сестра это услышала, так от печали рассыпалась в прах. Тогда черные вороны отправляли над нею погребение, а мелкие пташки хорошо пели. Поклонились деревья, и коренья, и всякое творение. Не поклонилась несчастная осина. Дрожи же ты, осина, отныне до века, до Страшного суда.
Скоро того дивча скоро вислухало,
Зараз ся од жалю на прах россипало,
А чорни гаврани погриб одправляли,
А дрибни птачкове барз красно спивали.
Вшитко ся кланяло древо и кориня,
Древо й кориня и вшитко створиня,
Лем ся не вклонила несчастна осина.
Бодай ся трепала од нини до вика,
Од нини до вика до вика вичного,
До вика вичного, до суда страшного.
Эта странная песня непонятна, тем более что в ней нет начала содержания, да кроме того, может быть, в ее настоящем виде она смешалась с другими песнями, но все-таки она показывает, что в первой песне о Младенце-Христе трясение осины не христианского происхождения, а скорее этот образ, будучи древним языческим, приспособился к христианским представлениям, и Богородица, как во многих других песнях, так и здесь, заменила какое-то другое мифологическое лицо. Поэтому, несмотря на сходство с немецким преданием, образ трясения осины едва ли можно считать заимствованным, особенно в более позднее время.
В галицких колядках проклятым деревом представляется ива, и начало проклятия над нею отнесено к страданию Христа. Когда жиды мучили Христа, клали ему на голову терновый венец, подпоясывали его ежевикою и хмелем и забивали ему под ногти щепки разного рода, ни одно дерево не пошло под ногти, но согрешила червивая ива; она одна пошла под ногти, пролилась кровь, и сам Господь проклял иву: «Чтоб тебя, ива, точили черви от младости до старости, от корня до верхушки!»
Як жидова Христа мучили,
Терновий винок на голову клали,
Ожиною, хмельом вперезували,
Всякое древо за ногти клали.
Всякое древо за ногти не йшло,
Червива ива та й прогришила,
За ногти пишла, кривцю пустила.
Червиву иву сам Господь проклял:
«Бодай тя, иво, черва точила,
Вид молодости аж до старости,
Вид коринячка аж до вершечка!»
Вот, насколько нам известно, все растения, как травянистые, так и деревянистые, встречаемые в народных песнях с более или менее определенным символическим значением. Нам остается указать еще на значение леса вообще.
Лес в народных песнях является в видах и наименованиях луга (лес на низменном месте), диброви (дуброва), гай (роща), лис и бир (бор). Последние два вида в песнях встречаются реже. Близость человека к природе резко выражается в песенных отношениях к лесу. Народное сердце очень любит его. К лесу обращаются как к существу, способному принимать участие в человеческих ощущениях. Молодец находится в раздумье, жениться ли ему или оставаться холостым; он обращается к роще за советом.
Ой, гаю, гаю, ридний брате,
Порадь мене, гаю, що маю робити:
Чи мини жениться, чи так волочиться?
Видя рощу в опустошенном виде, спрашивают ее, что это значит, а роща отвечает, что была холодная зима; шло войско, ночевало под рощею и опустошило ее.
«Чого, гаю, невеселий?
Чого, гаю, незелений?» —
«Як я маю зеленити:
Була зима студеная,
Ишло вийсько великое,
Пидо мною ночувало,
Кориннячка потоптало,
Кориннячка копитами,
А гильлячка шабельками».
Девица расспрашивает у дубровы, какая птица раньше встает, какое растение лучше цветет, кому худо, кому хорошо на свете жить? Дуброва дает ей ответ (ответ о цветах тот самый, какой мы привели выше, говоря о розе).
«Зеленая дибривонько, скажи мини правдоньку,
Котора пташина ранний уставае:
Чи той-то малий воробейко,
Чи той соловейко,
Чи сивая зозуля?» —
«Малий воробейко устае раненько,
А той соловейко щебече раненько,
А сива зозуля трошки засипае». —
«Зелена дибривонько, скажи мини правдоньку,
Кому красче, кому гирше в свити проживати:
Чи бидний вдови, чи мужний жони,
Чи той прекрасний дивици?» —
«Бидна вдова хлиб-силь заробляе,
Мужняя жона все склади складае,
А у той дивици и думки не мае».
В галицких колядках дуброва своим шумом дает знать охотнику, что в ней есть дивный зверь.
Ой, зашумила зелен диброва,
Ой, чож ти шумиш, ой чож ти звениш?
«Ой, шумью, шумью, бо в соби чую
Дивное звиря, тура-оленя».
Скорбное чувство ищет у рощи участия к своему горю. Мать, разлученная с сыном, обращается к роще и говорит ей, что у нее нет более любимого дитяти.
Ой, гаю мий, гаю!
Котору дитину
Кохала, любила —
У себе не маю!
Девушка, потерявшая девство, бросает в воду венок и посылает его по воде в лес, чтобы рощи тосковали с нею об ее горе.
Задай тугу зеленому лугу,
Задай жалю зеленому гаю!
Шум леса усиливает печаль сиротствующего в чужой стороне молодца:
Ой, не шуми, луже, ти зелений гаю,
Не завдавай сердцю жалю, бо я в чужим краю! —
и женщина, разлученная с милым, просит дуброву не шуметь тогда, когда она будет идти через нее, а зашуметь тогда, когда она будет от нее вдалеке.
Ой, не шуми, дибривонько,
Та не шуми, зеленая,
У три ряди саженая;
Та не шуми надо мною,
Як я буду ити тобою.
Но зашуми той хвили,
Як я буду за три мили.
Но есть песня, в которой, наоборот, безмолвие рощи производит томительное чувство на одинокую и грустную особу, находящуюся в чужом краю.
Ой, гаю мий, гаю, густий, зелененький!
Що на тоби, гаю, витроньку не мае,
Витроньку не мае, гильля не колише?
Братець до сестрици часто листи пише:
«Сестро моя, сестро, сестро украинко,
Чи привикла, сестро, на Вкраини жити?» —
«Ой, брате мий, брате, треба привикати:
Од роду далеко – никим наказати».
Переполненное грустью сердце хочет избавиться от тяжести и рассеять грусть по лесу.