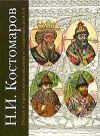Текст книги "Русское язычество. Мифология славян"
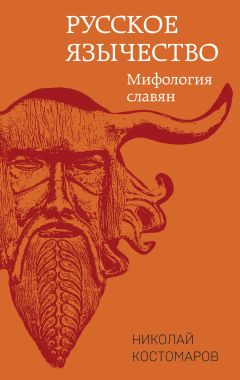
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Запорожець, мамо, запорожець
Водив мене босу на морозець!
Мороз, сдавливающий воду, сравнивается с сердцем, недружелюбно относящимся к другому сердцу.
Витер вие, вода шумить, мороз натискае,
Твое серце мому серцю вирне не сприяе.
Мороз, поражающий дуб, – образ несчастия козака, которого постигает необходимость идти в поход и разлучиться со своею милою.
Розвивайся, сухий дубе, завтра мороз буде!
Убирайся, козаченько, завтра поход буде!
Я морозу не боюся – вранци розивьюся,
Я походу не боюся – вранци уберуся.
В одной песне (вероятно, купальской, доставленной нам из Подолии) смерть сопоставляется с морозом и представляется танцующею с морозом.
Смерте, смерте, иди на лиси,
Иди на безвисть, иди на море,
И ти, морозе, великий, лисий,
Не приходь до нас з своей комори!
Смерть з морозом танцювала
И на море десь погнала.
Огонь в малорусских песнях не принадлежит к часто упоминаемым предметам и не имеет ясного символического значения. Общее в поэзии других народов сравнение любовного чувства с жаром, пламенем почти чуждо малорусской поэзии, если из области ее выбросить песни, недавно уже заимствованные. Исключение составляет в этом отношении между чисто малорусскими песнями игра в «горю дуба», где на вопрос: «Зачем ты горишь?» – следует ответ: «За тобою» или «По тебе, молодой».
«Горю, горю дубе». —
«Чого ти горишь?» —
«Красной дивици». —
«Якои?» —
«Тебе молодой».
В купальских песнях, где огонь должен бы играть важную роль, он, насколько нам известно, встречается только два раза (да и то в одной, не чисто купальской, а из так называемых петровочных, которые нередко смешивают с купальскими); но в обеих песнях дальнейшее содержание не имеет отношения к огню, о котором упоминается в начале. В первой после пылающего дуба следует описание, как девица белила полотно и воображала себе свою будущность: пойдет ли она за милого или за немилого.
Ой гори, гори, сухий дубе!
Паше поломья з тебе дуже.
Содержание второй – шуточное.
На Купала огонь горить,
Нашим хлопцям живит болить.
В веснянках огонь встречается несколько раз, и притом в непонятных образах. В одной говорится, что девица в день Преполовения погнала стадо рогатого скота, потеряла корову и зажгла дубраву.
У преполовну середу
Погнала дивка череду,
Та загубила корову,
Та запалила дуброву.
Еще загадочнее другая веснянка, где представляется, что девица зажгла дубраву своею блестящею одеждою.
Ой, ишла дивонька через двур, через двур,
На ней суконька в девять пул, в девять пул;
Стала суконька сяяти, сяяти,
Стала диброва палати, палати.
Идить, парубки, диброви гасити, гасити;
Решетом водицю носити, носити,
Скильки в решети води е, води е,
Стильки в парубкив правди е, правди е.
Потом опять повторяются первые четыре стиха, а затем поется:
Идить, дивоньки, диброви гасити, гасити,
Кубоньком водицю носити, носити;
Скильки в кубоньку води е, води е,
Стильки в дивочок правди е, правди е.
Из третьей веснянки можно предполагать, что тут есть какая-то связь с веснянкою о воротаре (см. ниже). Таким образом, в игре, которую сопровождает пение веснянки о воротаре, девицы носят на протянутых руках ребенка; в других местах та же игра – хождение с ребенком, и непременно женского пола, на протянутых руках – сопровождается песнею о зажженной дуброве, и погашение этого пожара приписывается лицу:
Ой, вербовая дощечка, дощечка,
Там ходила Настечка, Настечка,
Та цебром воду носила, носила,
Зелену диброву гасила, гасила,
Скильки в цебри води е, води е,
Стильки в дивочок правди е, правди е.
Потом повторяются первые два стиха, а за ними:
Решетом воду носила, носила,
Зелену диброву гасила, гасила;
Скильки в решети води е, води е,
Стильки в парубкив правди е, правди е, —
которое изображает носимая на руках девочка. Это, должно быть, обломки древнего мифологического представления, относящегося к почитанию солнца, огня и воды, наиболее выражавшегося в весенних празднествах. Быть может, зажигающая девица была образ солнечной палящей силы, а гасящая вода – дождь, обращающий палящую силу в плодотворную. Одежда девицы, зажигающая своим блеском дубровы, вероятно, есть те же ризы, которые в колядках, по одним вариантам, просто госпожа, а по другим – Богородица, белила на Дунае и которые ветры унесли на небеса на одеяние Богу.
На тихим Дунай, на крутим бережку,
Там господиня ризи билила…
Ой десь узялись буйний витри,
Та взяли ризи пид небеса…
Вси небеса росчинилися,
А в тии ризи сам Бог убрався.
Тем более что в другой колядке самый праздник Рождества представляется в виде огненного дива:
Уси святии ослоном сили,
Тильки немае святого Риздва.
Рече Господь святому Петру:
«Петре, Петре, послуго моя!
Пиди принеси святее Риздво».
Не ввийшов Петро як пив-дороги,
Здибало Петра чудо чуднее,
Чудо чуднее, огнем страшное.
Петро злякнувся, назад вернувся.
Рече Господь до святого Петра:
«Ой Петре, Петре, послуго моя!
Чож ти не принис святого Риздва?» —
«Ой здибало мене чудо чуднее,
Чудо чуднее огнем страшное!
А я жахнувся, назад вернувся». —
«Ой не есть то, Петре, нияке чудо,
А то есть святее Риздво;
Було его взяти, Петре, на руки,
Сюди принести, на стил покласти
Зрадовались би уси святии,
Що перед ними Риздво сило», —
что делается понятным, если вспомнить, что праздник Рождества заменил языческие празднования-возвращения или возрождения солнечной палящей силы. С образом зажженной дубровы состоит в переносной связи песня о курящейся дуброве, с которою сравнивается девица тоскующая.
Зелененькая дибривонька, чом не гориш, тильки куришся?
Молодая дивчинонька, чом не живеш, тильки журишся?
В одной веснянке поется о пожарах (т. е. огнях) на пятой неделе Великого поста:
Пожари горили
На билий недили.
Здесь можно было бы разуметь обычай выжигать на степях сухую прошлогоднюю траву раннею весною, но так как это не единственный признак огня в веснянках, то и в этой песне скорее надобно видеть указание на древнее значение огня в языческие времена. Игра «горю дуба», о которой мы упоминали, относится к тому же.
В одной песне пылание зажженной соломы сопоставляется со смертью девицы.
Роспалю я куль соломи, не горить – палае.
Бижи, бижи, козаченьку, – дивчина вмирае.
В свадебных песнях невеста говорит матери: «Загребай, матушка жар: будет тебе жалко дочки».
Загрибай, мати, жар, жар:
Буде тоби дочки жаль, жаль.
Здесь, кажется, та мысль, что когда мать будет топить печь, то пожалеет о своей дочери, вспомнив, как она разделяла и облегчала труды матери.
Девица сравнивает сожаление молодца о том, что она не вышла на улицу, с горящими угольями, тогда как она не топила печи и ничего не варила.
Не топила, не варила – на припичку жар, жар,
Як не вийду на улицю – комусь буде жаль, жаль.
Здесь топка печи и варка сопоставляются с выходом на улицу и беседою девицы.
Горящая свеча символизирует доброе желание и как будто заключает в себе таинственную силу помощи. Девица хочет зажечь свечу и послать к Богу, чтоб ее милому был счастливый путь.
Ой засвичу яру свичу, та пошлю до Бога,
Та щоб мому миленькому счастлива дорога.
Козак просит девицу засветить восковую свечу, пока он перейдет вброд быструю реку.
Ой засвити, дивчинонько, восковую свичку:
Нехай же я перебреду сю биструю ричку,
В одной веснянке поется о зажженных свечах перед солнцем и перед месяцем.
Засвичу свичу
Проти сонечка.
Тихо иду,
А вода по каминю,
А вода по билому
Ище тихше.
Засвичу свичу
Проти мисяця.
Тихо иду, и пр.
Не горить свича
Проти (т. е. в сравнении с светом солнца) сонечка,
Тихо иду, и пр.
Не горить свича
Проти мисяця,
Тихо иду.
Не было никакого повода возникнуть такому образу в христианские времена, притом же этот образ встречается в весенних песнях, в которых более сохранилось следов глубокой старины. Поэтому мы думаем, что символизм свечи (или вообще светильника) в малорусских песнях не возник из христианских приемов, а составляет один из признаков древнего языческого миросозерцания.
Сгорение – образ невозвратной потери. Несчастный сирота спрашивает свою судьбу: не утонула ли она или не сгорела ли? Если утонула, то просит приплыть ее к бережку, а если сгорела, то ему остается только сожалеть.
Чи ти в води потонула, чи в огни згорила?
Коли в води потонула – приплинь к береженьку,
Коли ж в огни погорила – жаль мому серденьку.
Четыре времени года в малорусских песнях выразились неравно. Как мы уже сказали, зима почти ускользает из них; зимних образов нет даже в колядках, которые поются исключительно в зимнее время. То же и с осенью, хотя это веселое время свадеб.
А Маруся Ивасеви рученьку даия:
«Отсежь тоби, Ивасеньку, рученька моя;
Яко диждемо до осени – буду я твоя!» —
или:
Ой, коли б нам у осени на ручничку стати,
Не разлучать нас з тобою ни отець, ни мати, —
и вечерниц:
Вже минули суниченьки и полуниченьки,
Вже настали осинии та вечерниченьки, —
сборищ молодежи обоего пола, происходящих не под открытым небом, а в хатах, о чем вскользь сообщают и песни. Время глубокой осени живо представляется только в одной шуточной песне, где о молодце, любителе переменных сердечных ощущений, говорится, что он прозяб как пес, стоя под окном, и промок как волк, шатаясь по улице.
Измерз як пес, пид виконечком стоя,
Промок як вовк, по улицях ходя.
Самое любимое время – весна, которой посвящен целый ряд песен – веснянки или (в Подолии и в Галиции) гаивки. Признаки весенней природы рассеяны в этих песнях повсюду: разлитие вод, развивание деревьев, сеяние хлебных и огородных растений, пение птиц и более всего – беззаботная, игривая веселость, оттеняемая, однако, сумраком ожидания житейских невзгод, нередко насмешливая, сообразно малорусской натуре.
Розлилися води на четири броди,
Припев: Гей, дивки, весна красна, зилыга зелененьке.
У першому броди зозуля ковала,
У другому броди – соловейко щебече,
У третему броди – сопилочка грае,
В четвертому броди – дивчина плаче.
Зозуленька куе – литечко чуе,
Соловейко щебече – сади развивае,
Сопилочка грае – улицю скликае,
Дивчина плаче – недоленьку чуе,
Недоленьку чуе, за нелюба йдучи.
Или:
Ой, чижику, мала пташечко,
Скажи мини щиру правдочку,
Кому воля, кому нема воленьки.
Дивонькам своя воленька:
То за стричечку, то за виночок,
То на улочку, то у таночок.
Молодичкам нема воленьки:
На приничку горщик бижить,
У запичку буркун сидить,
У колисци дитя кричить.
Горщик каже – одстав мене,
Буркун каже – укрий мене,
Дитя каже – росповий мене.
Или:
Спивали дивочки, снивали,
В решето писеньки складали,
Тай повисили на верби;
Як налинули горобци —
Звалили решето до долу:
Час вам, дивочки, до дому,
Мишати свиням полову;
А ей, хлопци, за нами,
Иижьте полову з свинями!
Последнее качество высказывается в целом ряде песен, где девицы подсмеиваются над молодцами, самих себя изображают в хорошем свете, а их – в комическом виде.
Ой, наша парубки
Поихали на лови,
Та вловили комаря,
Стали его дилити:
Сему-тому по стегну,
А Микити тулупець,
Що хороший молодець;
А Василеви голова,
Що великий без ума;
А Йвасеви хвостище,
Що великий хвастище.
Значительная часть этих песен сопровождается играми сценического свойства. Должно быть, в языческое время многие из них были религиозным освящением разных занятий, предстоящих в наступающее лето.
Ой збирайся, родино,
Щоб нам жито родило,
И житечко, и овес,
Ой, збирайся рид увесь,
И пшеница, и ячминь,
Щоб нам жать було смашний.
Таким образом, мы встречаем здесь сеяние проса, жита, льна, мака, гороха, пасение скота; в число таких занятий входила и война, как показывает одна веснянка, в которой девицы, разбиваясь на две половины, показывают вид, что идут воевать одни против других, и поют: «Пустите нас воевать этот свет!» – «Не пустим, не пустим ломать мосты, – отвечают другие. – А мы как захотим – мосты разломаем и заберем все деньги».
«Пустите нас, пустите нас сей свит воювати». —
«Не пустимо, не пустимо мости поламати». —
«А ми як схочемо —
Мости поломимо,
То вси гроши заберемо».
Игра в зайчика с песенкою, где изображается пойманный зайчик, указывает на охоту.
Зайчику сиренький,
Зайчику биленький,
Як зажену зайчика
Клинцем булавинечком.
Та никуда зайчику вискочити.
Многие игры и песни изображают события семейной жизни. Есть песни, в которых весна представляется олицетворенною. Ее торжественно приглашают (закликают), обращаясь к какой-то матери с припевом, бесспорно языческим: «Ой, лелю-ладо!» —
Благослови, мати,
Ой, лелю-ладо, мати!
Весну закликати,
Зиму провожати, —
припевом, который вообще употребляется при многих веснянках. В другой веснянке, обращаясь к весне, приглашают развиваться дуброву.
Ой весно, весно, веснице,
Час тоби, диброво, розвиться.
В третьей поется: «О, весна, весна, с красными днями! Что ты нам принесла?» – «Я принесла вам лето, зелень хлебную, хрещатый барвинок, пахучий василек».
«Ой весна, весна, днем красна,
Що та нам, весна красна, принесла?» —
«Принесла вам литечко,
Зеленее житечко,
Хрещатенький барвиночок,
Запашненький василечок».
В четвертой перечисляются занятия, ожидающие людей разного возраста: детей, стариков, старух, хозяев-земледельцев, замужних женщин и девиц.
«Ой, весна, весна, що нам принесла?» —
«Ой, принесла тепло й добрее литечко,
Малим диткам – ручечки бита,
А старим дидам – раду радити,
А старим бабам – посиданьнячко,
А господарям – поле орати,
А молодицям – кросенця ткати,
А дивонькам – та й погуляти!»
Сама весна изображается матерью: у нее дочь-девица; она, сидя в садике, шьет рубашку к своей свадьбе.
«Весна, весна, весняночка,
Де твоя дочка паняночка?» —
«Моя дочка у садочку,
Шие вона сорочку
Шовком та билью,
К своему весильлю».
Или, выгнав бычка за ворота, прядет, с намерением употребить пряжу отцу на полотенце, матери на серпанок (головное белое покрывало), а милому на подарок.
«Весна, весна весняночка,
Де твоя дочка паняночка?» —
«Погнала бичка за воротечка:
Пасися бичку, поки спряду мичку
Свому батеньку на рукавичку,
Своий матинци на серпаночок,
Свому миленькому на подарочок».
Эта весна или же, может быть, дочь ее – веснянка – олицетворяется в игре; девицы выбирают из среды своей самую красивую, обвешивают ее всю зеленью, на голову кладут венок из цветов, сажают на возвышенном месте, а перед нею кладут кучу венков. Все поют и пляшут перед нею. Потом она бросает на воздух венки, и девицы должны ловить их. Такой венок сохранялся до будущей весны как память прошедшей весны, если девица не выходит замуж до будущего года. Вероятно, все эти представления олицетворенной весны как в песнях, так и в играх истекают из глубокой языческой древности. Вероятно, также следует видеть остаток древнего мифологического изображения наступающего лета – или начала плодотворной деятельности солнца в виде новорожденного младенца – в веснянке, соединенной с игрою, называемой воротарь, распространенной во всем малорусском крае и во многих местах или вовсе потерявшей название воротаря, или изменившей его на володаря. Зовут привратника (воротаря). Он спрашивает: «Кто там у ворот кличет?» – «Царская (или панская) слуга». – «Что принесла?» – «Крошечное дитя». – «В чем оно посажено?» – «В золотом кресле». – «Чем оно играет?» – «Серебряными орешками». – «Что оно подкидает вверх?» – «Золотое яблочко».
«Воротарю, воротарю!» —
«Хто, хто у ворит кличе?» —
«Царськая (или панськая) служечка». —
«А що в ней принесено?» —
«Мизильнее дитя». —
«А в чим воно посажено?» —
«В золотим кресли». —
«А чим воно цятаеться?» —
«Срибними оришками». —
«А чим воно пидкидаеться?» —
«Золотим яблучком».
Или:
«Володарь, володарь,
Чи дома господарь?» —
«Та нема его в дома:
Поихав по дрова.
Церква замикана.
Церква одмикана…» —
«А хто в теи церкивци?» —
«Золотее дитятко». —
«А що з воно робить?» —
«Золотого ножика держить». —
«А що воно крае?» —
«Срибнее яблочко».
Точно так же древнее представление упадающей и снова воскресающей в течение круга годичного силы солнца образом умершего и ожившего человеческого существа отразилось в игре Кострубонько с соответствующими песнями, которые, однако, в настоящее время уже сильно разложились.
Умер, умер Кострубонько,
Умер, умер голубонько.
Умер та й не дише…
Кострубонька поховали,
Ниженьками притоптали.
Прийди, прийди, Кострубонько,
Стану з тобою на шлюбоньку,
Упедилю в недилочку,
При раннему сниданьячку.
Этот Кострубонько – то же, что великорусский Ярило, или сохранившееся в некоторых великорусских местностях безыменное погребение весны. Песня говорит: «Умер, умер Кострубонько (уменьшительное от Коструб – нечоса, насмешливое прозвище, без сомнения, явившееся впоследствии, под внушением христианского презрения к языческим празднествам и забавам), умер голубчик, умер и не дышит». «Только … колышет», – прибавляют молодцы, тем самым давая повод искать связи Кострубонька с великорусским непристойным Ярилою и с древним мифологическим символизмом лингама и фальлуса, особенно с египетским мифом о воссоздании умерщвленного Тифном Озириса из его детородных частей, спасенных Изидою; его похоронили, притоптали ногами. Это одна половина песни. Другая представляет Кострубонька ожившим и говорит о браке Кострубонька: «Приди ко мне, Кострубонько, вступи в брак со мною в день недельный, при раннем завтраке». В Западной Малороссии игра в Кострубонька сопровождается неоднократными восклицаниями: «Христос Воскресе», что еще более побуждает предполагать, что в древности песня эта со сценическими действиями выражала такой образ, который, по внешним признакам, имел сходство с христианским представлением о смерти и воскресении Христа. Лету также посвящены особые разряды песен: троицкие, петровочные, купальские, наконец, песни, сопровождающие сельские работы, – гребецкие и зажнивные. Все носят на себе признаки времени года. Здесь встречаете короткую ночь, которая не дала девице выспаться:
Мала ничка петривочка —
Не виспалась наша дивочка, —
венки из летних цветов, купанье:
Купалочка купалася
На бережку сушилася, —
высокую траву в саду, где могут скрываться волки:
А в мого батька сад над водою,
Сад над водою – зильля торою,
А в тому зильлю вовки завили, —
и беленье полотен:
Там Катерина биль билила,
А билячи говорила:
Биле мое, биле крамне, тоненьке, —
и комаров, которые кусаются:
Та вже три дни три недили,
Як мого нелюба комари зьили.
Или:
Та вже сонце на гори —
Кусаються комари.
Здесь являются и русалки – эти фантастические существа, в поэтическом мировоззрении народа составляющие принадлежность лучшего периода летнего времени.
Сидили русалки
На кривий берези;
Просили русалки
В дивочок сорочок,
В молодиць намитокь:
Хоч вона худенька,
Та аби б биленька.
Или:
Проведу я русалочку до бору,
Сама я вернуся до дому.
Ой, коли ж ми русалочки проводили,
Щоб до нас часто не ходили,
Та нашого житечка не ломали.
Летнее время, особенно до начала работ, так называемой рабочей поры – время веселое. Девица жалуется, что она не видала лета, что для нее ни кукушка не куковала, ни соловьи не щебетали: ее мать не пускала гулять на улицу.
На мори вода хитаеться,
Дивчина лита питаеться:
«Ой, молоди, молодици,
Чи були ви на юлици?
Ой чи було лито, чи не було;
Чомусь мини невеличке воно?
Ни зозуленьки не кували,
А ни соловейки не щебетали:
Мене мати гулять не пускала!»
Мы не встречали олицетворения лета с именем лета, как весны, но есть песня, где олицетворяется петровка, т. е. время Петрова поста, серединное лето, обыкновенно время наибольшей солнечной силы и высшего блеска природы. Девицы встречают петровку и заплетают ей русую косу; потом проводят ее и расплетают, когда кукушка прячется в капусту, т. е. перестает куковать.
Ой, коли ми Петривочки диждали,
То ми ий русу косу заплитали;
Тепер же ми Петривочку проведемо,
Ми ж ий русу косу росплетемо.
Ужеж тая Петривочка минаеться,
Зозуля у капусту ховаеться.
Земля – мать; обыкновенный ей эпитет – матушка сырая земля. Она символ богатства и изобилия. Она запирается и отпирается, как небо. Это отпирание, символизирующее весеннее оживление природы, совершается в одной колядке св. Юрием, вероятно, заменившим, под христианским влиянием, другое мифическое лицо.
Ой, вставай, пане, вельми рано,
И сам уставай, и челядь буди.
По твому полю сам Госпидь ходить,
Сам Госпидь ходить – три святци водить:
Ой, перший святець – святий Юрья,
А другий святець – святий Петро,
А третий святець – святий Илья;
Святий Юрий – землю одмикае,
Святий Петро – жито зажинае,
А святий Илья – в копи складае.
На свадьбах говорят такое обычное приветствие: «Будь здорова, как вода, а богата, как земля».
Земля – главное местопребывание умерших. По-видимому, песенный мир, насколько он еще пребывает с языческим миросозерцанием, за пределами земли не знает никакого общего для всех отживших местопребывания. Иногда песня встречает их в деревьях, птицах, камнях, но чаще всего ищет их в земле – той самой земле, куда живые положили их после смерти; песня заставляет их из-под земли вести разговоры с ходящими по земле и приписывает им такие ощущения, какие бы мог иметь живой человек, положенный в могилу и остающийся там с признаками жизни. На свадьбе сироте-невесте поют, что она просит к себе на пир умершего родителя или мать – умершие подают ей голос не с неба, не из рая, но также не из ада, чего можно было ожидать от народа, много веков исповедующего христианскую веру, – они ответ дают из земли; они сообщают дочери, что хотели бы прийти к ней, да не в силах: на грудь им земли навалили, глаза их засыпаны песком – нельзя им глянуть, уста их запеклись кровью – не могут они проговорить слова.
Прибудь, прибудь, мий таточку (моя матинко),
тепера ко мни.
Ой, дай мини порадоньку, бидний сироти!
Ой, рада б я, дитя мое, прибути к тоби —
Насипано сирой земли на груди мини,
Засипани писком очи – не гляну к тоби,
Закипили уста кровью – не мовлю к тоби.
То же говорит и умерший отец жениха, если жених не имеет родителей:
Ой рад би я соловейком прилитати,
Придавила сыра земля, та не могу встати.
Умерший молодец также из глубины земли говорит своей милой, чтоб она не плакала по нем, стоя на его могиле, и не сыпала бы на него земли, потому что сама она знает, что тяжело под землею.
Не стий на могили, не плачь надо мною,
Не плачь надо мною, не сипай землею,
Сама мила знаешь, що важко пид нею!
В другом варианте этой же песни прибавляется еще материальнее: тяжело сердцу и животу.
А моя могила край Дунаечку,
Ой край Дунаечку – тяжко на сердечку.
Не стий на могили, не кидай писочку,
Бо з тяжко и важко серцю й животочку.
В иной песне, очень распространенной, овдовевший отец носит на руках ребенка над могилою своей жены и взывает к ней, чтоб она встала, потому что расплакалось дитя. Умершая из-под земли отвечает: «Пусть оно плачет – оно перестанет, а мать не встанет из могилы; пусть оно плачет – оно перетерпит, а матери никогда не будет».
«Та встань, мила, та встань, дорогая,
Росплакалась дитина малая!» —
«Нехай плаче – воно перестане,
А матинка из земли не встане!
Нехай плаче – воно перебуде,
А матинки до вику не буде!»
Подобно тому в песне о чумаке, умершем во время путешествия и погребенном в зеленом буераке, мать в виде кукушки прилетает на его могилу и просит подать ей правую руку. «Я бы рад был и обе руки подать, – отвечает ей умерший, – да насыпали сырой земли – поднять не могу».
Прилетила зозуленька, та й сказала: «Куку!
Подай, сину, подай, орле, хоч правую руку». —
«Ой, рад бы я, моя мати, обидви подати,
Насипано сирии земли – не можно пидняти».
Такой способ воззрения указывает на ту отдаленную эпоху первобытного человеческого развития, когда, похоронив себе подобное существо, люди, не успевшие расширить своего мыслительного горизонта до создания более сложных и свободных образов, воображали себе умерших с признаками жизни там, где оставили их трупы, и для этого, погребая мертвых, клали с ними съестные припасы. Первобытные верования угасли, но представления, соединенные с этими верованиями, удержались и в противоположность христианским понятиям, которые мало отразились в песнях. Эти древние представления в настоящее время имеют значение как бы отрицания всякого существования после смерти и погребения, по крайней мере, так само собою показывается в некоторых песнях. В одной песне от имени умершей жены, которую муж умоляет встать, говорится: «Еще никто не видел того, чтоб умерший встал из навы».
Та ще того нихто не видав,
Щоб умерший з нави встав.
Нава, очевидно, какая-то область мертвых; но эта область не что иное, как глубина земли. Вышеприведенные слова песни показывают, что, по народному воззрению, в этой наве лежат без движения.
Любовники в своих взаимных обетах надеются жить вместе только на этом свете; о мечтаниях за гробом нет и помину: их навек разлучает заступ, лопата, дубовая хата, глубокая могила и высокая насыпь.
Вже нас не розлучать ни пип, ни громада,
Тильки нас розлучить заступ та лопата,
Заступ та лопата, дубовая хата,
Глибокая яма, висока могила!
Впрочем, народная фантазия, как известно, допускает иногда и явление умерших между живыми; самое слово нава близко с старинным словом навь – мертвец, но этот навь все-таки имел пребывание в земле (навь, из гроба исходящий); с переменою буквы н в м образовалось слово мавки – русалки, несомненно тени умерших, пугавшие живых людей, но их постоянное жилище в той же земле, почему они и называются «земляночки».
Русалочки-земляночки
На дуб лизли,
Кору гризли…
Встречаемый в песнях образ превращений в деревья и травы также не выводит умерших из земли более того, насколько корень растения остается в земле. Таким образом, все указывает, что, по древним понятиям, преимущественное и общее для всех отживших пребывание было в земле. Согласно этому представлению, земля в песнях есть последнее желанное убежище для страдания. В малорусских песнях несчастный не боится смерти и не льстит себя надеждами благополучия на том свете: он надеется на одну действительную успокоительницу – землю. К ней припадает и просит принять себя сиротка-девица, у которой земля уже приняла дорогих родителей:
Ой, дивчина плоскинь брала,
К сирий земли припадала:
«Земле моя, сиренькая,
Приняла ти отця й неньку,
Прийми мене молоденьку,
Як вишеньку зелененьку,
Як ягидку червоненьку».
В ней ищет прибежища и атаман погибшего, вероятно, в бою, военного отряда: «О, земля сырая, матушка родная! – восклицает он, припадая к земле. – Много приняла ты войска запорожского, прими и меня молодца-атамана».
Ой, ударивсь пан отаман об сирую землю:
«Земле, земле сирая, ти матуся ридная!
Приняла ти виська много запорозького:
Прийми мене отамана молоденького».
Могила в иносказательном образе выражения представляется женою или невестою погребенного. Есть чрезвычайно распространенная в разных видах песня, где козак посылает коня к родителям передать им весть о судьбе сына и приказывает ему не говорить, что он убит, а велит сказать, что он женился, взял себе в поле могилу – красную девицу.
Не кажи, коню, що я вбитий лежу,
А скажи, коню, що я оженився:
Та взяв соби дивчиноньку —
В чистим поли могилоньку.
Или:
Та взяв соби паняночку,
В чистим поли земляночку.
К этому в некоторых песнях прибавляется: она горда и пышна, ходит в зеленой одежде, не склонит головы ни перед царем, ни перед королем.
Горда та пишна в зелений сукни ходить,
Цареви, королеви голови не склонить.
Другой обычный образ могилы в виде дома или хаты. Вот везут козака с поля битвы, изрубленного, исстрелянного. Мать и сестра встречают его. Мать хочет искать целебных средств. «Зачем их искать? – говорят ей козаки. – Надобно хату строить: три доски сосновых, а четвертая кленовая, без окон, без дверей – там почивает козак-молодец».
На що, мати, лики одати?
Треба хату добувати,
Ой три доски сосновии,
А четверта клиновая,
Без виконець, без дверець,
Там шить козак молодець.
Из песен видно, что над гробом насыпали высокую «могилу» – холм.
Сосновая хата – висока могила,
Висока могила на рученьках,
Червона калина в головоньках.
Могилою называется в песнях не только обычное место погребения, но также насыпь-курган, который, как известно, очень часто действительно оказывается могилою отдаленных времен. В малорусских песнях эти могилы – один из любимых поэтических предметов. Есть очень распространенный песенный мотив о том, что могила говорила в степи с ветром и просила ветер повеять, утолить зной, чтоб на ней росла зеленая трава. К этому мотиву приплетаются песни различного содержания, напр., на могиле, говорящей с ветром, сидит козак, тоскующий в чужом краю, сопоставляющий свою грусть с грустным видом кургана, который никак не упросит ветер повеять на него.
У степу могила з витром говорила:
«Повий, витре, буйнесенький, щоб я не чорнила,
Щоб я не чорнила, щоб я не марнила.
Щоб на мини трава росла, та щоб зеленила».
Ой витер не вие, а сонечко грие,
Тильки краем край Дунаю трава зеление.
Сидить козак на могили, та й гадку гадае,
На Вкраину поглядае, тяженько вздыхае:
«Бодай тая ричка куширом заросла,
Що вона мене молодого в чужий край занесла».
В другой песне на могилу, обожженную солнцем и напрасно умоляющую ветер повеять на нее, приходит девица, утратившая своего милого.
Гей, в полю могила з витром говорила,
Гей, повий ти, витре, гей, повий, буйненький,
Щоби м ся зминила!
И витер не вие – сонце допикае,
Гей, та ино мене дивча як калина
Квитом прикривае,
Квитом прикривае и росить слезами.
В третьей песне, которая также начинается разговором могилы с ветром, рассказывается, как молодая женщина, отравившая своего мужа, плачет о своем горе и преступлении.
Де у поли могила з витром говорила,
Там молода старого из гроба будила.
Могила в песнях – место разных житейских положений, преимущественно военного быта, но иногда и сельского. У могилы прощается козак с родными; они долго стояли на могиле, провожая глазами родного.
Довго, довго вони на могили стояли,
Довго, довго вони козаченька вичьми провожали.
На могиле засыпает козак, привязавши своего коня к дереву, вдруг является девица, будит его ударом дубовой веточки по лицу, извещает, что татары хотят изрубить молодца.
Привязав коня к дубиноньци,
А сам спать лиг на могилоньци,
Де взялася молода дивчина,
Та зломили з дуба гилочку,
Та вдарила козаченька по личеньку:
«Встань, козаче, татари йдуть».
На могиле происходит побоище; след его остался на могиле – она покрыта кровью.
Козак полем проезжае,
Ой выихав край могили.
Край могили верховини.
«Ой, могило верховино,
Чому рано не горила?» —
«Ой, я рано не горила,
Бо кривцею обкинила». —
«А якою?» – «Козацькою,
Половину из ляцькою».
Из бесчисленных курганов южного края некоторые прославлены народною поэзией по именам. Такова Савур-могила, сделавшаяся нарицательным именем высокой степной могилы, подобно тому, как Дунай стал нарицательным именем большой реки. Вот близь этой Савур-могилы по широкой долине проходят запорожцы.
Ой, Савур-могила, широка долина, орел пролитае,
Иде висько, славне запоризьке, як мак процвитае.
Вот на Савур-могилу въезжает козак – посмотреть, где ему придется погибнуть в бою.
Ой, бижи, бижи, вороний коню, на Савур-могилу;
Ой, нехай же я там побачу, де я молод загину.
На этой Савур-могиле, по одному варианту, козак Голота побеждает бородача татарина и потом восклицает: «О, Савур-могила! Сколько я на тебе гулял, а еще такой добычи не добывал!»