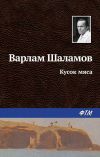Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
На колокольне опять звон.
Начинают проходить сквозь притвор в церковь лица, про которых принято говорить, что они являются к шапочному разбору. Это, по большей части, мужская молодежь, стремящаяся в церковь для того, чтобы повидаться при выходе из церкви со своими знакомыми и полюбоваться «на хорошеньких», встав по окончании службы группой перед папертью и заграждая собой дорогу выходящим из церкви.
Проходит франтик в шинели с бобровыми лацканами и воротником, отрясая бобровую шапку. У старух-нищих движение.
– Женишок… – кивает вслед ему нищая в заячьем чепчике. – После Рождества свадьба. На лабазнице Мамыкиной женится. Вот угловой-то дом уж к нему перейдет.
– А ты почем знаешь? – спрашивает кто-то из старух.
– Я-то? Да я к мамыкинской кухарке гадать хожу на ейного солдата. Ну, она меня кофейком, пирожком… дай ей Бог здоровья. А то и остаточки чего-нибудь в горшочке сунет. А Яблокова-то Мишу, жениха-то, я с измалетства знаю. Он на моих глазах и рос. Ведь я сколько лет в здешнем приходе маюсь. У нас в церкви и венчать будут. Приданое какое берет!
Так называемая нищая чиновница относится к сообщению старухи в заячьем чепчике с практической точки зрения и тотчас же заметила:
– Свадьба что! Свадьба для нас никакого толку. Во время свадьбы нешто подают за упокой души старушкам? Нам покойничек хороший, богатый лучше.
– Экая ты алчная, Варвара Захаровна! – осуждает ее кто-то.
– Будешь алчной, милая! Все дорожает, а доходы хуже и хуже. За угол-то раньше два рубля я платила, а теперь подавай хозяйке три.
В притвор вошел совсем лысый нищий с котомкой за плечами, в рукавицах, с палкой и с меховой шапкой с ушами, какую носят на севере.
Отерев рукавицей длинную бороду, он спросил у нищих:
– Поди, скоро кончится обедня-то, православные?
– А тебе зачем? – тотчас же отнесся к нему Андроныч. – Здесь просить милостыню нельзя.
– Я дальний, милостивец. Я проходом.
– Все равно уходи. Здесь своя нищая братия, приходская.
– Вологодский, благодетель. Я Христовым именем в Иерусалим пробираюсь.
– Ну и пробирайся. А здесь стоять нельзя. Проходи! – говорит Андроныч, делая движение.
– Мне бы малость на обед пособрать – я и доволен.
– Уходи, уходи! Мы к тебе в Вологду обедать не ходим, – заворчала одна из старух.
– Ну, мир вам!
Старик странник поклонился и стал уходить из притвора.
Показались выходящие из церкви богомольцы.
В открытые двери слышалось пение «Буде Имя Господне благословенно».
Старухи и старики оживились. Образовались плотные шеренги. Протянулись руки.
– Милостыньку, Христа ради. Подайте, благогодетели, – послышалось на несколько ладов.
Баба в нагольном полушубке протискалась мимо выходящих из церкви богомольцев, стояла уже в притворе и протягивала руку. При сильно хлынувшей из церкви толпе отогнать ее нищим было уже невозможно. Впору было только следить за сующими милостыню. Некоторые пожилые женщины купеческой складки останавливались и, подавая три копейки, требовали две копейки сдачи. Кто-то разронял медяки, стал наклоняться, чтобы поднимать их, но его столкнули, и он упал. Это была женщина. Ее подняли, и она говорила:
– Ведь больше, чем на гривенник. Ну да уж нищей братии счастье. Вы, старушки, потом поднимите. Поднимите и поделитесь.
– Подымем, матушка… Спасибо… Телу во здравие вам, души во спасение.
– Поделитесь пополам… – произносит кто-то.
– Да как тут делить-то, батюшка? Ведь это старый грош, – откликается нищая.
Франтик в пальто и белом кашне увивается около молоденькой девушки с ротиком, сложенным в сердечко.
– А я вас вчера за всенощной искал-искал, так и не мог найти. Где вы стояли?
– Я нарочно от вас скрылась, – отвечает девушка и превращает ротик в форму бантика.
– На построение храма Господня! – звучит над ее ухом уже на ступеньках паперти голос монашенки со сборной книжкой.
Это раздается слева. А справа слышится тенористый возглас:
– На обгоревший храм святого великомученика…
Два форменных чиновничьих пальто разговаривают, протискиваясь на паперть:
– Вы что же вчера сделали?
– Можете себе представить: шесть с полтиной проиграл. А ведь как везло сначала! Играл с выходящим. Но потом начали попадаться такие игрочки, что мы то и дело шлемы прозевывали.
Толпа выходящих из церкви поредела. Выходили в одиночку только оставшиеся в церкви на молебен. Показалась енотовая шуба. Чиновница тотчас возгласила:
– Батюшка Иван Васильич, с ангелом, кормилец! Желаю здравствовать вам и всему семейству вашему.
Шуба в недоумении останавливается.
– Откуда ты знаешь, бабушка, что я именинник?
– Милостивый благодетель, я у вас в доме на задворках пятый год живу. Сегодня дворники сказывали.
Шуба подает чиновнице пятачок.
Шубу окружают и другие старухи и старики.
– А нам-то, батюшка, кормилец, Иван Васильич, святую милостыню Христову, – слышится на все голоса и протягиваются руки. – С превеликим торжеством вашего ангела. О вашем здравии!..
Шуба обозревает толпу и теряется.
– У меня совсем нет медных… – произносит шуба. – Вот два пятиалтынных. Поделитесь.
– По пятачку, батюшка, милостивец? – спрашивает старуха в заячьем чепчике, принявшая деньги.
– Какое по пятачку! Вишь, вас здесь сколько! По копейке.
– А ей-то как же, той-то старушке, первой-то дал пятачок?
– Ну, уж что с воза упало, то и пропало. А вам по копейке.
Шуба удаляется.
– Покажи, сколько дал! Покажи! Показывай без утайки! – пристают нищие к старушке в заячьем чепчике.
Начинается дележ. Опять спор. Вступается Андроныч. Трем не досталось.
– Зажулила три копейки. Хамка! Экая короткая совесть! Бесстыдница! – раздается среди старух.
IVОбедня в церкви кончилась. Служили молебен. Богомольцы расходились во время молебна, не дожидаясь окончания его. Из трех один, наверное, подавал милостыню, но совал деньги большею частью первым двум-трем нищим, стоявшим ближе к церковной двери. Некоторые, в особенности женщины, даже оправдывались перед нищими за малую подачку, говоря:
– Ну, уж не взыщите. Больше ничего нет. Что было, все раздала: на свечку, в кружку, на блюдо, вам. Остальным уж в другой раз когда-нибудь.
Вышли все богомольцы и после молебна, но нищие из притвора все еще не уходили. Они знали, что сегодня в церкви две заказных панихиды, о чем Андроныч получил сведения от сторожа Наума. Они ждали заупокойной милостыни от панихидных богомольцев, которая бывает всегда щедрее, чем обыкновенная милостыня.
– Марфе-то Алексевне что сегодня в руку насовали – ужасти! – говорили нищие про старуху, стоявшую первой около двери.
– Да втрое, я думаю, получила супротив нас-то, стоящих в конце.
– Нет, и побольше будет. Кто с одной копейкой выходил, все ей совал.
– Каркайте, каркайте! – отвечала Марфа Алексеевна, совсем курносая, еще бодрая старуха с круглым лицом в сером суконном платке на голове. – В чужих-то руках кусок всегда велик. Первая у дверей, супротив меня, стоит и Глебова.
– Эка штука! Глебова… Глебова справа от двери стоит, а простой богомолец он всегда подает правой рукой на левую. Знаем мы! Не первый год на паперти.
– Пустые приметы!
– А верные. Правой рукой легче на левую сторону подать. Сочти-ка, ну-ка, сколько ты набрала, и пусть Глебова сочтет.
– Позавидовали! – упрекает Марфа Алексеевна. – А вы то в расчет не принимаете, что я здесь на паперти-то одиннадцать лет стою. Мальчишки приходили в церковь когда-то молиться, а уж теперь бородатые ходят и иные с проседью. Я всех старых прихожан знаю, и меня все прихожане знают, так мне ли больше других не набрать!
Из церкви доносилось панихидное «Житейское море». Старушонка в заячьем чепчике начала было потихоньку пробираться в церковь, но Андроныч тотчас же осадил ее.
– Куда? Куда? Вернись назад! – закричал он. – Или хочешь всю заупокойную милостыню в одни руки обобрать!
– Да я со свечечкой постоять и помолиться.
– Дожидайся на паперти своего термину. А вперед нечего соваться. Ловка тоже! Со свечечкой постоять и обойти с рукой сродственничков покойника. Уж ежели я – и то не пошел, то ты чего лезешь!
Старушонка в заячьем чепчике повиновалась и осталась в притворе, бормоча:
– Вот еще что выдумали! Стала бы я милостыню отбивать!
Андроныч стал подметать шваброй пол в притворе от натасканной на ногах грязи.
– Ведь вот сегодня у меня похоронный обед есть, да далеко идти – на Охту, – говорил он. – А там и водочка, и закусочка, и все этакое. Вдова-то меня знает. Наши прихожане.
– Не стоит овчинка выделки, – отвечает чиновница, махнув рукой. – Больше сапог истреплешь, чем брюхом вынесешь. А водочки-то, так ты вот придешь к себе в угол после обедни, и сам себе купишь малую толику. Корюшка вот копченая появилась, по копейке продают. И любезное дело. У себя в углу. Хлебнул горького до слез, да и прикурнул на своей коечке до вечерни. Сам себе господин, сам пан, и сапоги целы.
– Так, мать, и сделаю. После обедни куплю махонькую посудинку, потом селедочку. Селедку я обожаю. Да надо будет у квартирной хозяйки щец чашечку за пятачок попросить, – отвечал Андроныч.
– А проснешься – с соленого-то чайку в охотку до седьмого пота, – продолжала чиновница.
– Однако вы мне на крендель-то сторожу Науму Иванычу собирайте, – сказал Андроныч.
– Успеется. Когда еще пророк Наум-то! – отвечали нищие.
– Чудачки! Заказать ведь булочнику надо.
– Неужто у тебя у самого-то полтора рубля не найдется! Отдадим потом. Да и куда же по гривеннику? Больно жирно. Много соберешь. А ты потом по расчету.
– Ну ладно. Ин будь по-вашему. Только отдайте. Не зажульте. А то я теперь себе на погребение коплю.
– Ну вот. Что мы, каторжные, что ли!
– На погребение – это хорошо, – подхватила чиновница. – И я себе теперь, старушки, стала собирать на смертную одежу.
Панихида кончилась. Начали выходить богомольцы, но гора родила мышь. Нищие, ждавшие заупокойной милостыни, не получили ничего. Заказчики панихиды были два военных и их жены. Только Андронычу и сунул какой-то медяк один из военных, когда Андроныч, поклонившись ему и протянув пригоршню за милостыней, отрекомендовался николаевским солдатом.
Богомольцев нищие проводили укоризнами и насмешками.
– У самих-то, должно быть, в одном кармане смеркается, в другом заря занимается, – произнесла чиновница.
Стали ждать окончания второй панихиды, которую, по слухам, служили купцы. Нищие уж позевывали. Некоторые старухи плакались на усталость, но корысть брала свое.
– Все ноженьки подломило. Шутка ли: утреню выстояли на ногах, обедню раннюю, обедню позднюю и все еще стоим. Ведь только перед поздней и передохнули малость, – роптала чиновница. – Приду домой, пожую, да и на боковую. А уж вечерня – Бог с ней. У вечерни и богомольцев-то полтора человека, так какая тут милостыня!
Из церкви доносится «вечная память», и наконец выходят в притвор последние богомольцы. Действительно, это были люди купеческой складки. Были мужчины и женщины. Одна женщина в трауре сунула на одну сторону гривенник и на другую гривенник и сказала:
– Разделите за упокой рабы Божией Варвары.
А осанистый мужчина в пальто с бобровым воротником прибавил:
– Да ведь уж подано, подано. В приходскую богадельню на заупокойный обед по рабе Божией Варваре подано.
Нищие были озадачены.
– Раз от разу хуже с заупокойной милостыней. Стоило из-за двугривенного на всю братию ноги трудить и дожидаться! – роптала Марфа Алексеевна. – И что за народ нынче стал! На богадельню подано, на поминальный обед. Да нам-то что, папертным старушкам, до богадельни! Мы в богадельню не пойдем. Мы привыкли на свободе жить. Мы вольные птицы.
Нищие гурьбой стали выходить из притвора на улицу.
Кладбищенские
IУгрюмое, неприветливое петербургское кладбище с голыми стволами деревьев, без малейшей кустовой растительности, с вороньими и галочьими гнездами на вершинах деревьев. Мостки и дорожки, которыми изборождено кладбище, расчищены от снега, расчищены палисадники с памятниками, за содержание которых платят, но зато накиданы целые сугробы снега на те памятники, за содержание которых не платят, хотя охранение их и должно лежать на администрации кладбища. Некоторые памятники завалены снегом выше крестов. Пустынно на мостках и на дорожках. Кое-где промелькнет группа из двух-трех человек, предшествуемая священником в ветхой, порыжелой, когда-то черной ризе, закапанной воском, напяленной на лисью шубу. На голове – потерявшая свой фиолетовый цвет камилавка, в руке – потухшее кадило. Тут же причетник без шапки с завязанными платком ушами, съежившийся, с засунутыми в рукава кистями рук, сложенными на груди. На перекрестках дорожек и мостков стоят, переминаясь с ноги на ногу, и бродят нищие, закутанные в самые разнообразные убогие костюмы, с подвязанными тряпицами скулами, женщины с грудными ребятами за пазухами армяков, старики в суконных наушниках под шапками, быстроглазые ребятишки в валенках, в которых уместился бы пуд гороху, с красными мокрыми носами. Завидя прохожих, все это стонет на разные лады, выпрашивая Христа ради милостыню, переругивается друг с другом и, не получая от прохожего подаяния, долго-долго сопровождает его. Тема стона – выпрашивания за упокой.
– Родителям и сродственничкам царство небесное, душенькам их вечный покой… – слышатся причитания. —
Не оставьте, матушка, не оставьте, батюшка, заупокойной милостынькой Христа ради!
– Да у меня живы родители, живы, – отвечает посетитель кладбища на ходу, но, однако, преследуемый нищими, останавливается, распахивает шубу и лезет в карман за деньгами.
– Спаси вас Бог, спаси Царица Небесная! – раздается послесловие по получении милостыни.
Посетитель кладбища двигается дальше, но из-за угла на следующем перекрестке на него выскакивают еще две старухи-нищие с причитанием:
– Заупокойную-то милостыньку, батюшка, сирым старушкам. Всели их Господь среди праведников.
– Все раздал. Ничего больше нет! – объявляет он, поспешая шагать по мосткам.
А уж сзади его перебранка. Старухи-нищие со второго перекрестка переругиваются с нищими, пришедшими с первого перекрестка. Старуха в коричневой кацавейке, валенках и капоре окрысилась на старика в казинетовом зипуне, повязанного под шапкой ситцевым платком, и кричит ему:
– А ты чего, паршивец, в непоказанное место залез и в чужой участок с рукой суешься! Мало тебе своих мостков! А нам через тебя и не подали. Я к тебе на мостки не лезу. Я стою на своем месте. Погоди, лысый черт, я и к тебе прилезу, и я у тебя давальцев отбивать буду.
– Закрой хайло-то. Только две копейки мне и перепало, – отвечает старик. – Ты думаешь, что он горы золотые рассыпал? Две копейки. Мне две и ей две… – кивает он на бабу в полушубке с ребенком за пазухой.
– И две копейки на полу не поднимешь. И две копейки эти нам шли, потому он в нашем участке подал, где мы с Кирилловной стоим. А тебе тоже стыдно, Максимовна, – обращается старуха к бабе с ребенком. —
Ну, он нахал известный, а ты-то чего лезешь в наш участок, бесстыжие твои глаза! Без году неделя на кладбище, а уже всякий стыд перед товарками потеряла.
– Не дошла я до твоего места, не дошла, – оправдывается баба. – Полно вздор-то городить!
– Как не дошла? А ты на чьем же теперь-то стоишь? Смотри у меня! Я здесь десятый год на кладбище. Подговорю старших, да и выживу тебя.
Но в это самое время на мостках появляются пожилая дама в лисьей ротонде и молоденькая девушка в пальто с беличьим воротником с хвостами.
– Подайте, матушка, Христа ради, за упокой новопреставленных сродничков, – заныли нищие в четыре голоса, выставя вперед руки пригоршнями.
Дама лезет в карман.
– Вот пятачок… Поделитесь… – говорит она.
– Копейку-то лишнюю как же, матушка, барыня?.. – начинает старуха в капоре. – Нас четверо.
– А лишнюю копейку отдайте вон женщине с ребенком. Это ребенку на булочку…
Дама и девушка прошли. Старуха, приняв пятак, начинает делить.
– Не дам я тебе копейку на ребенка, – объявляет она. – Эта копейка нам с Кирилловной. И так уж ты у нас две копейки через твое нахальство отъегорила.
– Да возьми, возьми, ведьма. Ну тебя в болото! – соглашается баба с ребенком.
Из-за угла показывается пожилой мужчина в бобровой шапке, надетой набекрень, и в пальто с бобровым воротником. Заложа руки в карманы пальто, он попыхивает папиросой, которую держит в зубах, и направляется по одной из боковых дорожек. Старик с повязанной платком головой тотчас же бросается за ним, вопя:
– Барин, батюшка, заупокойную милостыньку, Христа ради! Родителям царство небесное.
Старухи тоже бегут за стариком, насколько позволяют мостки, но старик уж нагнал быстро шагающего мужчину в бобровой шапке. Тот поспешно сует что-то старику и быстро шагает дальше. Старик останавливается и рассматривает сунутое ему в руку.
– Много ли отвалил? – спрашивают старика старухи.
Старик машет рукою и смеется, показывая два гнилых клыка.
– Да что! Я за ним, как за путным, а он мне билет на обед в дешевую столовую сунул, – говорит он.
– Билет? Ну, значит, немец. Наши, русские, билетами не подают, – покачивает головой старуха в капоре. – Билет… Вот глупые-то люди! Совсем попусту… А билет гривенник стоит.
– В том-то и дело, что шут гороховый. Ну куда мне тащиться семь верст киселя есть! И главное дело, самое горячее время потерять, когда здесь, на могилках, литии служат.
– Конечно… – соглашается старуха в капоре. – Что настреляешь до второго часа, тем и живы.
– Так полагаю, что и немцы эти билеты раздают прямо из-за озорничества, – прибавила вторая старуха. – На обед мы и сами себе сумеем купить, что нам требуется, дай только в руку… Да мне, вот, обедов-то вовсе и не надо. Я отвыкла от них. Мне только бы кофейку с булочками… А обед – какой тут обед! Зашел в мелочную, вот тебе и обед. Озорники!
Старик плюет и бормочет:
– Продать его – никто у нас и трех копеек не даст. Лучше бы он мне копейку дал, чем этот билет.
– Куда идти-то? – спрашивает баба с ребенком. – Где по этому билету кормят-то?
– У быков… где скотопригонный двор. Знаешь?
Баба качает головой.
– Далеко. Надсадишься. Митрофаньевским нищим если, так этот билет под стать, а нам далеко, – шепчет она.
– Да и митрофаньевские в обеденную пору не побегут. Как уйти с кладбища, коли в обеденную пору только и подают, – заключает старуха в капоре.
Вдали виден купец в енотовой шубе. За ним бегут вприпрыжку две девчонки лет по двенадцати, но купец шествует плавно и не обращает на них внимания.
IIГроб опустили в могилу. Пропел клир в последний раз «Вечную память» и выступил оратор. Началась речь над могилой покойного. Провожающие разместились на соседних могилах и слушают, но слышны по временам только возгласы. Оратор очень плохой и глотает слова. Резкий ветер, шелестя голыми ветвями деревьев, также заглушает голос. Пасмурно, падает мелкий снег. Снуют нищие всех сортов и, робко озираясь и косясь на мелькающую то там, то сям полицию, чуть не шепотом выпрашивают подаяние у публики.
Вот старушка с подвязанной щекой, в капоре и потерявшем цвет салопе с длинной пелериной, с муфтой, висящей с шеи на шнурке.
– Позвольте узнать, батюшка, кого хоронят? – задает она вопрос бородатому человеку в очках и в мерлушковой шапке.
Названа фамилия.
– Чиновник?
– Нет.
– По купеческой части, стало быть?
– Тоже нет.
– Так кто же он из себя-то будет? – продолжает старуха.
– Писатель.
– Это что в газетах-то?.. Так, так… А в большом чине они все-таки?
– Не думаю. Он был человек, кажется, никогда не служивший.
– Нет, я к тому, что провожатых-то порядочно. Ах, у меня мой покойник тоже… Писал не в газетах, но на письме и душу Богу отдал… Я про мужа… Вдова я титулярного советника… Дослужился и чин мне оставил… А что толку?.. Пенсии никакой… Сколько я прошений подавала – и пособия не вышло. Были и дети… Но о сыне двенадцатый год ни слуху ни духу… Только благостями Елены Романовны и питаюсь… Кабы не она, посреди дороги умирать мне, старухе. Графиню Лозанову изволите знать? Благодетельница… Денно и нощно молю о здравии и благоденствии… А вот теперь они на теплых водах… и я совсем в умалении… Добрая барыня, пошли ей Бог… А вот теперь когда вернется!
Пауза. Слышен вздох.
– Вы извините меня, господин, что я вам хочу сказать… – бормочет опять старушка. – У меня тут муж похоронен, так я из-за того и на кладбище! А я не таковская… Я этим не занимаюсь… А вот теперь нужда… Вы не подадите ли на бедность за упокой души сродственника?
Подается милостыня. Старушка кланяется и отходит от бородатого человека в очках и мерлушковой шапке, но около него вырастает мужская фигура в долгополом пальто на манер подрясника. Он в валенках, с самодельным посохом и за спиной у него клеенчатая котомка. Уши подвязаны бумажным платком, рваная шапка в руке. Торчит бороденка седым клином из-под повязки. Фигура взглядывает в глаза человека в мерлушковой шапке и протяжно произносит:
– Читают… Все еще читают… Должно быть, очень близкий человек к ним… Большая церемония в чтении, и, надо статься, очень вразумительный человек они, коли так долго… Извините, господин… Это кто же читает? Товарищ им?
– Да, товарищ, тоже писатель.
– Ах, писатель? Ну, на это их взять. А вы тоже из их сословия?
– Да… нет… Впрочем, тоже иногда пишу.
– Люблю я сладкогласие послушать. Приятно, кто хорошо говорит. О, Господи! Помилуй нас, грешных! Уши-то вот только у меня… так не все слышишь. Нынче большая мода насчет этого, чтобы читать и говорить на могилках… По кладбищам-то ходишь, так видишь. Прежде, бывало, на похоронах духовенством брали. Чем больше духовенства, тем параднее… А нынче вот сладкозвучие… Стихи они изволят читать или так?.. Уши-то завязаны, так не разберу.
– Просто речь о заслугах покойного.
– Ученый муж, поди, и в большом звании? – кивает фигура с котомкой на оратора.
Человек в мерлушковой шапке колеблется отвечать.
– Право, не могу вам сказать… – произносит он наконец.
– Приятно, кто вкусит от корня учения, приятно… И людям во спасение, и себе в благодать. Ученый муж – он везде кстати. Родится младо – он может приветствовать кудрявыми словами… Вступает в путь жизни отроче – он то же самое… Нисходит в могилу старец… Каких лет был покойник-то, вы неизвестны?
– Молодой человек.
– Молодой человек. Так, так… Скажите! А я думал, что старец… Супруга и деточки остались, или совсем еще юноша?
– Жена осталась, – отвечает мерлушковая шапка и отодвигается.
Фигура не отстает и опять близится к нему.
– Сам когда-то я от ногтей юности своея умудрялся в иконописании, но не привел Бог, и перешел в торговую науку… Затем претерпел от многой несправедливости и теперь странствую. Зубцов город знаете? Так вот, я оттуда. Там доброхотными дателями… Хороший город, купеческий… И многие есть благодетели, которые душу свою соблюдают. Все еще говорит? Уши-то у меня… так не все доходит. А, должно быть, сладко говорит!
Мерлушковая шапка утвердительно кивает головой.
Фигура с посохом тяжело вздыхает и произносит:
– А теперь вот пробираюсь в Соловецкую обитель… Бывалые-то сказывают, что уж очень хорошо там.
Пауза. Наконец, фигура с посохом наклоняется к мерлушковой шапке и шепчет:
– Не пожертвуете ли что-нибудь на помин души усопшего странному человеку?
Милостыня подана.
Стоявшие в отдалении у решетки две растрепанные бабы в рваных ситцевых ватных кацавейках, увидав, что милостыня подана, стали приближаться к мерлушковой шапке и заговорили нараспев:
– Подайте, батюшка, милостыньку, Христа ради. Упокойничку царство небесное…
Мерлушковая шапка нахмурилась и отвернулась. Бабы постонали еще и остановились поодаль. Подошла третья баба, и начался разговор:
– Писатель помер, оттого и не подают. Уж захотела ты на таких похоронах поживиться!
– Да нешто из чиновников? А говорили, что купец.
– Не из чиновников, а писатель – вот что в газетах пишут.
– Ну? Это, стало быть, из газетчиков. Да ведь и они по чиновной части. А отчего же сейчас барин старику подал? Вон энтому с клюкой.
– Мне тоже вот этот барин подал, что в очках.
– С чужих похорон, должно быть, заглянул. А тут от этой публики ничего не очистится. Я уж двадцатый год по кладбищам-то хожу, так знаю, пригляделась.
– Вон тоже дама раздает копеечки. Пойти туда.
– Ну, чужая… Тоже чужая… Заблудшая… Наверно, заблудшая… С чужих похорон. А туточная не даст.
Бабы бегут к раздающей милостыню женщине.
Около мерлушковой шапки стоит гороховое совсем выцветшее пальто, обмотанное по воротнику грязным гарусным шарфом. Из коротких рукавов выглядывают красные руки. На голове фуражка наподобие блина. Лицо опухши, подбородок с седой щетиной.
– Молодой человек… скончался во цвете лет… Жалко, жалко… – бормочет пальто хриплым голосом. – Неумолимая смерть… Предел судеб… Удар бури… и падает могучий дуб, как и гибкая повилика… Это кто говорит на могиле-то, позвольте узнать? – задает он вопрос.
– Не знаю.
– Прекрасно говорит. Доложу вам, я и сам когда-то писал в газеты, но интриги… Из-за литературы я и на службе пострадал. Же ву засюр… Пострадал за правду. И вот теперь, гонимый бурей… Пардон. Не можете ли вы мне одолжить что-нибудь?
– Как-с?
Мерлушковая шапка, не расслышав, в чем дело, наклоняется.
– Доне муа келькшоз… – говорит пальто, переминаясь с ноги на ногу, и протягивает руку.