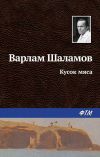Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Финогеныч сделал перерыв, выпил водки и с наслаждением съел три кильки вместе с головами.
– Каждый день готов я эту снедь есть, и никакой мне другой пищи не надо, – сказал он Петунниковой, прикончив закусывать, и отер пальцы рук о голову.
Перед ним уж стояла жилица Петунниковой – «барышня в бумажках», как ее звали соседки по комнате. На этот раз папильоток у ней не было, и на лбу виднелись завитки волос. На ней были черная юбка, красный канаусовый корсаж и металлический пояс. Она жевала заварные баранки и говорила:
– Только, пожалуйста, поскорее меня переписывайте. Мне в Варьету ехать надо. И так уж из-за вашей переписи опоздала.
Финогеныч посмотрел на ее наведенный румянец и крашеные брови и сказал:
– Да вы дома ночевать сегодня не будете, так вас и переписывать не надо.
– Дома, дома. Где же мне ночевать! Уж как бы ни замоталась, а к утру-то все приду. Да и не к утру. Раньше.
– Ну, то-то. Ваше имя и фамилия? – спросил Финогеныч.
– Да зовусь-то я Елена, а по паспорту Домна Кузичкина, – отвечала барышня в бумажках. – Ведь надо как по паспорту?
– Само собой. Домна Кузичкина… Записал.
Петунникова всплеснула руками и воскликнула:
– Ну вот поди ж ты! С лета девка у меня живет, а я и не знала, что она Домна!
Барышня в бумажках улыбнулась.
– Оттого, что вы неграмотная, а паспорт мой сколько раз у вас в руках был, – проговорила она.
– Зачем же ты имя меняешь, дура!
– Ах, боже мой! Да ведь, я думаю, приятнее Еленой быть, чем Домной. Ну что такое Домна!
– Ну, довольно, довольно, – остановил их Финогеныч и, выводя на бумаге, прибавил: «Пол женский».
– До неужто же можно сомневаться! – воскликнула барышня в бумажках.
– Так от начальства приказано писать. Сколько лет от роду?
– Мне-то? А вам сколько надо? Ну, двадцать два.
– Ох, не может быть! Сколько в паспорте сказано?
– Да там наврано. Ну, пишите двадцать восемь.
– Ведь сейчас проверка будет. В каком году родилась?
– А я почем знаю.
– Да в паспорте-то сколько лет?
– В паспорте тридцать два.
– Ну, стало быть, в 1868 году родилась.
– Пишите, мне все равно, наплевать.
– Где родилась?
– Почем же мне знать! Я из питомок.
– А, вот что. Ну, так и запишем: из питомок воспитательного дома. С какого года поселилась в Петербурге?
– А с такого, с какого привезли из деревни.
– Напишем так: «Не помнит».
– Как хотите, так и пишите. Нешто это для меня! Что мне такое? Если я что, то все это для Марфы Алексевны.
Финогенов писал и читал:
– «Квартирной хозяйке приходится жилицей. Семейное состояние: девица…» Наверное уж девица? – спросил он.
– По паспорту так девица. Девица, кронштадтская мещанка.
– Записал. Православная. Родной язык – русский.
– Я и по-чухонски говорю, потому в чухонщине воспитывалась.
– Писать и читать умеешь?
– Умею. Но пишу так, что никто не разберет, – вот наше писание.
– Записано. Еще один вопрос. Перечислите ваши занятия или другие средства к жизни?
– Это я-то? Портниха, портниха!
– Ну какая ты портниха! – вставила свое слово Петунникова.
– А вам какое дело? – огрызнулась барышня в бумажках. – Портниха. У портнихи училась. Я вот эту красную рубашку сама себе сшила.
– Ну, все. Извольте идти на все четыре стороны, – сказал Финогеныч.
– А вы извольте гривенник за перепись получить.
Барышня положила на стол деньги.
– Да не надо ему, не надо. Я уж с ним огулом за рубль согласилась, – заговорила Петунникова.
– Ну, вы получите гривенник. На кофей годится. Ведь плакались вчера, что перепись для вас разорение, – так вот и получайте.
Барышня в бумажках ушла. На ее месте стоял черный рослый жилец с всклокоченной бородой и доедал астраханскую селедку, отрывая от нее пальцем куски.
– В трактир сейчас иду, – сказал он. – Покончите со мной, перепишите. Зовут меня Веденей Шишов.
– Веденей? – повторил Финогеныч. – Такого имени нет. Разве Венедикт?
– Сорок два года Веденеем. Так и в паспорте.
– Ну, если в паспорте, то и разговаривать нечего. Это документ. Веденей Шишов. Лета – сорок.
– Правильно. Крестьянин Смоленской губернии, того же уезда. Православный. Грамотен. Писать и читать умею. Учился в сельской школе. Эво, как я листки-то знаю! – похвастался жилец. – По ремеслу слесарь. Получаю полтора рубля в день.
– Постой… – остановил его Финогеныч. – Женат, вдов или холост?
– Женат, женат.
– Послушай, Веденей Иваныч, зачем врать! – сказала ему хозяйка. – Ведь Матрена тебе не жена.
– Да я нешто про Матрену? Таких жен у меня в Питере много. А я про настоящую жену в Смоленской губернии, в деревне. Там у меня есть настоящая законница.
– Нет, я к тому, что ведь и Матрена всем говорит, что она твоя жена.
– А мне у ней язык-то вырвать, что ли! Она говорит, а ты не верь. Она вон говорит, что у ней есть дядя полковник. Так всему и верить? Ну, я пойду.
– Можешь идти.
– Марфа Алексевна, а мне поднесения за мой сказ не будет? – спросил слесарь.
– Это еще что выдумал! С какой стати? – испуганно проговорила Петунникова и отмахнулась.
– Перепись. С переписью тебя поздравить, хозяйка.
– Проходи, проходи.
Слесарь, уходя из кухни, замахнулся на хозяйку остовом селедки.
– У! Скупая ведьма! Кому ты добро-то копишь! Эво, какой сундук стоит.
– Проходи, проходи.
Перепись продолжалась.
По чердакам и подвалам
IЧлен благотворительного общества вышел у ворот каменного дома из экипажа и дернул за звонок, на котором была надпись «К дворнику». В воротах показался мужик в розовой ситцевой рубахе, с всклокоченной головой и с заспанными глазами.
– Ты дворник?
– Дворник. Фу ты… А я думал, околоточный звонит! Вам что надо?
– Где здесь квартира номер семьдесят третий?
– Семьдесят третий? О-хо-хо! – зевнул дворник. – Да вам кого надо-то?
– Вдову фейерверкера Степаниду Макарову и кронштадтскую мещанку Анисью Трифонову.
– Да вам зачем их надо-то?
– Они подавали прошение о помощи, и вот я приехал порасспросить их об их положении.
Дворник переменил тон, обдернул рубаху и сказал:
– Пожалуйте, ваше благородие, я вас сейчас к ним проведу. Пожалуйте… Это на втором дворе, в подвале. Народ, ваше благородие, низменный, одно слово – лебеда.
– С ребятами они или без ребят?
– А это уж, ваше высокоблагородие, не могу сказать. Ребят там в подвале много, а чьи они – Христос ведает. Там хозяйка углы жильцам сдает. Жильцов много. Тише. Не извольте оступиться. Тут ступенька и порог. Вот-с… здесь…
Дворник распахнул дверь. Из подвала пахнуло затхалью, сыростью, глазам представилась низенькая комната со сводами и с русской печкой. Комната была разделена пополам ситцевой линючей занавеской. У окна сидел босой сапожник с ремешком на голове и постукивал молотком каблук сапога, лежащего у него на коленях. На грязном полу сидел ребенок в одной рубашонке. Около печки стояла старуха и варила картофель в котелке, поставленном на тагане.
– Кто здесь из вас подавал прошение на бедность? – возгласил дворник. – Вот их высокородие справляться пришли.
– Степанида Макарова и Анисья Трифонова? – спросил посетитель.
– Я, ваше высокоблагородие, Степанида Макарова, я подавала прошение, – откликнулась старуха.
Посетитель вынул из портфеля прошение, приютился около стола и, расспрашивая старуху, стал записывать карандашом ее показания.
– Чем вы занимаетесь и какие имеете средства к жизни? – спросил он.
– Да какие, батюшка, занятия! Хворая я. Вот, в углу живу. За угол два с полтиной плачу.
– Однако из каких же нибудь средств вы платите за угол?
– Прежде по стиркам ходила, а теперь добрые люди помогают – тем и сыта. Вот полковницу Граблюхину изволите знать?..
– Стало быть, она платит за вас за угол.
– Да вот картофельку сварю, яичек десяточек испеку, около винной лавки посижу, которые ежели пьющие купят, ну вот и питаемся, – уклончиво отвечала старуха.
– Детей имеете?
– Одна дочь, батюшка ваше превосходительство.
– Сколько ей лет?
– Да уж двадцать лет, батюшка.
– Стало быть, дочь помогает? Чем она занимается?
– Да какая подмога! Знаете, нынче дети-то как к родителям. Нынче дети, ваше сиятельство, ничего не стоят. Им только до себя.
– На месте где-нибудь дочь?
– Да… При хозяйке она. А только какая нынче подмога!
– В горничных дочь-то ваша? В услужении живет?
– Нет, так она. При хозяйке. Ино пошьет, ино…
– Стало быть, портниха?
– Да… На манер портнихи.
За занавеской плакал грудной ребенок. Какой-то женский голос его укачивал, но вдруг крикнул:
– Портниха! Да… На манер портнихи!.. Ты уж говори толком барину-то, а не ври. Портниха! За такое портнишество, коли бы ты была путная мать, то сгребла бы дочь-то за косу да таких шлепков надавала бы орясиной, чтобы небо ей с овчинку показалось. Портниха!
– Конечно же, она портниха, – обернулась к занавеске старуха. – Ну что ты врешь, дрянь эдакая.
– Я дрянь? Нет, врешь! Ты сама дрянь и даже, можно сказать, старая подлячка, коли ты своей дочери по таким поступкам поступать дозволяешь!
– По каким таким поступкам?
– Знаем мы, по каким! Видели. Кого ты морочишь-то? Ты меня не морочь! Видели мы, в каких она пальтах щеголяет. Перо, ваше благородие, на шляпке распустит… Тьфу, мерзкая!
– Оставьте, оставьте, господа! – замахал руками посетитель.
– Нечего, господин, нам оставлять. Мы своими трудами живем, – продолжал голос из-за занавески. Вот дите родила, и держим его при себе, не понесли в воспитательный… А они с дочерью родили…
– Так, стало быть, Степанида Макарова, вы от дочери вашей никакого вспомоществования не получаете? – перебил посетитель, чтобы прервать перебранку.
– Никакого, ваше высокое превосходительство. Никакого… Отступилась я от нее.
– Кто кому на Пасху два фунта кофею и три фунта сахару да рубль денег прислал? А? Ну? Ну-ка, скажи!
– Довольно. Довольно, господа. Кронштадтская мещанка Анисья Трифонова – кто тут?
– Это маменька наша, убогая старушка, – отвечал все тот же голос из-за занавески. – Я ихняя дочка.
– Где она? Попросите ее сюда.
– В трактир переварки пошла разогревать. Вот она, подлая, эта самая Степанида, таган растопила, сама картофель варит, а нас не пущает. Убудет у тебя тагана-то, что ли? Небось, когда я щепок понасберу да топить начну, так ты с и кофейником, и с котелком лезешь, а когда сама затопила…
– Не перебранивайтесь, пожалуйста. Мне нужно видеть Анисью Трифонову.
– Повремените, батюшка, малость. Сейчас она из трактира придет. Евлампий Алексеич, ты здесь?
– Здесь, – отвечал сапожник.
– Сбегай, голубчик, ты за ней в трактир, приведи ты ее сюда. Переварками кофейными, ваше степенство, только и питаемся. Прежде я по стиркам ходила, а теперь господа по дачам разъехавшись, да вот и ребенок по рукам, по ногам связал. Орет благим матом.
– А от кого у тебя у самой-то ребенок? Ты прежде вот что ответь. Где у тебя муж-от? Где? Ты и сама покайся барину, от кого у тебя ребенок! – в свою очередь взвизгнула старуха.
Посетитель опять перебил.
– Стало быть, вы дочь Анисьи Трифоновой? – сказал он. – Выйдите сюда из-за занавески и расскажите мне о положении вашей матери.
– Да не могу я выйти-то к вам, ваше боголюбие. Платье у меня в корыте. В рубахе да в юбке я тут сижу. Вздумала простирнуть платьишко, да вот ребенок…
– Вон Анисья Трифонова сама с кофейником идет… – указал сапожник в окно на двор.
По двору плелась старуха в байковом платке, накинутом на голову.
– Иди скорей, овечьи твои ноги! Барин тебя спрашивает! – махнул ей рукой в окно сапожник.
Старуха показалась в дверях.
– Вы подавали прошение о вспомоществовании? – обратился к ней посетитель.
– Глуха она, ваше благородие, ничего не слышит, – отвечал за нее сапожник. – Вот и ногами разбита. И дочка-то у ней ломотой в ногах и руках страдает.
– Пополоскай-ка зимой каждый день белье на плоту, на речке, так за неволю будешь ломотой страдать, – отвечал голос из-за занавески.
Старуха стояла, смотрела на посетителя и бессмысленно моргала глазами. Он принялся делать отметки на ее прошении. Через минуту он стал уходить.
Первая старуха выбежала за ним на двор.
– А куда, батюшка, за подаянием являться? – спрашивала она.
– Будет повестка, – отвечал он.
– Уж вы не откажите, милостивец. Тоже за написание прошения пятиалтынный заплатила. Дешевле не взяли. А что она, подлая, эта самая Варвара, про мою дочь – то все это облыжно, батюшка. Давно уж я от нее и она от меня отступилась.
Тут же на дворе стоял сапожник, переминался босыми ногами по камням и спрашивал:
– А теперича ежели сапожникам, можно, ваше благородие, подавать прошение на бедность?
– Теперь уж поздно. Опоздали. Прием прошений прекращен, – отвечал посетитель.
IIОбследования положения бедных, подавших прошения, продолжались. Члену благотворительного общества пришлось в сопровождении дворника забраться в мансарду дома, попросту – на чердак.
– Здесь, что ли? – спросил он дворника в третьем этаже.
– Нет-с, выше. Все они на чердаке существуют, – отвечал тот. – Еще потрудитесь несколько ступенек пройти. Вот этот самый аблокат-то, о котором вы спрашиваете, на прошлой неделе выскочил нагишом на крышу, да и давай по ней бегать.
– Какой аблокат? – удивился член общества.
– Вот этот самый, что из баринов-то. Он, говорят, ваше высокоблагородие, прежде богатый был, а потом замотался, опустился, стал пить… Мы его аблокатом зовем.
– С чего же это он выскочил на крышу?
– Да знамо дело, вино в голову вступило. Пожалуйте… Вот здесь… Вишь, подлецы, то и дело на дверях паскудства пишут.
Дворник стер рукавом что-то написанное мелом на двери и распахнул ее. Член общества вошел в низенькую комнату с покатым потолком и со слуховым окном. У стены стояла чугунка, и на ней утюги. Какая-то баба гладила на столе около чугунки белье.
– Дворянин Алексей Павлов Бездонов? – спросил член общества.
Баба обернулась и в недоумении посмотрела на него.
– Аблоката их высокоблагородию надо. Он подавал прошение на бедность, – сказал дворник.
– Алексея Павлыча? Да спит он. Под утро домой вернулся и теперь спит.
– Разбуди, Андревна. Их благородию нужно его свидетельствовать. Это вот их квартирная хозяйка будет, – указал дворник на бабу.
Баба отправилась в смежную каморку. Оттуда послышались ругательства, произносимые сонным голосом, потом кто-то швырнул чем-то.
– Что ты швыряешься-то? Полоумный! Вставай! К тебе барин насчет бедности пришел, – говорила баба.
– Уйди! А нет, ей-ей, пришибу! – кричал хриплый голос.
– Убьешь, так ведь и ответишь. Не посмотрим, что сам аблокат. Да очнись ты. Барин к тебе пришел насчет твоего прошения.
– Какой барин? – спрашивал хриплый голос.
– А вот выдь, так увидишь. Да протри глаза-то!
Раздался раскат откашливания и звонкий плевок. Вскоре на пороге появилась толстая рослая фигура с всклоченными волосами, с небритым подбородком и черными усищами на опухшем лице. Фигура пролезла в низенькую дверь согнувшись и запахивала полы рваного, совсем выцветшего пальто. Ворот рубахи был расстегнут, на ногах были резиновые галоши, надетые на босую ногу. Фигура вышла из дверей, посмотрела посоловелыми глазами на члена общества и потянулась.
– Пардон… – спохватился сейчас же усач и прибавил: – Ужасно разоспался… Все еще очнуться не могу.
– Вы дворянин Алексей Павлыч Бездонов? – спросил член общества.
– Я-с… Потомок тех Бездоновых, которые участвовали при покорении Казани.
– Вы подавали прошение…
– Действительно, вследствие воли неумолимого рока, принужден был припадать к стопам. С кем имею удовольствие говорить?
– Член благотворительного общества.
– Ayez la bonté de vous asseoir1. Вот хоть тут на ящик. Мебели-то у нас нет. Андревна! Дайте мне скамейку, – обратился он к хозяйке. – Пригласил бы вас, господин, к себе в каморку, но там у меня теперь беспорядок, и, кроме того, товарищ спит на полу.
Посетитель вынул карандаш и достал из портфеля прошение, приготовясь на нем отмечать объяснения просителя.
– Вы чем занимаетесь?
– Служил когда-то в кавалерии, но по воле капризной судьбы…
– Это прежде. А теперь?
– Теперь определенных занятий не имею, но, почувствовав склонность к Фемиде, время от времени защищаю дела у мировых судей. Заработка только ничтожная, а потому терплю скудость. Пишу прошения для желающих. Вы на мой нос, пожалуйста, так не смотрите, – переменил тон усатый человек. – Это он красен оттого, что я его
1 Присядьте, пожалуйста (фр.).
зимой отморозил. С него поминутно кожа лупится – вот он и красен. Несчастие, случай – и ничего больше. Скажите, могу я на помощь рассчитывать? Мне хоть бы на дорогу. Только бы до Калязинского уезда, до имения сестры добраться. Там у меня сестра замужняя живет.
Посетитель покачал головой и отвечал:
– Сомневаюсь, чтобы вы могли на какую-нибудь помощь рассчитывать.
– Отчего же? Я наг, гладен, убог, ноги пухнут.
– Слишком много беспомощных бедных, а вы в силе работать.
– Я и работаю, что приходится по моим силам и способностям, но не могу же я идти и наняться разбирать барки, таскать бревна. Мне только бы на дорогу к сестре.
– Вообще, помощь, которую вам могли бы дать, даже и не хватило бы на дорогу, но…
– Неужели? Стало быть, рубля два-три?
– Не больше.
– Даже и привилегированным классам?
– Тут на классы не делится. Принимается в соображение большая или меньшая беспомощность.
– Не знал я этого. Впрочем, и прошение-то от себя я подал так, кстати с другими. Писал для других прошения – написал и для себя.
Член общества сделал пометку на прошении усача, положил его обратно в портфель и вынул два других прошения.
– Из этой же квартиры поданы еще два прошения, – сказал он. – Вдовы солдата Акулины Агафоновой и крестьянки Василисы Перетягиной.
– Совершенно справедливо, – поддакнул усач. – Оба эти прошения – моих рук дело.
– Где же эти женщины?
– Андревна, где эти египетские мумии? – спросил усач хозяйку.
Та, не понимая, посмотрела на него широко открытыми глазами.
– Господину старухи нужны. Где старухи-то у тебя?
– Ах, старухи-то? Так ты бы и говорил толком, – отвечала баба. – Старухи в церковь побираться пошли.
– Стало быть, нищие? – задал вопрос член общества.
– Христовым именем, батюшка, побираются.
– Бездетные?
– Ни-ни… Никогошеньки у них нет. Древние старушки. Ино по купечеству ходят, ино по церквам побираются. Купцы-то теперь по дачам поразъехались, так куда как трудно старушкам. По улицам просить – городовые ловят.
Посетитель сделал пометки на прошениях и спросил:
– Из этой квартиры есть еще четвертое прошение. Прошение отставного канцелярского служителя Захара Пустявкина.
– Есть, есть такой у нас. Вот он тут около печки живет. Вот его сундук, вот и клетка его с птицами. Птичник он.
– Где же он? Позовите его.
– А синиц на Смоленское поле ушел ловить.
– Старик?
– Древний. Руки трясутся.
– Весь ходуном ходит, – прибавил усач. – Уж на что вам: даже сам себе прошение не мог написать. Я ему за сороковку написал. Бывший чиновник и не мог прошения написать.
– Бездетный? Есть родственники?
– Никого, батюшка, совсем сирый. Как перст один, – отвечала хозяйка.
Посетитель собрал бумаги и стал уходить.
– Стало быть, ничего не получу в помощь, – сказал ему вслед усач, прищелкнул языком и прибавил: – Невкусно! А я воображал!
IIIДалее члену общества пришлось спуститься опять в подвал и ощупью пробираться по какому-то совершенно темному и сырому коридору. Впереди его бежал босоногий мальчишка в рваных штанишках об одной подтяжке. Он был в качестве проводника, вел члена общества со двора и говорил:
– Здесь наша мамка, вот здесь…
– Ступенек нет? – спрашивал член общества, боясь споткнуться.
– Нет, здесь ступенек нет. Здесь только кошки сидят. Много кошек.
И действительно, около ног что-то шмыгнуло.
– Разве здесь фонаря не зажигают?
– Нет, не зажигают. Идите сюда. Вот наша дверь.
Дверь распахнулась, и мелькнул слабый свет. Член общества вошел в подвальную комнату с сырыми сводами. Она освещалась маленьким окошком и ночником, висевшим около русской печки. Хоть окно было и отворено, но пахло затхалью, онучами, прелью, дымом.
– Мамка! Иди сюда… Барин тебя спрашивает.
Из-за печки вышла тощая морщинистая женщина пожилых лет с грудным ребенком на руках, изо рта которого торчала соска.
– Вы вдова солдата Дарья Набрюшкина?
– Я, ваше благородие, я… Она самая и есть. Я прирожденная солдатка, ваше благородие, – бодро, по-солдатски, отвечала женщина и даже одной рукой как-то подбоченилась, притопнув при этом ногой.
– Вы подавали прошение о помощи?
– Подавала, ваше благородие, подавала. Бедность-то уж очень одолела, ваше благородие. Работишки никакой нет. Я работы, ваше благородие, не боюсь, а вот с мая месяца господа поразъехались по дачам – и словно заколодило. Я и по стиркам, я и по поломойничеству – а теперь такие времена пришли, что куда ни сунешься – никому не надо. Ходила на огород полоть, но там капорки-полольщицы съели, потому что они из себя артель, все из одного места, за свою сестру стоят, а чужую выживают. Я сама цепной пес, но где же одной женщине от целой артели-то отругаться! Так и съели. А пить-есть надо с малыми ребятишками, – тараторила женщина.
– Это ваш грудной ребенок?
– Нет, не мой, а жилицын. Нанимаю вот этот подвалишко и двух жиличек держу. Пошла это она паспорт себе выправлять, без паспорта-то не позволяют жить, а сама мне ребенка за пятачок понянчить оставила. Вон мой постреленок стоит. Это мой. А нешто у меня может быть грудной ребенок, коли у меня муж шесть годов померши? Я греха на душу не возьму, женщина уже в летах постоянных.
– Сколько у вас детей?
– Четверо, ваше благородие, четверо. В том-то и дело. И все пить-есть просят. Вот этот, самый махонький. Ладила в ученье его, в сапожники, да не берут. Говорят, мал еще. Старшенький по тринадцатому году в столярах в ученьи живет, и ладят с места согнать его, так как у нас такой уговор был, чтобы быть ему в моих сапогах, а сапожонки ему не на что купить. Дочку еще, по двенадцатому году, хорошо, что в подняньки из-за хлеба пристроила, а другая дочка, по десятому году, при мне живет, а теперь вот за щепками ее с корзинкой на постройку послала. Да бьют уж очень мастеровые за щепки-то. Так вот сам-третей и живем в бедствии неприступном. Только и молю Христа-Бога, как бы поскорее ягоды поспели да лавочники варенье варить начали бы, сейчас бы я в чистильщицы и пошла на ягоды. Явите божескую милость, ваше благородие, разрешите нам помощь в бедности лютой. Вся перезаложилась. Без байкового платка сижу. Вчера последний байковый платок к жиду стащила.
Женщина заморгала глазами и поклонилась в пояс. Посетитель принялся что-то отмечать на прошении. Она продолжала:
– Я работы не боюсь, ваше благородие. Три мужа у меня были, и все три солдаты. Тятенька солдат был. Трех мужей пережила – и вот осталась с сиротами. Меня, ваше благородие, весь Егерский полк знает, весь Семеновский полк знает, и в Восьмом флотском экипаже кого хотите спросите о Дарье Набрюшкиной – все меня знают. Второй-то мой муж из Восьмого флотского был. У егерских офицеров я у всех перестирала, семеновские также, которые ежели старики, тоже меня помнят. Я прирожденная солдатка, я работы не боюсь, а вот теперь такое время пришло, что куда ни сунься – везде незадача. Я прирожденная солдатка. У меня один брат из кантонистов в писарях был, унтер-офицер, дай Бог ему царство небесное, но от винного малодушества умер, был и другой брат в музыкантах, но грудь себе на трубе надсадил и Богу душу отдал. Вы полковницу Балабаеву изволили знать? Она теперича померши.
– Нет, не знаю.
– Так вот этого постреленка она и крестила, – указала женщина на своего мальчика и снова продолжала: – Я прирожденная солдатка, я женщина ломовая, я работы не боюсь, я трех мужей пережила.
– Сколько вам лет? – перебил ее член общества.
– Сорок пятый в доходе. Я бревна таскать пошла бы, ваше благородие, но женщин-то на бревна не берут. Пробовала около винной лавки картошкой да яйцами торговать – городовой прочь гонит. «Подай, – говорит, – жестянку». Говоришь ему: «Какую тебе жестянку, коли я прирожденная солдатка?» – «Нет, – говорит, – все равно, надо жестянку». Уж я и яйцами-то с картофелем его прикармливала – ничего не вышло. «Подай», – говорит, а нам и пить-есть нечего, так какая жестянка! Явите, ваше благородие, божескую милость прирожденной солдатке.
– Да, вы получите вспомоществование, – отвечал член общества и стал уходить из подвала.
– Очень вам благодарны, ваше благородие. Вот уж утешили так утешили, – говорила женщина, кланяясь. – Позвольте, ваше благородие, я вам ночником посвечу, а то у нас уж очень темно в коридоре-то. Как слепые, ощупью ходим.