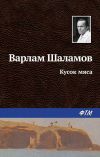Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Два дня до праздника. Послезавтра Рождество. Угловые жилицы Кружалкиной и жилицы соседних с Кружалкиной угловых квартир получили накануне Рождественского сочельника вспомоществования по их прошениям. Некоторые вдовы, не поскупившиеся на прошения, получили из пяти-шести мест, считая тут и благотворительные общества, и частных лиц. Были даже такие искусницы, которые получили из десяти источников, и в том числе многосемейная, как она, впрочем, только сама себя именовала в прошениях, Матрена Охлябина. Немногим было отказано, очень немногим, и если было отказано из одного места, так они получили из другого. Выдачи эти были, правда, очень незначительные, но, в общем, они составляли существенное подаяние, так что можно было и за угол заплатить, и пропитаться месяц-другой, не прибегая к труду. Так, например, попечительство выдавало не больше двух рублей в одни руки, и только многосемейные получили больше, от высокопоставленных благотворителей все, без разбора, получили по рублю на прошение. Человеколюбивое общество выдало от полутора рублей до двух рублей. Городская комиссия по благотворительности была щедрее других, но денежное вспомоществование она делала с большим разбором, в руки денег не давала и только за немногих заплатила за углы хозяйкам и погасила кое-какие счета в мелочные лавки в два-три рубля. Впрочем, давала она и на обувь. Так называемое «сапожное общество» также выдавало сапоги, калоши, обувь, фуфайки и вообще теплую одежду, но выдавало оно только детям. В общем, подававших несколько прошений, а такие были почти все, и ничего не получивших не было. Даже заведомая алкоголичка надворная советница Куфаева и та получила около пяти рублей и тотчас же напилась пьяная.
Получив предпраздничные вспомоществования, ликовали почти все угловые жильцы, живущие на счет общественной благотворительности, ликовали квартирные хозяйки, ликовали мелочные лавочники. Но больше всех ликовали сожители настоящих и фальшивых вдов вроде Михайло, мечтающего о месте швейцара. Им уж теперь и без вымогания и «вышибания» были готовы и сороковка водки, и соленая закуска. У всех происходили закупки ветчины, солонины, баранины, свинины к празднику, жарили кофе и цикорий на плите, и чад по всем квартирам и даже на лестнице стоял страшный. Многие «вдовы» прямо торопились как можно скорее купить на праздник еды, дабы сожители их, распившись, не отняли у них деньги, потому что почти везде уж начинались пиры ради преддверия праздников.
В квартире Анны Кружалкиной была одна жилица, «попавшая в публикацию о бедности». Это изворотливая Охлябиха. Она поместила в одной из распространенных газет объявление о своей вдовьей бедности, прося помощи на пятерых сирот. Объявление было маленькое, но принесло изрядную пользу. Ей уже прислали от неизвестных благотворителей семь фунтов мороженой говядины, два фунта масла, колбасы и ветчины, десяток булок, узелок со старым детским платьем и бельем, одеяло и две простыни и несколько писем по городской почте, в которые были вложены рублевые бумажки. Таких писем она уже получила шесть. Соседки с завистью смотрели на нее, умилялись на ее ум и расторопность и говорили:
– Вот так Охлябиха! Вот так голова с мозгами! В бабы-то она по ошибке попала. Мужчиной ей быть. Дельная баба. Да она и мужчину-то всякого за пояс заткнет. Ведь никому из нас не пришло в голову опубликоваться, а она опубликовалась.
Охлябиха слушала все это, самодовольно улыбалась, и отвечала:
– Я ходовая… Я спать не люблю… Уж делать дело так делать. Чего зевать-то! А только, девушки, уж и хлопот же мне это стоило! И только потому это такое мне счастие вышло, что у меня и свидетельство о бедности есть, и свидетельство о болезни. Помните, лечилась-то я от ног, так я свидетельство о болезни взяла, и живо оно у меня и посейчас.
– Счастье, собачье тебе счастье. Ты колдунья, Матрена Ивановна, – заметила ей квартирная хозяйка Анна Кружалкина.
– Ну, колдунья. А отчего ты не колдуешь? Колдуй и ты.
– Вот все плакалась на детей, что мешают тебе дети в мамки-кормилицы идти. Зачем тут на место в кормилицы идти, коли со всех сторон всякие благости летят! И это ведь прямо на детей твоих посылается.
– Да уж теперь зачем в мамки! С какой стати в неволю идти! Рожу, так и так проживу. На новорожденного-то лучше подавать будут. А я вот погожу маленько да опять в публикацию себя пущу.
Марья Кренделькова тоже получила вчера вспомоществования по прошениям, получила она и сапоги для своего Васютки – торговца «счастьем» на мостах. Сожитель ее Михайло сегодня и на поденную работу не пошел, хотя собственных денег у него не было ни гроша.
– Крайний день… Стоит ли идти! Завтра сочельник, и настоящие-то чернорабочие сегодня, я думаю, не все вышли. А я какой же чернорабочий? Я себе местов в швейцары жду, – говорил он себе в оправдание, сидя на своей койке и опохмеляясь после вчерашней выпивки на деньги Марьи.
А Марья хоть и была при деньгах, хоть и выкупила вчера даже свой новый платок из залога, но сегодня сидела пригорюнившись и с утра плакала. Ее сынишка Васютка ушел с вечера из квартиры продавать на мост «счастье», не вернулся домой ночью, не вернулся под утро, да и сейчас его еще нет. Марья чувствовала, что его, стало быть, забрал ночью городовой за прошение милостыни или за приставанье к проезжим и препроводил в участок. С Васюткой это уж бывало. Теперь сидит в арестантской голодный до разбора дел. Она знала, что, разобрав, кто за что арестован, Васютку препроводят с рассыльным из чужого участка в тот участок, где они живут, и уж только оттуда, вызвав дворника из дома, доставят его ей как матери.
– Чего ты ревешь-то по мальчонке, дура! – крикнул на нее Михайло. – Ведь не покойник он, еще найдется. Погоди… Коли в участке – приведут.
– Да как же… В участке… С арестантами… Бедный, несчастный… попался… – продолжала плакать Марья.
– Ну попался так попался. Эка важность, что в участке! В участке теперь не дерут.
– Не дерут, а другие арестанты отколотить мальчишку могут.
– Эка важность! Сахарный он у тебя, что ли? Вот разве что собранные деньги отнимут.
Но Марья не унималась и продолжала плакать. Она была плохая мать вообще, но сегодня чувство материнства сказалось в ней. К тому же, она знала, что и причиной его ареста – она. Сам Васютка неохотно ходил «продавать счастье», но она сама посылала его. Это была одна из статей дохода ее.
Марья хотела не думать о Васютке, забыть его, выпить так же вместе с Михайло рюмочку и закусить солененьким, она несколько раз порывалась это сделать. Предлагал ей и Михайло, поддразнивая рюмкой, но на подоконнике лежала христославческая рождественская звезда из цветной бумаги, которую клеил Васютка к Рождеству и не окончил еще, всякий раз напоминала ей о Васютке и не давала ей его забыть. Марья несколько раз протягивала руку к рюмке, но, взглянув на звезду, отнимала руку.
А из соседней комнаты слышалось ликованье:
– Смотрите, смотрите! Охлябихе-то от генеральши пять фунтов сахару, полфунта чаю и фунт кофею по публикации принесли! Ну, Охлябиха! Да ты теперь сама генеральша!
После полудня дворник привел заплаканного Васютку и сдал его матери. Васютка действительно был взят на мосту при продаже «счастья» и ночевал в полицейском участке. Марья бросилась к Васютке и стала его целовать.
– Есть хочешь, несчастненький? Не пивши, не евши? – спрашивала она его. – Сейчас я кофейку для тебя сварю, голубчик.
– Ну, чего ты ревела, как по покойнике? – сказал Михайло. – Ведь вот нашелся же мальчишка. Выпей, дура, водки-то на радостях, – предлагал он Марье.
И Марья выпила.
Папертные
IБыло воскресенье. Старые английские часы в длинном потемнелого красного дерева футляре начали бить, как бы тяжело кашляя, десять. Церковный сторож дернул за веревку, проведенную на колокольню, и на колокольне зазвонили к поздней обедне. В приходской церкви, на клиросе, тенористый дьячок, проглатывая слова, начал читать часы. Богомольцев в церкви совсем еще не было, но нищие на паперти уже собирались и размещались в притворе на своих обычных, давно уже облюбованных, местах. Тут были мужчины и женщины, большею частью старики и старухи, но крепкие, не хворые. Не отличались они и особенно убогим вретищем. Женщины были в ватных кацавейках, иногда ситцевых, правда, потертых, залоснившихся, иногда с заплатами, но не выдавались своим рваным дырявым видом. У всех были головы покрыты приличными почти только серыми суконными платками. Старики были в крепких сапогах. Бросалась одна особенность в глаза: почти у всех были щеки платками подвязаны. Подвязанная щека придает очень жалкий вид человеку, и нищие это знали хорошо. Почти от всех стариков пахло перегорелым вином.
Среди нищих говор шепотом, перебранка, угрозы за занятые якобы не свои места. Это постоянные, обычные, по нескольку уже лет стоящие на этой паперти и просящие милостыню у входящих и выходящих из церкви богомольцев, очень хорошо знакомые церковным сторожам. Некоторые из нищих стариков даже помогают сторожам в кое-каких работах по церкви и около церкви: ходят в длинной ленте сбирающих на украшение храма, на масло, на вдов и сирот, на сооружение чего-то и тому подобное с кружками, звонят на колокольне, посыпают песком ступени паперти и даже отворяют и затворяют церковную дверь в зимнее время перед входящими и выходящими богомольцами. На исполнение этой последней обязанности допускается самый «почетный» нищий, старожил паперти, ибо эта обязанность дает возможность получать в протянутую руку наибольшую милостыню, как не только нищему, но и лицу, облеченному некоторым доверием от низшей церковной администрации.
При размещении нищих в обычные две шеренги в притворе паперти выясняется, что среди них есть что-то вроде старосты, которому остальные обязались подчиняться.
Вот сошел с колокольни в притвор высокий лысый жилистый старик с плохо пробритым подбородком – николаевский солдат, облеченный в серое нанковое ватное пальто, и дует в покрасневшие от холода кулаки, и бормочет беззубым ртом:
– А уж без рукавиц-то куда знобко звонить на морозе. Просил, чтобы сторожа на колокольне рукавицы оставляли, – боятся, что украдут. А кому украсть? На колокольню только свои ходят.
К нему обращается маленькая старушонка в ситцевой кацавейке.
– Андроныч, да ты бы сказал Михевне-то, что она не на свое место стала. У двери всегда Серафима Андревна становилась, а теперь она в больнице, так нешто модель
Михевне ейное место занимать! Мы все должны подвинуться к церковной двери, а она пусть становится тоже на свое постоянное место.
– Правильно, правильно, – подхватывают другие нищие. – А то что за выскочка? Скажите, какая ворона среди воробьев выискалась! На паперти здешней без году неделя, а сама что?
– Врешь! На Афанасьев день два года минет, как я на здешней паперти.
– А я шестой год тутотка… – выставляется вперед худощавая старуха в заячьей с линючим верхом шубенке. – Шестой год.
– Уходи, уходи! Становись в свой ранжир! – машет рукой Михевне Андроныч, и та, хоть и ворча и поругиваясь, водворяется на свое обычное место в шеренге, шестой или пятой «рукой», начиная от церковных дверей. – На пророка Наума сторож Наум Сергеич именинник, так вы держите на уме, – объявляет он нищим.
– А что нам Наум Сергеич! Угощение он какое в именины раздавать будет, что ли? – бормочет сморщенная старушонка в коричневом капоте.
– Как, что? Ты внове, так и не знаешь. Каждый год крендель ему сообща подносим. Уж ты гривенник припасай. У нас здесь от этого отбояриться нельзя.
– Следует, следует ему крендель. Конечно же, следует. Нешто можно без кренделя! – послышалось со всех сторон у нищих. – Он иногда и у городового заступится: «Оставь, это наша…»
Начали появляться богомольцы, проходя между рядами нищих. Старик Андроныч встал около двери и начал ее распахивать перед входящими. Показалась пожилая дама в лисьей ротонде и шапочке, повязанной сверху пуховой косынкой. Некоторые нищие-старухи тотчас же протянули руки и стали шептать слова о подачке.
Старуха Власьевна, в сером платке на голове и в очках с круглыми стеклами в белой металлической оправе, только поклонилась даме и проговорила:
– Здравствуйте, матушка Анна Матвевна. Доброго здоровья вам желаю, – и тут же сказала нищим: – Чего вы лапы-то протянули? Или не узнали? Ведь это полковница Саватьева, старая прихожанка здешняя. Разве она когда-нибудь подает, когда входит в церковь? Ни в жизнь… Она только при выходе оделяет.
– Да и то не признали, – созналась старушонка со сморщенным лицом. – Очень уж много у нее сегодня на голове-то навьючено.
Показался купец в енотовой шубе. Он остановился на паперти и истово перекрестился три раза. Руки нищих протянулись.
– Святую милостынку, Христа ради, батюшка.
– Да, пожалуй, пока не тесно… Сколько вас? – спросил купец, считая нищих. – Раз, два, четыре… Ну да все равно… Вот двугривенный… Поделите по копейке, а кому не хватит, уж не взыщите…
Он распахнул шубу, достал из кармана двугривенный, подал ближайшей старухе и вошел в церковь.
Начался дележ. Старухи и старики начали спорить. Нескольким нищим не хватило. Те требовали разделить копейки на гроши. Послышалась руготня. Какую-то женщину с ребенком за пазухой притиснули. Ребенок заревел. А богомольцы все прибывали и прибывали. Андроныч должен был ввязаться в дело. Он подскочил от дверей к нищим и закричал:
– Кш… Смирно! Чего раскудахтались! Богомольцы идут в храм с усердием, а у вас словно рынок… Чего орешь, Татьяна Васильевна? Встань на свое место. Грош… Не видала ты гроша!
– И грош – деньги. Всякому, Андроныч, своя слеза солона. Зачем же безобразить.
– Становись, говорю, на свое место! Срам эдакий. Сейчас племянник церковного старосты прошел, Василий Варсонофьич. Ты думаешь, Василий Варсонофьич не скажет старосте, что тут старухи бунтуют? Он уж и так ругался в прошлое воскресенье.
– Милостыньку Христову подайте, батюшка-благодетель. Подайте, Христа ради, на хлеб.
Руки опять вытянулись. Проходил старик, отставной полковник в форменном пальто, и на ходу снимал с головы черные суконные наушники. Андроныч бросился к дверям, распахнул их перед полковником, поклонился в пояс и сказал:
– Пожалуйте, батюшка, вашескоблаародие… Отставному николаевскому солдату…
Полковник сунул ему что-то в руку и прошел в церковь. Андроныч взглянул в руку и улыбнулся.
– Сколько? Сколько? – интересовались другие нищие.
– Только трешину.
– Вишь ты, только трешину. А кто здесь дает больше-то? Тебе трешину, а нам хоть бы плюнул. Знакомый, что ли?
– В первый раз его вижу. Но он видит, что я солдат и все эдакое…
Появилась старуха в синем суконном пальто, крестилась и направлялась в церковь.
У старух-нищих послышалось ей вслед:
– Вон и богаделенки руку протягивать идут, так нам-то уж и Бог велел. Мы на паперти, а ведь она в церкви, так кто больше наберет?
Старуха обертывается.
– Да что вы, кофею с дурманом напились спозаранку, что ли? Я никогда не прошу, – говорит она.
– Просить не просишь, это точно, а руку протягиваешь.
– Подите вы, греховодницы! – машет рукою старуха-богаделенка и скрывается за дверью.
IIНа колокольне раздался второй звон. Приток богомольцев сделался усиленный. Часы кончились, и началась обедня. Стали появляться молодые дамы, некоторые с детьми, молодые мужчины, девицы в новомодных шляпках. Публика шла больше парадная. Нагольных полушубков и сермяжных армяков, даже овчинных чуек и жен мелких торговцев в ковровых платках на головах за поздней обедней вообще бывает мало, а тут приток этих богомольцев из низших классов совсем прекратился. К паперти начали подъезжать богомольцы в извозчичьих санях, приехала какая-то нарядная пожилая дама даже в собственной карете. Как только она вошла в церковь, из церкви тотчас же выскочил церковный сторож Наум, не старый еще человек солдатской выправки, в длинном черном сюртуке с красным кантом и светлыми пуговицами, в усах на румяном лице, и крикнул, озираясь на нищих:
– Кто тут есть из стариков? Ах да… Алексей! Ты можешь… Сейчас генеральша Вывертова, выходя из кареты, поскользнулась на ступеньке и чуть не упала. Посыпь-ка песочком ступеньки у паперти. Мы их и забыли посыпать.
– Слушаю-с, Наум Иваныч… – встрепенулся старик с козлиной бородкой. – Песок в ограде?
– Нет. Ты обойди притвор-то. Он в уголке, сбоку около притвора приготовлен. А вы что тут бунтуете? – угрожающе обратился он к старухам-нищим. – Сейчас старостин племянник жаловался, что кричите, бранитесь. Здесь церковная паперть, а не баня… Храм…
– Видите, видите. Андроныч правду говорил, что нажалуется старостин племянник, – сказала старуха в черном суконном платке другим старухам. – Двугривенный делили, Наум Иваныч, и не могли поделить поровну – вот из-за чего вышло.
Но сторож Наум юркнул уже в церковь, а старик Алексей с козлиной бородкой, держа в руке корзинку, с усердием сорил песком по ступенькам паперти.
Входящие в церковь богомольцы вообще подавали очень мало нищим. Нищие ждали выходящих по окончании службы богомольцев. Ранняя обедня по подаче милостыни считается лучше поздней. За ранней обедней бывает простой народ и подает больше. К поздней обедне некоторые нищие даже умышленно приходят к концу и не становятся на паперть, а в начале обедни бродят около церкви или около ограды и, встретясь с купцами или купчихами, идущими к обедне, только «просительно» раскланиваются с ними, бормоча слова вроде «в здравие и благоденствие», «со чадами, во спасение навеки нерушимо», причем, если знают их имена, то величают по имени и отчеству. Средней руки купцы и купчихи это очень любят и всегда суют таким нищим трехкопеечники или пятачки. Такое прошение милостыни несколько опасно, потому что около церкви во время обедни всегда прохаживается городовой, могущий заарестовать получивших милостыню, но зато оно выгодно. Городовые, впрочем, невзирая даже на приказ, редко заарестовывают нищих около церкви. Они со своей народной точки зрения смотрят на этих нищих как на нечто естественное, обычное, исконно русское и иногда сами суют нищему копейку.
В притвор вошла женщина в нагольном полушубке, пестром платке на голове, завязанном концами назад, и с грудным ребенком. Старухи-нищие приняли ее сначала за богомолку, идущую в церковь, но когда она встала в ряд с ними, они загалдели, обращаясь к ней:
– Ты что это? Никак милостыню просить? Уходи, уходи отсюда! Здесь нельзя.
– Отчего же нельзя, миленькие, коли вы просите? – просительно заговорила женщина.
– Мы здесь свои. Мы туточные… Мы здешние прихожанки. А ты что такое? Ты чужая, – стала ей доказывать сморщенная старушонка в черном чепчике на заячьем меху, носящая название чиновницы, потому что у ней когда-то сын был паспортистом в участке. – Ну, что же стала? Уходи честью.
– Я только малость, старушки. Я последняя встану, – упрямилась женщина.
– Уходи, уходи, коли тебя честью просят! – завопили снова старухи. – Уходи, а то ведь и городовому отдадим.
Женщина попятилась, но не уходила.
– Зачем же такую обиду супротив меня? Я такая же нищенка, – сказала она.
– Такая, да не такая. Откуда ты выискалась?
– Из-за Трухмальных ворот. Я там в родильном была. Вот ребеночек.
– Ну так к Трухмальным воротам и иди. А здесь нечего туточным старушкам мешать, – доказывала ей чиновница. – Вишь, какая выискалась. Туда же, с ребенком!
– Да еще ребенок ли у ней? Может быть, полено? – делала догадку старуха в капоре.
– А вот пусть Андроныч посмотрит, – подхватили другие старухи. – Андроныч, вот тут чужая пришла и руку протягивает.
От дверей отделился николаевский солдат Андроныч и подошел к женщине в полушубке.
– Ты тут чего? – спросил он.
– Святую милостыньку, Христа ради.
– Ну так и проси около церкви. А здесь на паперти нельзя. Уходи, уходи.
– Да что у вас, откуплено, что ли?
– А хоть бы и откуплено, но это дело до тебя не касающееся. Уходи. Чужой доход нечего отбивать.
– Эки злюки! Вот злюки-то! Совсем цепные псы. Право, цепные псы.
Женщина с ребенком стала пятиться и сошла с паперти.
– Посмотри, Андроныч, настоящий ли у ней ребенок-то, – говорила чиновница. – А то поймают ее около паперти, да окажется полено в пеленках, так только на нас конфуз. Мараль-то ведь на нас пойдет.
Андроныч пошел за женщиной, вернулся и сообщил:
– Настоящий. Даже пищит. А что нищих около церкви – страсть, – прибавил он. – Какой-то совсем новый… На деревяшке. Потом с кокардой на фуражке один. Тоже новый.
– Да не Коклюшкин ли с Моисеева двора, что прошения к благодетелям пишет? Он иногда тоже руку протягивает, – спросила чиновница.
– Ну вот… Не знаю я Коклюшкина! Очень чудесно знаю. А просит он часто. Он недавно был в нищенском… Его недавно полиция словила.
В притвор с улицы зашел околоточный и стал проходить в церковь. Старухи мгновенно присмирели и расстроили свои ряды, порвали шеренги. Околоточный, не обращая на них внимания, скрылся в церкви.
– Этого, с красным носом, я знаю, – сказала про околоточного старуха в капоре. – Он никогда к нищенкам не привязывается на паперти. Пройдет мимо, поставит в церкви свечку и уйдет. Вот Пентюхов, так тот ох какой! Тот – беда…
– И Пентюхов не привязывается к папертным. Он только на улице лют. Вот уж там ему с протянутой рукой не попадайся, – возразила старуха в чепчике на заячьем меху.
Андроныч тотчас же прибавил, стоя у двери:
– Да они все ничего… Но ведь у них служба. От них начальство требует. Спрашивают.
Из церкви заглянул в притвор сторож Наум и крикнул одному из стариков:
– Алексеев! Ты почище одет. Пройдись со сборной кружкой перед «Достойно…».
От нищих отделился седой старик в длиннополом кафтане, остриженный в скобку, и пошел в церковь за сторожем.
Какая-то нарядно одетая молодая дама приехала в санях с изукрашенной в голубой шелк и серебро кормилицей в повойнике. У кормилицы на руках был ребенок.
Они стали пробираться в церковь.