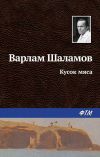Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
На дальних мостках кладбища, почти совсем не расчищенных от снега, пробираются мужчина и женщина. Мужчина в чуйке с барашковым воротником, женщина в драповом пальто и ковровом платке на голове. В руке у ней венок из моху с иммортелем.
– Ну и снегу же!.. – говорит женщина. – И никто не заботится расчистить. Совсем не расчищают.
– Расчищать-то тут расчищали, а только давно уж очень, – отвечает мужчина, балансируя на ходу, чтоб не поскользнуться и не упасть. – А вот как мы крест-то Петра Митрофаныча найдем – это штука. Смотри, как все занесено направо и налево, а крест у Петра Митрофаныча небольшой, низенький.
– Меж двух берез должен быть. Теперь, как мы идем, то на правой стороне. А на березе, которая побольше, губка. Я заметила эту губку. Потом сзади сломанное дерево. Ай! – взвизгнула женщина и упала.
Мужчина бросился ее поднимать.
– Не ушиблась? – участливо спрашивал он.
– Как не ушиблась! Локоть… Локтем ударилась… Больно. Ведь скользь-то какая!
– Ужас, как содержат этот четвертый разряд! Лодочкой протоптанная тропинка и ни порошинки песку. Смотри, ведь двоим не разойтись. Четверторазрядных посетителей и за людей не считают.
Мужчине и женщине, которые идут гуськом, как раз загораживает дорогу встречная старуха-нищая с красным носом, в ватной юбке, из-под которой выглядывают серые валенки, и в двух платках.
– Христову милостыньку, матушка, за упокой новопреставленных сродственничков. Подайте старушке на хлеб.
– Ах, милая! Какая тут милостыня! Только бы разой-титься нам как-нибудь, – говорит мужчина, остановившись перед нищей.
– Да разойдемся как-нибудь, милостивец, не откажи только в подаянии. Я в сугроб сойду. Я в валенках… Да и не привыкать мне стать.
Мужчина сует нищей медную монету, нищая сходит в сугроб и опускается в снег чуть не по колени, бормоча:
– Спасибо, благодетель. Пошли Господь царство небесное упокойничкам вашим.
– Пройти-то вот только к нашим упокойничкам невозможно, – плачется мужчина. – Удивляюсь, как сюда ходит само духовенство литии служить на могилы.
– Да не ходят сюда священники, благодетель, совсем не ходят, отказываются. Как тут священнику в ризе пройти! Упаси Бог… И мы-то, старушки, бродим-бродим, а потом придем домой, так подол-то у юбки хоть выжми – весь мокрый. Тут ходить только привычному народу, да у кого разве близкие сродственники похоронены, так по усердию.
Старуха брела обратно, сзади мужчины с женщиной.
– А ты здесь целый день топчешься, бабушка? – спросила женщина в ковровом платке.
– Не то чтобы день, благодетельница-матушка, а все уж часа два после поздней обедни побродить надо. В обедню-то около церкви, а потом сюда… В вечерню редко ходим. Младенцев ведь только хоронить привозят к вечерне-то. Мало подают. Ну, у кого из нашей нищей братии дети есть, так детей собирать посылают.
Но вот опять встреча, и на этот раз уж встреча с посетителями кладбища. Встречаются трое мужчин и с ними простая женщина с чашкой кутьи, завязанной в носовой платок. Мужчины оказались в сапогах с высокими голенищами, сошли в снег и кое-как пропустили встречных. Старуха-нищая опять заныла:
– Христову милостыньку, благодетели, за упокой новопреставленных.
В подаянии не отказано. Старуха-нищая продолжает:
– Ведь вот простые-то люди лучше подают. Они жалостивее к старушкам. Трудно здесь ходить в этом разряде, а подают с большим усердием. Мало ходят здесь из-за снега, а уж откажут здесь редко, милостивец.
– Вот, вот две березы… Здесь должен быть похоронен Петр Митрофаныч, – указывает женщина в ковровом платке. – Вот и губка на березе, о которой я говорила.
Мужчина в чуйке останавливается.
– А креста-то ведь не видать. Занесен, – произносит он.
– Но вот где он должен быть… Вот… Как нам с венком-то? – спрашивает женщина.
– Но пройти туда нельзя… По пояс снег… Надо будет кинуть венок наудачу. Кидай.
– Вечная тебе память, Петр Митрофаныч! – восклицает женщина в ковровом платке, размахивается и кидает венок на предполагаемое место могилы.
– И отчего ваши нищие не ходят тут с лопатами? – задает вопрос нищей старухе мужчина в чуйке. – Могли бы трудом добывать деньги вместо попрошайничества. Сейчас бы вот взял лопату, раскидал снег, и за это можно ему гривенничек прожертвовать, а пятачок и скупой даст.
– Милостивец, да нешто здешние могильщики позволят? – возражает старуха-нищая. – Они убьют, исколотят, а не позволят. Сами зажравшись, расчищать в этот разряд меньше полтины и не тронутся, а другим не позволяют. Тут, милый, артель, на все артель… Они как воронье. Да и за полтину не пойдут расчищать. Пойдут они, как же… Они теперь с могилами покончили и сидят и пиво пьют. Посмотри-ка на них, какие они… Что твои борова.
– Да ведь и вы, кладбищенские нищие, я слышал, в свою компанию посторонних-то не пускаете, – сказал мужчина в чуйке.
– Не пускаем, милый, не пускаем, это точно. Так ведь мы тоже платим за то, что нам позволяют здесь ходить, – откровенничала нищая.
– Кому? – поинтересовалась женщина в ковровом платке.
– Да мало ли кому! Здесь всяких хозяев много. Берут и с нас.
Опять прохожие, пробирающиеся по сугробам.
– Так ведь и не нашли могилки. Зря пропутались, – разговаривают они.
Опять стон старухи-нищей:
– Христову милостыньку…
Сзади прохожих бежит девочка лет восьми, румяная от мороза, с выбившимися белокурыми волосиками из-под платка, в громадных валенках, и причитает:
– Подайте, благодетели, сиротке на хлеб! Родителям царство небесное…
– Ах, какая малютка! – участливо восклицает женщина в ковровом платке. – Такую бы в приют куда-нибудь. Вот таким-то сироткам и место в приюте.
Старуха-нищая улыбается и бормочет:
– Отдаст ее мать в приют, как же! Она ей полтину в день заработает. Она нужды нет, что махонькая, а шустрая. Да махоньким-то у нас лучше подают.
– Дяденька, Христа ради, сиротке на хлеб… – запела девочка.
Мужчина в чуйке крестился, потом надел шапку и сказал женщине:
– Ну что ж, веночек на могилу бросили и давай пробираться домой.
Они стали опять лавировать по протоптанному в снеге желобу и шли гуськом; женщина в ковровом платке говорила:
– На лыжах здесь ходить, кто умеет, так вот было бы в самый раз.
– Да, пожалуй, с лыжами-то и не впустят. Скажут: «Здесь кладбище, а не лес», – отвечал мужчина.
В родильном приюте
IГородской родильный приют. Палата. Стоят десять-двенадцать кроватей для взрослых, и на них лежат молодые и пожилые женщины под белыми тканевыми одеялами. Рядом с каждой большой кроватью детская кровать под белым полуоткрытым миткалевым пологом, и в ней покрякивает ребенок. В простенке на столе со шкафчиком, крышка которого обита клеенчатой подушкой, сиделка, вся в белом, пеленает плачущего ребенка. Белые стены, белые занавески на окнах, кровати и табуретки выкрашены в белый цвет, даже стенные часы – и те смотрят со стены в белом деревянном чехле. Дорожки на вылощенном желтом полу в проходах между кроватями – и те из белого полотна. Пахнет мятой, гуттаперчей перевязочных средств, отдает слегка йодоформом. Тишина.
Женщины не спят. Кое-кто полушепотом лежа разговаривают друг с дружкой. Одна, сидя на кровати, кормит грудью ребенка. Разговаривают две молодые: одна блондинка, другая брюнетка.
В полушепоте слышится:
– Подлец… Совсем мерзавец… Низкий человек… А как глупа была я!.. – говорит брюнетка.
Тяжелый вздох.
– Все они, милушка, таковы. Где же он теперь? – спрашивает блондинка.
– Кто ж его знает! Говорили, что где-то в официантах служит. Сначала я искала его… Но где же найти? Все трактирные заведения не обходишь. Потом стали говорить, что в провинцию уехал и где-то в буфете на железной дороге. Подлец – и другого ему имени нет.
– А вы бы в адресном столе, милушка, справились.
– Справлялась, но никакого толку… Надо знать, кто он: крестьянин или мещанин и какой губернии крестьянин. А я знаю только, что он Андрей Иванович и что у него мать в Тамбове у какого-то генерала в няньках живет. Андрюша да Андрюша… Где же девушки!.. Ведь паспорта у него не спрашивала.
– А сами-то одной прислугой жили? – допытывается блондинка.
– Одной прислугой. Барыня моя была актриса. А он у доктора жил. Трезвый человек и много чайных денег от больных получал, но на биллиарде этом самом очень уж любил играть и иногда прямо, не спросясь, убегал в трактир, оттого и отказали.
– Красивый?
– Писаный… Портрет – одно слово! Его даже одна пожилая барыня-вдова к себе переманивала, вот до чего была на него польстившись. Ах, и красавец он, да и подлец! А вы? – задает вопрос брюнетка.
Опять вздох, на этот раз из груди блондинки.
– Я в меблированных комнатах прислугой жила – и там мой грех. Студент.
– Студент… – протянула блондинка. – Это значит, уж барин. Ведь мой-то клялся и божился, что обзаконит, так неужто же и ваш?
– Никаких тут клятв не было, а просто… Ну, живет жилец в меблированных комнатах… Молодой человек… недурен собой, ласковый, веселый… А я подаю ему самовар два раза в день, стелю ему постель… Конечно, наша сестра глупа и неосторожна.
– А где ж он теперь?
– Студент-то? Да кто ж его знает! Летом уехал на дачу, в деревню, к своим… Попрощались честь честью. Вернусь, говорит, осенью…
– Простился, уезжая-то? Ну, это еще хорошо.
– Что ж тут хорошего, душечка?
– Да как же… А ведь мой не простясь удрал. Сказали вы ему все-таки, что ребенка-то ждете?
– Как же… «Я, – говорит, – тебя не покину. Вернусь и помогу осенью…» Пять рублей на прощанье дал.
– И не вернулся?
– Где ж вернуться-то! Да я и не рассчитывала особенно-то. Уж эти студенты – народ известный. Много девушек в меблированных комнатах на них плачутся. Конечно, дуры… И я сама была дура… За это и плачусь… хорошо, что я запасливая, с жильцов пособрала и накопила двадцать пять рублей, чтобы отдать ребенка в воспитательный…
Снова тяжелый вздох у блондинки.
– Ах, так вы в воспитательный?.. – говорит брюнетка.
– А то как же? Куда же мне с ребенком-то?.. На местах с ребенком не держат.
– В деревню можно бы было.
– То есть к родне? Я кронштадтская мещанка, и родственники у меня все померши.
– Нет, я так рассуждала, что на воспитание и платить.
– Все равно уморят. Деньги возьмут и уморят. Я уж знаю… Это мне известно. Ведь сама навещать в деревню не поедешь с места, а оттуда будут писать, что жив, чтоб деньги получать, а на самом деле уж он давно умер. Я знаю… А в воспитательном можно все-таки справляться и справки верные…
– Стало быть, у вас уж это не первый ребенок?
– Ох, третий! – вздохнула в третий раз блондинка.
– И все живы?
– Первые два померши. После первого я в кормилицах жила… в мамках… В хорошем графском доме жила и много добра себе накопила, ребенка откормивши…
– И опять пойдете в кормилицы?
– Нет, Бог с ней, с этой жизнью! – махнула рукой блондинка. – Ребенка в воспитательный, а сама на место, опять в меблированные комнаты к прежней квартирной хозяйке. Меня ждут.
– А что ж такое в кормилицах-то? – спросила брюнетка. – Я сама думала… Ребенка к тетеньке, в деревню, а самой в мамки…
– Попробуй. Жизнь в хороших домах – прямо малина… Куражиться можешь. Все тебе готовое от головы до пяток. На меня летом даже шелковые чулки надевали. На серебряном подносе лакей обед с господского стола подавал… Сама вся в шелку и серебре ходила. Бусы…
– Ну и что же?
– Воли никакой нет. Жила, как в золотой тюрьме. На прогулку с ребенком и то в сопровождении горничной отпускали. Никаких знакомых к тебе. А уж мужчине на улице не смей поклониться.
– Ну?! Ты меня пугаешь, девушка.
– Попробуй… У тебя первый ребенок-то? – спросила, в свою очередь, блондинка.
– Первый, милушка. Я себя соблюдала. И тут-то бы… но уж очень клялся, что обзаконит. И кабы он не пара мне был, то, разумеется, я ему не поверила бы. Я знаю, все они подлецы, но этот… Вот я и думала в кормилицы, чтобы прикопить хоть на ребенка-то своего.
– Прикопить прикопишь на хорошем месте, но одурь возьмет в неволе… Попробуй… Я из графского дома, откормив ребенка, прямо с приданым ушла. Все мне отдали: платье, белье, постель, подушки… Все, все… Ко мне повар сватался после того. Настоящим манером сватался.
– Что ж ты?
– Пьющий…
В уголке, в кровати сидит худая и бледная родильница, кормит грудью ребенка и горько заливается слезами. Около нее акушерка вся в белом. Акушерка объявила ей, что та теперь вполне оправилась и ей на выписку пора. Слезы так и душат ее, она вздрагивает.
– Чего ты, милая, чего ты? Успокойся… – тревожно говорит акушерка.
– Куда я, барышня, пойду? Куда? Мне деться некуда… У меня ни квартиры, ни угла…
– Ну, наймешь где-нибудь уголок… Это так нетрудно…
– Легко сказать… – всхлипывает женщина, прижимая к груди ребенка. – Легко сказать, «нанять уголок»! Как нанять, если я без денег… Всего семнадцать копеек в кармане, семнадцать… – повторяет она.
IIОпять громкий шепот.
В другом углу также разговаривают на двух кроватях. Темно-русая женщина, очень недурненькая, лежит на спине, закинувши руки за голову, другая, белокурая, тоже молоденькая, с как бы льняными волосами, с совершенно круглым лицом и без бровей, приподнялась на локоть и рассказывает соседке:
– Приехала я в Питер-то в марте… От голодухи приехала… Очень уж у нас в деревне-то голодно, так мать на заработки меня послала… Неурожай у нас был… И травы погорели… и все… скотину даже кормить нечем было… Нам самим хлеба только до Рождества хватило… Ужас, что было…
– Понимаю… – ответила темно-русая женщина сочувственно. – Везде неурожаи… Нам земляки наши тоже писали об этом в Питер. Потом скот падал.
– Вот, вот… Все ведь это от бескормицы. Ну, мать и говорит: «Поезжай с хлебов долой… Зарабатывай… Нам пришлешь…» У нас сторона глухая, заработков нет. А маменька у меня вдова, и два братенка мои при ней махонькие. Ну, продала она мне на дорогу пару овец, чтоб снарядить меня. Кое-что себе на муку оставила, а остальное мне. И приехала я к сродственнице нашей. При артельной квартире она маткой живет. Артель фабричная… Ну, она стряпает им и обстирывает их. Приехала я, начала места искать, а заработка-то нет. Уж и натерпелась же я, девушка! Мужики ругаются, гонят с квартиры… «Полно, – говорят, – тебе нас объедать!» А куда я пойду? Куда денусь без денег? И целый месяц я так-то, милушка. Только поломойством восемь гривен и выработала. Мать пишет: «Что, дочка, мать забыла? Что денег не шлешь? Сидим, и животы у нас подвело». А что я им пошлю? Наконец, на Пасху мне место обозначилось на огород, к парникам.
– В копорки, значит? – спросила соседка по кровати.
– Копорками нас только дразнят, а мы сдуру откликаемся. Копорки тутошные, из Копорья. А у нас на огороде было двадцать женщин и девушек и ни одной копорки. Все новгородские да псковские. Я новгородская.
– А мы тверские… Муж мой в дворниках служит, – сообщила темно-русая женщина. – Приехали с мужем тоже от голодухи и бескормицы, да так в Питере и остались. Вот уже четвертый год здесь живем. Здесь живем, а в деревню свекру и свекрови все-таки посылаем. И на работницу посылаем, и на подати посылаем. Старик со старухой ой какие строгие и сурьезные! А у самих себя семья здесь. Тоже поить-кормить надо. Вот Бог и третьего ребенка посылает.
У круглолицей безбровой тяжелый вздох.
– Ах, при муже-то ребенок – одни радости, а вот каково девушке-то! Только срам один… – говорит она и слезливо моргает безбровыми глазами.
– Конечно. Полюбовник или муж! Полюбовник, миленькая, только до ребенка, а чуть узнает, что виновата, так убежит, словно черт от ладана, прости, Господи. И некому тебя пожалеть, некому приласкать, – шептала темно-русая женщина.
Круглолицая безбровая женщина заплакала и стала утирать глаза воротом рубахи. Соседка по кровати продолжала:
– Ведь вот меня муж уж два раза навестил, пока я здесь лежу, бараночек мне принес, калачик, кума была и два яблока принесла в гостинец. А к тебе кто придет?
– Боже мой, господи! Да если бы я только знала! – шепчет сквозь слезы круглолицая и недоговаривает. – Ну куда я теперь с ребенком!..
– Мать знает?
– Ни боже мой… Она убьет, коли узнает. И так-то, бывало, с парнями в деревне, так она и то сейчас за косу… а то ругать…
– Не убьет. Где убить! А разве поколотит только… Так ведь и за дело же. Поезжай в деревню, повинись ей и претерпи.
– Срам-то какой, милая! Ведь вся деревня засмеет, проходу ни от кого не будет. А мать прямо скажет: «Вот, дочка поехала в Питер, чтобы нам помогать, а сама нам же из Питера лишний рот привезла».
– Ну какой это рот!
– Вырастет, так рот будет. Через год рот. Да и теперь обуза… Всему дому обуза.
Пауза. Круглолицая женщина всхлипывает.
– Где грех-то случился? – участливо спрашивает темно-русая женщина.
– Ох, не спрашивай, душечка! И так тяжко.
– Расскажешь, так легче будет. Душу облегчишь. Я от сердца спрашиваю, жалеючи тебя, спрашиваю, а не для того, чтобы язвить.
– Ох, на огороде!
– Работник?
– Солдат. Гряды у нас по весне копал. Земляк наш, тоже новгородский. Говорит, что двенадцать верст от нас… Я посмотрела на него и припомнила, что действительно раза два видела его у нас в церкви на погосте. Стала с ним разговаривать и вижу, что он и лавочника нашего знает, и многих кого из наших. Ну, дура была, обрадовалась земляку… Да что! Не стоит рассказывать про него, подлеца!
Круглолицая безбровая женщина откинула выбившуюся из-за уха прядь волос и уткнулась в подушку.
– Порядок известный, что уж они подлецы, особливо солдаты, – согласилась темно-русая женщина, – но рассказать-то отчего не рассказать? А ты говори, ругай его, облегчи сердце, и тебе на душе легче станет. Я когда сердце сорву, мне всегда легче. Ну и что ж? Ты и прельстилась им?
– Ничего я не польстилась, а уже видно, что так греху быть. Вот я из лица кругла, а надо мной товарки смеяться стали: «сова» да «сова»… Кто месяцем дразнил, кто днищем. И мужики тоже… «Эко месяц-то у тебя расплылся!» Это про лицо мое. А я виновата ли, что из лица кругла? Мне обидно было. Я плакала. Ну а он заступился.
– Кто?
– А Иван-то, солдат-то. Поколотил даже одного. Ну, вижу, ласковость выказывает… стал угощать… Семечек два раза купил.
В свою очередь, приподнялась на локоть и темно-русая женщина и вся обратилась во внимание.
– Ну, так, так… Все они, нахальники, на один покрой, – говорила она. – А дальше-то что?
– А дальше фунт сахару принес… «Вот, – говорит, – тебе, Настя, попей чайку внакладку».
– А потом?
– А потом сажали мы капусту, так он уж и сватать меня стал… «Служба моя солдатская, – говорит, – только до осени. Кончаю я службу. В октябре я к себе в деревню приеду, ты вернешься – давай и перевенчаемся, коли я тебе люб. Придет Покров, – говорит, – и венцом нас прикроет».
– Вишь, как подъезжал! Ну а ты что?
– Ну что же мне! Я вижу, что он защита мне, защита и от девок, да и от мужиков… Парень он ласковый, не пьющий… Другие пили, а он тверезый…
– А ты, дура, и поддалась?
– Вот уж дура-то. Доподлинно дура. Вот теперь и плачусь, и убиваюсь на свою дурость.
– И долго вы миловались?
– Да сейчас же после Николы и угнали его в лагерь.
– Ну да, в лагерь. Они все обязаны в лагерях быть, у меня деверь, так то же самое… А из лагеря так уж и не приезжал к тебе?
– Нет. И посейчас ни слуху и ни духу… Говорили мне, где он. На Ильин день пошла его искать, да что! Срам один. Только насмешки. Что я насмешек натерпелась от солдат! Да и озорники.
– И не нашла?
– Ах, не нашла! И посейчас не знаю, где!
Круглолицая женщина уткнулась в подушку и начала рыдать.
Темно-русая молча смотрела на судорожное вздрагивание ее плеч и тоже отерла с глаза слезу.
IIIРодильница, назначенная на выписку, все еще не переоделась в свое платье, по-прежнему сидит в казенном белье, держит у своей груди ребенка и продолжает плакать.
– Припасены ли у тебя, по крайности, пеленки-то с одеяльцем для ребенка? Ведь в казенном добре ребенка отпустить нельзя, – говорит ей вертящаяся тут же сиделка. – Казенные пеленки и одеяла у нас все на счету.
Родильница молчит.
– Одеяльце-то у тебя свое с пеленками, говорю, есть ли для ребенка? – повторяет сиделка.
– Нет, – тихо произносит родильница.
– Ну?! Как же это ты так? Приготовилась родить, а даже одеяльце с пеленками не припасла!
Опять молчание.
– Надо барышне сказать, акушерке, – продолжает сиделка. – Да не реви! Чего реветь-то! Как-нибудь уж мы тебя выпустим. После девятого дня нам здоровую родильницу здесь держать нельзя, не имеем права. У барышни иногда пожертвованные одеяльца с пеленками и свивальниками бывают. Вот спросим.
Опять появляется акушерка вся в белом и отирающая руки полотенцем. Она подходит к плачущей родильнице.
Плачущей родильницей начинают интересоваться и другие родильницы и, не поднимаясь с кроватей, спрашивают сиделку, в чем дело. Та объясняет и прибавляет:
– Ни денег, ни белья для ребенка, ничегошеньки! А еще родить пришла! Даже и квартиры нет. Надо угол нанимать, а у ней всего восемнадцать копеек. Чудачка!
– Ах, и угла даже нет! – произносит женщина с распущенными волосами и покачивает головой.
– В том-то и дело.
Известие это передается от одной кровати к другой. К плачущей родильнице выражается сожаление. Начинается складчина. Родильницы лезут под подушки и достают кто двугривенный, кто медный пятачок и подают свою лепту сиделке. Слышатся слова: «Вот ей на булку и на ночлег».
– Ведь общество вспоможения какое-то при родильных приютах есть, – замечает родильница с распущенными волосами.
– Есть, – отвечает сиделка. – И попечительница от этого общества для приюта есть, помогают, но разве можно сейчас все это сделать? А ей, как выйдет от нас, сейчас где-нибудь приткнуться надо! Ну, дадим адрес попечительницы, и наша барышня-акушерка камердацию напишет, а она придет к попечительнице и дома ее не застанет. Да и что ей выйдет? Три рубля. Много – пять рублей. Из общества, как хочешь, ближе трех-четырех дней ничего не получить. А ей ночевать надо, ребенка не во что запеленать. Вот разве барышня поможет чем-либо.
– Я слышала, приют такой есть, где после родов… Пошлите ее в этот приют, – слышится с другой кровати.
– Да, дожидайся! Приют-то всегда полон и перепо-лон. Места-то караулить надо. Да и то берут так, что кто ежели со стороны попросит. И удивительное дело – чего она раньше молчала! А тут на выписку женщине надо, а она объявляет, что ей деться некуда, что у ней квартиры нет, да и денег всего восемнадцать копеек.
– Вот ей гривенничек… на что-нибудь все-таки хватит… – протягивается рука с третьей кровати.
Сиделка принимает сбор и бормочет:
– Народ тоже! Публика! Сбираются родить, а ничего не припасают! Восемнадцать копеек…
– Паспорт-то еще есть ли? – слышится где-то.
– Ну вот… без паспорта и родить нельзя, – дает ответ сиделка.
– Врешь, врешь. Родить нельзя погодить. Родят и без паспорта.
В палате нарушается обычная тишина. Идут толки и разговоры о беспомощной родильнице. На всех кроватях происходят обсуждения ее положения. Акушерка приносит какое-то ветхое одеяльце и пару пеленок, в которые и завертывают ребенка. Приходит вторая акушерка. Что-то пишут, дают плачущей родильнице какие-то адреса и, наконец, выпроваживают ее из палаты.
– Много ли ей собрали? – интересуются родильницы.
– Девяносто шесть копеек… – сообщает сиделка, – стаскивая грязное белье с освободившейся кровати и застилая ее чистым.
Минут через пять в палату втаскивают на раскинутом кресле новую родильницу – полную, с одутловатым лицом и русыми волосами – и перекладывают на свободную постель. Она тотчас же осведомляется у сиделки:
– Кофейку-то, милушка, поутру завтра мне можно? У вас ведь чаем поят, а я привыкла по утрам кофей… Я с собой принесла баночку. У меня есть. Я и с тобой поделюсь, хорошая моя. Ох, Владычица! Ох, Варвара великомученица! Слава им, заступницам, что все благополучно! Ох, свет увидела! Ох, как теперь все хорошо и полегчало! Тебя, ангелка, как звать-то? – спрашивает она сиделку.
– Настасья.
– Придет, Настасьюшка, муж мой обо мне справиться… Мы бакалеей в заборчике торгуем. Придет, говорю, он справиться, так уж ты допусти его, херувимка, а я тебя поблагодарю потом… Обижена от меня не будешь. Хорошо поблагодарю…
– Вы к барышне старшей акушерке обратитесь насчет всего этого… У нас сегодня ведь приема для посетителей нет, но она разрешить может… – говорит сиделка.
– Ох, ох! Передышаться надо… О-о… – слегка стонет широколицая полная родильница, но тут же начинает опять: – Калачиков свеженьких, тепленьких хотел он мне принести… муж, то есть… Калачиков… Так вот и с тобой поделюсь, ангелка. Теплые-то хорошо.
– Спасибо вам…
– А где у вас акушерка-то эта самая? Повидать бы ее…
– Сейчас придет. Вы к ней и насчет кофею обратитесь. Она должна разрешить. Если разрешит…
– Ну да, да… А заваривать-то ты будешь, Настасьюшка, так уж я тебя не обижу. Два раза, милка, я привыкла кофей-то пить. Ох! Покажи-ка мне ребеночка-то моего…
Сиделка вынимает из кроватки и подносит ей завернутого в пеленки ребенка. Родильница умильно смотрит на него и говорит:
– Седьмой ведь… Весь в отца… Раньше-то я все в деревне рожала, а вот как выписал меня муж в Питер, то уж второго у вас. Ну, Христос с ним. Положи его, херувимка… Ох, устала!
– Разговаривать-то ведь много не след.
– Ох, не могу! Как полегчает – люблю разговор рассыпать. Клади, клади его в кроватку. Обижена не будешь. И я дам, и муж поблагодарит. Ох!
Родильница делает тяжелый вздох и умолкает.
Водворяется тишина.
Минут через пять на двух кроватях, поодаль от родильницы-лавочницы, опять шушукаются блондинка и брюнетка.
– Одна вот теперь забота… И по ночам я это во сне вижу… Покоя мне это не дает. Я про паспорт… – шепчет брюнетка. – Паспорту у меня срок… А маменька отписала, что нового не вышлет. «Приезжай, – говорит, – в деревню. Будет тебе по местам-то слоняться. У нас и около дома работы много…»
– Догадывается? – подмигнула блондинка.
– Должно быть, догадывается. Да и земляки, пожалуй, сообщили, которые вернулись в деревню… Ведь видели, в каком положении была. Нашей сестре, девушка, это дело от людей скрыть невозможно. Когда я приехала сюда в Питер, паспорт-то у меня был всего на полгода… Ну, взяла отсрочку на три месяца… А теперь-то уж и совсем просрочила. Надо ехать в деревню, здесь без паспорта жить нельзя. А как я поеду к своим-то с ребенком? Беда! Чистая беда! Как бы было хорошо, если бы нашлись такие добрые люди и взяли его! Ведь есть добрые люди. Бывают.
– А отец? Может быть, отец ребенка возьмет его к себе? – говорила блондинка.
– Отец? Ищи ветра в поле! Да если и разыскать его теперь и прийти к нему с ребенком, так он меня прямо изувечит…
Брюнетка плачет.