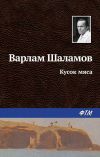Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
VII
Герасим Андреев вошел на двор, где жила дочь, с полным намерением не только пожурить ее, но даже и побить. Помимо гнева на нее, он считал это своею обязанностью, обязанностью отца. Невысоко жила его дочь, всего во втором этаже, – несколько ступенек пришлось ему подняться до ее двери, но с каждой ступенькой чувства гнева и родительской обязанности оставляли его и уступали место радости видеть дочь. Когда он стоял у дверей ее квартиры, сердце его билось и на воспаленных глазах заблистали слезы. Звониться он не решился и слегка постучался. Ответа не было. Он постучался вторично, посильнее. За дверью послышались шаги, хлопнул болт, и на пороге появилась кухарка, та самая кухарка, которая ему отворяла в первый раз, когда он был с портным.
– Ах, это вы! – сказала она и слегка отступила назад, как бы испугавшись, но тотчас же оправилась и вышла к нему на лестницу. – Ах, как жалко, боже мой! Ведь опять не потрафили: она в бане. Господи, как это жалко! Ну да вы подождите: она скоро придет. Подождите пока вот тут, на лестнице. Накрывайтесь же, ведь холодно… – прибавила она, видя, что Герасим Андреев стоит без шапки.
– Подожду, родная, подожду. Куда ж мне идти-то! – отвечал тот, надевая шапку.
– Или постойте, что ж вам на холоду-то?.. Войдите лучше в кухню; там посидите. Ничего, хозяйка спит…
– Спасибо тебе, умненькая! Ничего, и здесь постоим. Мы люди привычные.
– Войдите, что за важность! Ежели и проснется, так я скажу, что вы ко мне. Полноте, что тут-то стоять…
Герасим Андреев вошел в кухню, перекрестился перед образом и сел на табурет. Кухарка отошла к плите. По временам она оборачивалась и говорила:
– Мы ей про вас сказывали. Страсть как обрадовалась. Даже заплакала. Ругалась, зачем мы не спросили, где вы живете; сама хотела идти, да ведь куда же?..
А между тем в голове Герасима Андреева так и звенело слово «гулящая», так и ударяло в сердце. Хоть и не знал он Петербурга, но, судя по тем образцам, которые он видел у себя по деревням, по-своему понимал это слово. Припомнились ему «гулящие» – бобылка-солдатка с мужниной сестрой, жившие у них на краю села и принимавшие к себе во всякое время дня и ночи молодых парней и проезжих торговых мещан и офеней. Женщины эти ничего не делали, не сеяли, не жали, а между тем щеголяли яркими шелковыми сарафанами, расписными платками, и не сходили у них со стола самовар и полуштоф сладкой водки. Припомнились ему женщины, носящие название дальних родственниц содержателя «Разуваевского кабака», вечно нарядные, вечно выглядывающие из задней комнаты кабака. Под трезвую руку народ их звал так же «гулящими», а под пьяную – и таким словом, которое неудобно и в печати. Припомнилась ему и настоящая «гулящая», которую нарочно привезли к ним из города в деревню по требованию безобразника, продавшегося рекрута. «Но, может быть, Аннушка и не такая; может, Парфен Данилов так зря сказал?» – думалось ему, и для узнания действительности он решился обиняками заговорить с кухаркой.
– Умница, что же вы тут, стряпухой будете? – обратился он к ней.
– Да…
– Ну а дочка-то тоже в каких-нибудь должностях?
– Дочка-то?.. – замялась кухарка. – Нет, они так… На квартере живут… Платят за комнату да за еду… – прибавила она немного погодя и отвернулась к плите.
– Что ж она, шитвой? Али так какое рукомесло? – допытывался Герасим Андреев.
– Право, уж не знаю. Об этом они сами вам скажут. Мы в этом неизвестны. Просто на квартире живут. Вот их горенка.
Она пихнула ногой дверь и отворила комнату. Герасим Андреев заглянул в нее. Комната была светленькая, чистенькая. Стояла широкая кровать с подушками в кисейных наволочках, комод, туалет с безделушками, мягкая мебель в чехлах. При виде всего этого Герасим Андреев уже более не сомневался. Гнев и злоба еще с большею силою закипели в нем. «Убью, искалечу», – шептали его губы; руки и ноги дрожали, на лбу выступил пот. Он не мог сидеть и встал с места.
– Что с вами, дяденька? – спросила кухарка, увидав его в таком положении.
– Ничего, родимая… Водички бы… – произнес он дрожащим голосом.
Она бросилась с кружкой зачерпнуть в кадке воды, но в это время дверь с лестницы отворилась и в комнату вошла стройная молоденькая женщина в черной бархатной шубке и ковровом платке на голове. При виде Герасима Андреева женщина на мгновение остановилась посреди комнаты, но вдруг с криком «Тятенька! Голубчик!» бросилась к нему на шею, целовала его лицо, руки и, зарыдав, упала ему в ноги.
Гнев Герасима Андреева прошел мгновенно. Его заменила радость. Нижняя губа затряслась, на глазах показались слезы.
– Анна! Аннушка! Анка! Голубка! – шептал он, ловя ее губы; когда же она упала ему в ноги, он бросился ее подымать. – Голубушка, встань! Родимая, встань! Ну, сядем! Сядем вот тут… – твердил он, но дочь продолжала лежать на полу и рыдать.
– Не встану! Не встану, пока не простите вы меня, скверную!.. Подлую! – кричала она, обхватывая его ноги. – Ведь я последняя гулящая девка! Подлая, распутная девка!
На них смотрели, кроме кухарки, которая стояла у кадки с водой и плакала, утираясь передником, молодая женщина в юбке и папильотках, та самая, которую Герасим Андреев видел в свое первое посещение, и хозяйка, высокая и худая женщина в блузе, с подвязанной щекой и красным носом.
– Это их тятенька… – ответила кухарка хозяйке, когда та вопросительно взглянула на нее.
– Тятенька! Черт! Зачем пускаешь? – проговорила в ответ хозяйка с заметным немецким выговором. – Женя! Что за срам! Что за скандал! – закричала она на все еще лежащую на полу Аннушку. – Встань! Не кричи, дура!.. Может дворник прийти… Подумают, что тебя тут убивают! Иди в спальную!.. – Но, видя, что Аннушка не унимается, приказала кухарке поднять ее.
Аннушка поднялась, обхватила отца за шею и потащила его в свою комнату.
– Куда? Куда? Там чистый пол! – завопила хозяйка и схватила было Герасима Андреева за плечи, но Аннушка оттолкнула ее, втащила отца в свою комнату и заперла дверь на задвижку.
За дверью послышались ругательства. Ругались три голоса. Кухарка и женщина в юбке заступались за Аннушку.
Аннушка, почти насильно посадив отца на стул, села с ним рядом, положила ему на плечо голову и плакала. Он целовал ее, гладил по голове и, как мог, утешал ее.
– Уймись, голубка! Полно… Ну что тут… Бог милостив… Мать не знает… Вот место найдем… На место поступишь… – говорил он.
– Нет, нет! Ничего этого не будет!.. – отвечала она, всхлипывая. – Нашей сестре трудно поправляться, коли она на это дело пошла… Ведь я хозяйке восемьдесят рублей должна. Кто меня пустит?.. Да и кто меня теперь на место возьмет!
Она вскочила со стула, сорвала с себя шубку, стащила платок, бросила все это на пол и, зарыдав еще громче, бросилась вниз лицом на постель.
Рыдания с судорожным подергиванием плеч раздавались долго. Герасим Андреев, сам в слезах, стоял около дочери и называл ее нежными именами. Не скоро пришлось ему хоть кое-как утешить ее. Наконец она поднялась с постели, слегка улыбнулась сквозь слезы, бросилась его целовать и в кратких, но правдивых словах рассказала ему немудрую историю своего падения.
Во время рассказа отец несколько раз перебивал дочь и говорил:
– Молчи, голубушка! Не говори лучше… не растравляй своего сердца.
Но она отвечала:
– Нет, тятенька, уж лучше расскажу! Пусть вы знаете лучше, как я до этого дошла… Мне легче будет… По крайности, я облегчу душу… – и продолжала рассказ.
В рассказе ее не упоминалось ни об офицере, ни о студенте, как то бывает в рассказах о своем падении у других падших женщин. Ее история была проста. Оказалось, что, еще живши в няньках у купца, она сошлась с его приказчиком, молодым парнем, который прельстил ее ласковым обращением, песнями. Она знала, что он женат, что у него жена в деревне, но все-таки отдалась ему. «Плакала я, бывало, кляла себя, но все-таки отстать от него не могла», – говорила она. Приказчика отец и семейство вызвали в деревню. Он уехал, обещаясь через два-три месяца вернуться. Оставшись одна, она почувствовала себя беременной; пока было возможно, жила на месте и скрывала; но когда пришла пора разрешиться от бремени, она отказалась от места и переехала, по совету кухарки, на квартиру к одной женщине, которая, кроме отдачи каморок и углов, занималась и повивальным искусством. Ребенка она родила мертвого и заболела. Соседки советовали ей лечь в больницу, но она не легла, потому что боялась, «так как там все больше морят». Болела она долго. Какие были скоплены деньжонки – пропила-проела, платьишко какое было – продала, задолжала хозяйке. Места нет, работы нет… и началась жизнь голодная, холодная. Та же хозяйка подбила ее на разврат, чтобы выручить свои, затраченные на нее, деньги. Остальное известно, да и Аннушка не рассказывала более.
– И вот этаким-то манером я все путалась, путалась и совсем запуталась, – закончила она и снова заплакала.
Но эти слезы уже были не те слезы, которыми она встретила отца. Рассказ о себе действительно облегчил ей душу, и, выплакавшись, она как будто немного повеселела: стала расспрашивать отца о матери, о сестре, о родных, о знакомых.
Герасим Андреев рассказывал.
– Здорова, здорова, – говорил он о матери, – кланяется тебе, благословение прислала… Да вот, постой, и гостинцу прислала деревенского… ватрушечку своей стряпни.
Он сходил в кухню за мешком и достал оттуда завернутую в тряпку ржаную ватрушку.
– На вот… Поешь матерняного-то… позобли… Не понравится только… Отвыкла уж ты от нашего-то, от деревенского-то…
– Ах, тятенька! Господи!.. Да мне это дороже всяких конфетов, – отвечала дочь и откусила кусок ватрушки. – Тятенька, ежели этим самым поганым местом не погнушаетесь, напейтесь чайку! – проговорила она, помолчав. – Я пошлю куфарку в трактир.
– Давай, давай… Что ж, напьюсь… – к неописанной радости дочери, проговорил отец.
Она бросилась в кухню, чтобы послать кухарку за чаем, но в это самое время раздался сильный звонок. Она захлопнула дверь и снова заперла ее на задвижку.
– Женька дома? – послышался за дверьми чей-то бас.
– Дома, дома. Пожалуйте! Уж и то вчера ждала вас. Даже в «Эльдораду» не поехала… – раздался звонкий голос хозяйки.
Аннушка побледнела, как бы замерла и остановилась на месте.
– У них тятенька… – заговорила было кухарка, но хозяйка обругала ее «дурой» и «свиньей».
– Какой тут тятенька! Я сам ей тятенька! – продолжал бас и начал стучаться в двери. – Женька! Отвори, бомбошка! Это я! Ах ты, стервенок, заперлась.
– Женя, отвори! Отвори, коли приказывают! – кричала хозяйка.
– А вот мы сами отворим. Ничего, и не такие двери у нас с петель соскакивали!
Глаза у Аннушки блеснули каким-то диким огнем. Она схватилась за стул и истерически закричала:
– Вон подите! К черту! К дьяволу! Мне не нужно вас! Я не дамся вам! Не дамся!..
Герасим Андреев бросился к ней, но в это время мощное плечо наперло на дверь, винты легонькой задвижки выскочили вон, дверь отворилась, и на пороге показался полный мужчина в усах, в серой енотовой шинели и в военной фуражке.
– А! Вот она где, пташка-то! – заревел он, но, увидав Герасима Андреева, ткнул его пальцем в грудь и, оборо-тясь к хозяйке, спросил: – А что это за чучело?
– Тятенька! – взвизгнула Аннушка, прислонилась к стене и стала отгораживаться стульями.
Через минуту мощные руки военного гостя вытолкали Герасима Андреева на лестницу. Не помня себя от испугу, он сошел на двор и остановился. Из окон второго этажа доносился крик нескольких голосов. Перед ним стояла кухарка и совала ему в руки забытый им мешок. Вдруг послышался звук выбитого стекла, и осколки со звоном упали на обледенелую мостовую.
– Тятенька! Тятенька! – уже явственно доносилось до него.
Он поднял голову. У окна стояла Аннушка. Четверо рук держали ее за плечи. Она металась.
– Аннушка! – завопил отец, подняв руки кверху.
И в этом вопле слышались глубокие страдания.
– Дворник! Дворник! Вон его гони! – кричала высунувшаяся в форточку голова хозяйки.
Слышно было, как во втором этаже что-то тяжелое рухнуло на пол. Появившийся дворник выпихал Герасима Андреева за ворота.
VIII
Убитый, еле державшийся на ногах и с поникшею головою стоял Герасим Андреев на тротуаре. На его глазах блистали слезы. Он был так жалок, что даже останавливались прохожие и заглядывали ему в лицо; а какая-то купчиха в лисьем салопе полезла в карман и со словами «Прими Христа ради» протянула ему пятак. Герасим Андреев отстранил ее руку. Она в недоумении посмотрела на него и поплелась далее. К нему подошел Голяшкин.
– Долгонько же ты… Я уж думал, выйдешь ли… – заговорил он, но, взглянув ему в лицо, тотчас же спросил: – Что ты? Али живот подвело?
– Не…
– Что ж ты с лица-то?.. Краше в гроб кладут. Видел дочку-то? Ну, что ж она?
– Ничего… – И Герасим Андреев отвернулся.
– Ну, брат, вижу, что-нибудь плохо. Не стану уж я и спрашивать, потому этими опросами только сердце бередишь. Эх, дела, дела!.. Куда ни кинь – все клин! Просто нашему брату издыхать надо! – вздохнул он.
Они шли молча, куда – и сами не знали. Цели у них не было, пристанища тоже. Шли потому, что перед ними лежала дорога. Хоть и не шибко шел Голяшкин, но Герасим Андреев то и дело отставал от него. Голяшкин наконец остановился.
– Э, брат, да ты, я вижу, еле ноги волочишь. Знать, с тобой что-нибудь недоброе у дочки-то стряслось… Так нельзя… Отдохнуть надо. Давай мешок-то, да отдохнем здесь у решетки.
Они сели на фундамент решетки Мариинской больницы. Посидев немного и отдохнув, Герасим Андреев видимо приободрился и рассказал Голяшкину все, что случилось с ним. Военного гостя он назвал «дочерниным полюбовником».
– Нет, брат, не туда гнешь. Уж это не полюбовник… – заметил Голяшкин и больше ничего об этом не говорил. – Ну, куда ж теперь? – спросил он, немного погодя.
– Да куда же? Мы бездомные. На постоялый бы надо…
Но Голяшкин сказал, что на постоялый двор им идти не расчет, так как завтра чуть свет им нужно идти искать работы на Бирже, на Васильевском острове, а постоялые дворы отстоят от острова очень далеко.
– Пойдем лучше в Апраксин переулок. Там у меня одна женщина знакомая ночлеги держит. За трешник и переночуем. Оно все к Бирже-то ближе… – решил он.
Но на ночлег идти было еще рано – их и не пустили бы, вследствие чего Голяшкин повел Герасима Андреева погреться в Казанский собор, к вечерне.
Пообогревшись в соборе, поевши в закусочной и прошляясь с час по улицам, они пришли, наконец, на ночлег в Апраксин переулок. Ночлежный дом содержала какая-то Мавра Никитишна. Муж ее был сторожем в Апраксином рынке; сама же она торговала у входа в том же рынке вареным картофелем, печенками, жареными пышками. От других содержателей и содержательниц ночлежных домов она отличалась тем, что незнакомых пускала к себе на ночь не иначе, как по предъявлении паспортов.
– Эк вас спозаранку-то принесло! Еще и куры-то не все на нашести сели, а вы на ночлег! – встретила она Голяшкина и Герасима Андреева.
– Да ведь куда же денешься-то? И то уж по городу-то болты били-били, инда ноги оттопали! Сегодня не рабочие… – отвечал Голяшкин.
– Что так? Али после вчерашнего похмелялись?
– Похмелялись!.. Было бы на что! Работы нет. Сунься-ка сама! Скоро ли сыщешь?
– Без денег не пущу, наперед говорю.
– На, на… Протри глаза-то!..
Два трехкопеечника звякнули на стол.
– А пашпорта?
Они показали и были наконец впущены в небольшую комнату с нарами в два ряда. В комнате, за исключением стола, на котором помещался ночник, и двух табуреток, мебели не было никакой. В углу висел облинялый образ какого-то святого, от которого, впрочем, остались одни ноги, да на окне стояло ведро с водой с плавающим в нем красным деревянным ковшом. В комнате рядом жила сама хозяйка с мужем. Оттуда доносились стук чайных чашек и чьи-то вздохи и всхлебыванье с блюдечка. Сквозь небольшое отверстие запертой двери, сделанное хозяевами для наблюдения за ночлежниками, можно было видеть, как довольно толстый мужчина в ситцевой рубахе сидел у окна и пил чай. Это был хозяйкин муж. Отпив чай, он надел полушубок и отправился в рынок, в ночной караул. Прощаясь с женой, он сказал:
– Незнакомых-то по обличью не очень пускай, а то вон прошлый раз задвижку от дверей украли; да самое лучшее, как наберутся все, так припри дверь-то колом.
– Ну вот! Господи! Не впервой! Что это, только мнение наводишь… – отвечала жена.
Голяшкин и Герасим Андреев сидели на нарах. Хотя они были и очень уставши, но спать им еще не хотелось. Они начали разуваться.
– Полушубок-то не снимай, как будешь спать ложиться, да и мешок-то положишь под голову, так привяжи веревочкой к руке, – наставлял Голяшкин Герасима Андреева. – Сюда, брат, народу всякого найдет. Недогляди-ка только – и шабаш. Завтра на Биржу пойдем наниматься, так мешок-то хозяйке оставим. Не бойся, не пропадет. Она баба хорошая.
Потолковав еще немного, он начал зевать, перекрестился, полез вглубь нар и, прикурнувши в углу, захрапел. Герасим Андреев также последовал его примеру, но ему не спалось. Он думал о дочери, о случае, бывшем с ним у нее на квартире. Он уже не злился на нее больше, не досадовал, но жалел в глубине своего любящего отцовского сердца.
«Пропала девка, совсем пропала», – решил он, но, невзирая на все неприятности, которые он получил у нее, все-таки положил навестить ее в следующее воскресенье.
Спустя часа два после прихода Голяшкина и Герасима Андреева в двери то и дело был слышен стук – и комната начала наполняться ночлежниками. Приходящие крестились на образ, разувались и заползали на нары, споря о местах у стенки. Велись разговоры, считались медные деньги, слышались глубокие вздохи с бранью на «жизнь проклятую», ругалась какая-то зазнавшаяся «Машка стерва», не пустившая ночевать; в углу кто-то творил молитву, кто-то что-то ел, чавкая губами. За стеной кто-то просился переночевать в долг и предлагал в заклад рукавицы.
– Нет, нет, не нужно мне твоих рукавиц. Ступай, откуда пришел! Здесь не закладчики живут! – слышался голос хозяйки.
Приходила какая-то баба с плачущим ребенком и просилась переночевать, но хозяйка и ее не впустила, говоря, что у нее правило: женщин не пускать, а кольми паче с ребятами.
– Реветь всю ночь будет, всех перебудит, да еще заспишь его, чего доброго, или мужчины впросонках пришибут, – добавила она. – Отвечай тогда за вас.
– Зачем заспать, родимая?.. Господи боже мой! Страсти какия! Пусти, родимая… Вот три копеечки…
– С Богом! С Богом! Проходи!
– Батюшки родные! Да куда же я теперь ночью-то с ребенком денусь? – заплакала баба, но хозяйка выпроводила ее на лестницу и захлопнула дверь.
Вскоре разговор и ругань мало-помалу прекратились и заменились сопением и храпом; а Герасим Андреев еще долго не мог уснуть, долго ворочался с боку на бок и прислушивался к храпу, зубному скрежету и стону таких же, как и он, бездомовых ночлежников. Наутро их разбудил стук. В дверь стучала хозяйка.
– Эй, дрыхли! Вставайте! Пять часов! – кричала она.
Ночлежники начали подыматься. Началось обуванье, позевыванье. Кто-то спросил у хозяйки воды, чтобы умыться. Она не давала.
– За три копейки тебе да еще и воды подай! Нет, брат, жирно будет. С нас самих за воду-то полтину серебра берут. Сходишь и на речку поплескаться.
Из разговоров ночлежников было слышно, что почти все идут наниматься работать на Биржу. Составилась компания идти в трактир пить чай вскладчину. К ней примкнули Голяшкин с Герасимом Андреевым.
– Ну что, как нынче на Бирже-то? – спрашивал Голяшкин за чаем новых товарищей.
– Да что? Плохо. По тридцати пяти вчера работали, только наняться-то больно трудно. В драку надо… Потому – человек сто народу привалит, а требуется всего пятьдесят, а то и того меньше…
– Хоть бы снежку побольше Бог дал, так мусорщикам бы народ потребовался, снег сгребать… – сказал кто-то.
– Да, прогневался Господь. Вчера тучка нашла, и разогнало ветром.
– На железных дорогах, говорят, хорошо работать?..
– Какое хорошо! Был я прошлый год на вихлянской… Люди мрут как мухи. Так, как снопы, и валятся… Да там все больше артелью… Один ничего не поделаешь.
– Да, это точно… – заметил Голяшкин. – Везде артелью работают. Один без земляков придешь, так так с тем и уйдешь. На что здесь, в Питере, и то артель нужно. Вон землекопы-белорусы – все артелью.
Компания вышла из трактира и отправилась на Биржу. На улице было еще серо. Только еще начинало светать. Они шли по Невскому. У Казанского собора, около памятника Кутузову, стояли поденщики-носильщики и ждали найма. Это были большею частью отставные солдаты. Около них торчал саечник с лотком. Некоторые закусывали, а один солдат от нечего делать сбирался брить другого. Он плевал на кусок мыла и натирал им подбородок и щеки товарища.
– Вот и здесь артель. Сунься-ка кто с воли! Стань-ка с ними рядом! Ни в жизнь не подпустят. Так шею накостыляют, что беда! – сказал Голяшкин, кивая на носильщиков.
– Да… солдаты в поденщине нам много напакостили. Совсем цену сбили! – прибавил тощий и длинный парень в ситцевой женской кацавейке, опоясанной веревкой. – Солдат сыт, обут, одет – его казна кормит, так ему и двугривенный в день взять сходно, а наш брат все купи да еще подати подай на больницу… Самое лучшее теперь – торговать. Эх, кабы пять-шесть рублишек – сейчас бы жестянку и спичками в разноску!.. Полтину, шесть гривен всегда в день достанешь…
Разговаривая таким образом, они пришли к Бирже. У кабака, около университета, против биржевого гостиного двора толпилось уже народу человек до ста. Все это стояло, ходило и сидело на ограде университета. Смесь одежд была удивительная. Здесь было все, начиная от рваного полушубка до чиновничьего, вытертого до последней степени вицмундира, от сермяги до пиджака, от лаптей до женских, бывших прежде франтовских, а теперь стоптанных ботинок, кое-как напяленных на большую мужскую ногу, от пуховой шляпы и солдатской кепи до грязной онучи, которой, за неимением другого головного убора, была обвязана голова. Владетели этих костюмов говорили мало, сидели, стояли и ходили, понуря головы, и казались как бы приговоренными к смерти. Все ждали найма, тридцатикопеечного заработка, а с ним вместе и куска хлеба. На изнуренных лицах нигде не видно было и тени улыбки. Взоры всех были устремлены на гостиный двор, откуда должен был показаться наемщик в виде артельного старосты или артельщика – амбарного какого-нибудь купца.
Но вот артельщик появился. Он медленно шел от гостиного двора, переваливаясь с ноги на ногу, покачивал головой в котиковом картузе и важно запахивал шубу. Толпа зашевелилась, сидящие повскакали с мест.
– Десять человек требуется. Ящики кантовать. На берегу… – сказал он, остановясь перед толпой, и подбоченился. – Тридцать пять копеек… – объявил он цену.
Толпа окружила его.
– За что ж сегодня по тридцати пяти? Вчера сорок цена была, – заговорили голоса, но кто-то уж кричал:
– Бери, бери! Вот нас пятеро. Пойдем!
– Как же так возможно? Жеребий кидать нужно! Что они за святые? – слышны были крики.
– Жеребий! Жеребий! – отдавалось в задних рядах, и толпа, толкая друг друга, расточая пинки, подзатыльники, напирала на артельщика.
– Стойте! Стойте! Не лезьте. Какой тут жеребий! Сам выберу!.. – кричал он, упираясь в груди напиравших на него, и стал отсчитывать десять человек, выбирая более рослых и сильных.
Выбрав, он повел их к гостиному двору. Оставшиеся посылали им вслед ругательства.
Ни Голяшкин, ни Герасим Андреев и никто из пришедшей с ними партии не попали в наем. Приходили и другие артельщики, так же отбирали по десяти и по пятнадцати человек, но и здесь им не посчастливилось. Часам к двенадцати толпа с ругательствами и вздохами начала редеть и расходиться. Оставались очень немногие. У уходивших и у оставшихся на лицах было заметно еще более уныния. У некоторых дело касалось вопроса, придется ли сегодня есть или не придется, будет ли возможность провести ночь под каким-нибудь кровом или придется ночевать на улице. Длинный и тощий малый, тот самый, который доказывал у Казанского собора, что солдаты сбили цену на поденщину, отвел Голяшкина и Герасима Андреева в сторону и сказал:
– Плохо, братцы, дело… Теперь пора не летняя, наем теперь здесь вряд ли будет. Потому кому нужно было поденщины – набрались. Пойдемте-ка на Лиговку. Не наймемся ли на конно-железную дорогу, снег с рельсов сметать. Вон и снежку Бог дает.
Предложение было принято. Они отправились на Лиговку, пришли на двор конно-железной дороги к двум часам, и так как снег, на их счастье, усиливался, то были наняты за сорок копеек сметать снег до десяти часов вечера. Заработку этому они очень обрадовались. Герасим Андреев зашел даже в часовню Знаменской церкви и поставил образу свечку. Вечером же, когда пришли на двор за расчетом и спросили, нужно ли им приходить завтра, – им отказали, потому что снег перестал падать и небо прояснилось. Наутро было решено опять идти на Биржу, потому что больше идти было некуда. День закончился опять-таки ночлегом у тетки Мавры.
Опять Биржа, опять толпа голодных и холодных, опять артельщик, выбирающий работников порослее и помощнее. Все было так же, как и вчера; так же, как и вчера, Герасим Андреев и Голяшкин остались до двенадцати часов без работы. Крепко затужили они, повесили головы и хотели уже уходить, но явился наемщик.
– Десять человек нужно! – сказал он, и так как полдня рабочего уже прошло, то объявил плату двадцать копеек.
– Эх, милый человек, ну зачем же цену сбавлять? Ведь поставишь же хозяину в счет до сорока копеек. Побойся Бога! К чему обижать!.. – заговорила толпа и не двигалась.
Артельщик начал уже колебаться и, видимо, хотел надбавить плату, но от толпы отделились двое и подбежали к артельщику.
– Бери нас! Согласны за двугривенный! Веди, куда следует! – крикнули они.
Кой-где послышались было ругательства, но мало-помалу вся толпа бросилась к артельщику и согласилась работать по двугривенному. Поденщиков было всего человек двадцать, а нужно было десять, и потому решили кинуть жребий. В чью-то шапку посыпались зазубренные гроши и копейки, и жребий был вынут. Голяшкин и Герасим Андреев попали в число счастливых. Артельщик повел их во двор Гостиного двора. В числе оставшихся был один из первых согласившихся работать за двугривенный.
На него посыпались ругательства, толчки, удары.
– И ништо тебе, подлая душа! Остался же, собачий сын! Ништо! Не сбивай цену… – слышались возгласы.
– Братцы, из нужды!.. Ей-ей, со вчерашнего утра не ел! – вопил он, обороняясь от толчков и ударов, вырвался из толпы, обогнал артельщика, ведшего партию поденщиков, и, остановясь перед ним, заговорил: – Милый ты человек! Господин хозяин! Сделай божескую милость, возьми ты меня хоть из гривенника, Христа ради. Ей-ей, со вчерашнего утра крошки во рту не было!..
Артельщик остановился, поглядел ему в лицо и сказал:
– Что ж, уж коли брать, так брать как всех, из двугривенного. Господь с тобой! Примыкай… Пойдем…
Просящийся примкнул к партии. Из оставшихся кто-то подбежал к нему и хватил его по шее.
Голяшкин и Герасим Андреев работали на Бирже до четырех часов, то есть до сумерек. Им пришлось возить на тележке с берега Невы в пакгаузы и кладовые бочки и ящики. Хоть и меньше по числу часов работали они сегодня, чем вчера, но устали до изнеможения.
В пятом часу артельщики построили поденщиков в шеренги и стали оделять деньгами. Получив плату, толпа повалила за ворота. За воротами их ждали уже саечники и булочники с лотками, бабы с корчагами вареного картофеля и с пирогами, и началось утоление голода, такого голода, какого ты не только не чувствовал, сытый читатель, но и про который, может быть, и не слыхал.