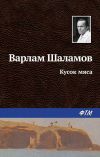Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
V
После хорошо освещенных Невского проспекта и Садовой улицы Апраксин переулок показался Герасиму Андрееву какой-то мрачной пещерой. Сердце его еще болезненнее сжалось, и мысль о «гулящей дочери», которая всякому встречному на шею вешается, не давала ему покою. Не такою чаял он ее встретить. Тщедушный, еле передвигавший ноги, с понуренной головой и в рубище, он был жалок. Портной видел это, жалел и перебирал в голове все средства, чтобы утешить его, но средства эти не могли утешить и ребенка.
– Слышь, Герасим Андреич, может, у тебя денег нету? Возьми у меня полтину. После отдашь, – сказал он.
– Не надо, есть… – отвечал тот.
Немного погодя портной хлопнул его по плечу и проговорил:
– Ишь, у тебя полушубок-то изорвался! Чай, поди, сквозит? Погоди, ужо я тебе его справлю. Заново будет…
Герасим Андреев молчал.
– И валенки справим… В лаптях-то ведь трудно… Да и потеплее те… – продолжал портной. – Надо вот кой у кого поспросить. Тут где-то на Лиговке, на постоялом у приезжих ребят дешево покупают…
Но Герасим Андреев и на это ничего не ответил.
– Э, полно, не тужи! Брось! Обойдется – все малина будет! – как можно ласковее старался говорить портной и взял его за плечи. – Эка важность, что девка погуляла! Остепенится. Да, может, я и вру, может быть, и ошибся. И святые ошибались. Плюнь, дядя! Что тут… Утро вечера мудренее. Вот затра кимряка увидим, с ним потолкуем. Тот ходок. Сейчас на место предоставит.
Но от всех этих утешений Герасиму Андрееву ни на волос не было легче.
– Спасибо, милый человек, спасибо, Парфен Данилыч; только веришь, как больно! Так вот под сердцем и крутит, так вот и ноет… – сказал он, немного приостановясь, но вдруг ударил себя в грудь, махнул рукой и снова зашагал вперед, не обращая внимания ни на натыкавшихся на него пьяных мастеровых, все еще «справлявших Престол», ни на визг кабацких дверных блоков, ни на крики «караул», вылетавшие из уст какого-то пьяного халатника, валявшегося по земле, которого подымала какая-то баба и тащила домой.
– Стой! Стой! Куда бежишь, словно ошпаренный! – крикнул портной, стараясь впадать в веселый тон. – Зайдем винца выпьем… – И он указал на закоптелые двери кабака.
– Нет, Бог с ним!
– Полно! Колдыбнем! Что тут! – старался как-то залихватски выкрикнуть портной и запел, притопнув ногой:
С горя выпил мальчик шкальчик,
Горе отелетело;
Повторил – заговорил,
И повеселело!
Но ни залихватского выкрика, ни веселой песни не вышло. Он схватил Герасима Андреева за плечи, пихнул его в кабак и вошел за ним сам.
В кабаке было многолюдно и шумно. Тут были гости-завсегдатаи и «гости с воли». Одни «Престол справляли», другие пили за компанию, третьи так себе пропивали скудные копейки, оставшиеся за уплатой за квартиру и в лавочку от недельного заработка.
Целовальник с окладистой бородой и в розовой ситцевой рубахе, увидя входящего портного, начал улыбаться и заговорил:
– Парфен Данилыч! Сто лет не видались! Каким ветром занесло?
– Как сто лет? Вчера был.
– Вчера был! А ты вспомни, сколько воды-то со вчерашнего утекло. Чем просить-то?
– Разлей косушечку на два стаканчика; да вот жилетку, что вчера заложил, выкупить надо… – сказал портной и выкинул на стойку рубль.
– На двоих-то косушку? Полно срамиться! Окрестись лучиной! Портной-штучник, и вдруг косушку! Вспомни, день-то ноне какой.
– Какой?
– Как какой? Воскресный! – балясничал целовальник. – Благословись полуштофом. На косушку у меня и рука не подымается.
Портной замялся.
– Выпьем, что ли, полуштоф-то? – обратился он к Герасиму Андрееву.
– Да как не выпить! Господи помилуй! – перебил целовальник, откупорил крючком полуштоф и налил два стакана. – Я те еще закусочкой удружу, – продолжал целовальник. – Накося… Рви на двоих.
Он полез под стойку и вытащил оттуда кильку, держа ее за голову.
– Вот за это спасибо. Солененьким хорошо…
– Ну-ка? – обратился портной к Герасиму Андрееву и взялся за стакан.
– Да и в душу что-то нейдет… – проговорил Герасим Андреев, берясь, в свою очередь, за стакан.
– Эх, любезный человек, – вставил слово целовальник, – а слышал ты поговорку: «Первая – колом, вторая – соколом, а третья – как по маслу»? Соси знай!
Земляки выпили, взяли со стойки полуштоф, отошли к подоконнику и сели. Они молчали и глядели на пьющий народ. В углу происходила следующая сцена. Какая-то одутая личность в рубище и с разбитым и обвязанным тряпками лицом глотала за три копейки для потехи мастерового-безобразника пробки. Проглотив с десяток и получив три копейки, личность приложилась под козырек и со словами: «Зашиб на ночлег три копейки», выбежала из кабака, преследуемая дружным хохотом зрителей.
– Вот оно и смотри, до чего бедность-то доводит! За три копейки! Господи! – проговорил портной, чокнулся с Герасимом Андреевым, выпил и начал: – Эх, милый человек! Эх, дядюшка Герасим! Ты вот дочку винишь, что она загуляла, а и загуляла-то она, может, с бедности. Может, кусать было нечего; живот подвело; ноги приходилось протягивать. Отказали, может, от места да еще обсчитали, как вон ту кухарку, что давеча на лестнице видели. Денег нету. Куда деться? Девушка смазливенькая… Появилась сводня: тары да бары… Ты, ангел, Питера не знаешь, а они, стервы, только этого и ищут. Ну и сманила. Всякому жить хочется. Брюхо-то – не свой брат. Голодное-то брюхо в тюрьму ведет, в Сибирь по Владимирке. Вот куда… Так-то оно! Не вини!..
Герасим Андреев слушал и молчал. Он хотя и не знал Питера, но понимал, что портной говорит чистейшую правду. По его заскорузлой щеке текла слеза. Он отер ее кулаком, взял с подоконника налитый стакан и выпил.
Полуштоф был кончен.
Ежели человек пьет с горя, то, чтобы забыть это горе, ему непременно нужно напиться до беспамятства, в противном же случае вино только усиливает это горе, представляет его в более громадных размерах. Такое же действие производит оно и на радость, и на гнев. Так было и с Герасимом Андреевым. По мере выпивания водки, горе по поводу поведения дочери и гнев на нее усилились. Забитый, робкий и смирный от природы, после последнего стакана он поглядел на портного сверкающими глазами, ударил по подоконнику кулаком и крикнул:
– А все-таки, как ты там ни говори, а я ей, паскуде, все бока обломаю! С места не сойти, ежели не изувечу! Косы вырву!..
Голос его вдруг осел. Он тяжело дышал, дрожал и отирал со лба пот. Портной начал его утешать. Опять слышалось: «на место предоставим…», «кимряк…», «Бог даст…» и пр., но Герасим Андреев уже не слушал его более, он вынул из кармана медные деньги, бросил их на стойку и спросил еще косушку. Портному и самому было горько. Видя, что слова его не помогают, он мысленно еще раз обругал себя и спросил вторую косушку.
И началось пьянство, но пьянство не радостное, не с песнями, не с пляской, не с музыкой, но с воплями, со слезами, с битьем себя в грудь, с ругательствами и проклятиями. Припомнились все нужды, все скорби, все боли сердечные – одним словом, припомнилась обыденная, вечно стонущая жизнь бедного человека.
В таком положении застал кимряк в кабаке Герасима Андреева и портного.
В кабак вошел кимряк. Он был с гармонией под мышкой и, как водится, выпивши и с прибаутками.
– Честной компании мир да совет! Прохору Иванычу! Девяносто дней с хвостиком не видались! – начал он и протянул целовальнику руку. – Пришел осмотреть, все ли в моем участке благополучно обстоит. Пьют ли ребята да не угостят ли меня – свое начальство, отставной козы барабанщика. Эва! Дядя Парфен здесь, да еще с земляком… Сизо! Намухоморились! – мигнул он целовальнику, щелкая себя по галстуку. – Други любезные, который это полуштоф лакаете? – обратился он к землякам.
– Эх, кимряк! Полно шутки шутить… Горе есть, – отвечал коснеющим языком портной. – Садись да давай совет.
– Совет можно. Только за совет, ежели денег нет, так стакан водки давай! – проговорил он и сел около, на бочку.
Портной и Герасим Андреев потребовали еще полуштоф и вкратце, насколько им позволяли коснеющие языки, передали, в чем дело. Целовальник также стоял около и слушал… Когда рассказ был окончен, он погладил себе бороду и заговорил:
– А по мне вот что: ежели она еще не совсем забаловалась, так вспори ты ее, спусти с нее шкур семь да на место и предоставь…
– Эх, дядя Прохор, – обратился кимряк к целовальнику, – бороду до пупа отрастил, а что городишь! Нужно прежде знать, какой такой у ней пашпорт есть: ежели прежний, так туда-сюда, а ежели уж на желтый обменила, так кто ее возьмет? На место! Да ежели бы и взяли, так повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить… А я тебе, земляк, вот что скажу, – обратился он к Герасиму Андрееву, – полно нюнить, словно дура бессережная! Завей горе в веревочку и ступай завтра к дочке, понакинься на нее, да и закажи, чтоб она тебе каждый месяц по десяти рублев с своих любовников предоставляла. Небось предоставит! А коли денежкам глаза протереть нужно – ко мне приходи, научу. Я вот тут в доме живу. Мальчишку-несмышленка про кимряка спроси – и тот укажет.
– Эх, милый человек, эх, милый человек, – раз пять повторил Герасим Андреев, обнимая кимряка. – Да ведь деньги-то эти колом в глотке!..
– Не бойся, брат, колом не встанут. Так пройдут, что и не заметишь!
Минут через пять портной и Герасим Андреев были окончательно пьяны. Они то плакали и обнимались, то били кулаком по стойке, кричали и сбирались «спустить семь шкур», для чего-то идти в участок и даже к обер-полицейместеру. Третий полуштоф был пуст. Кимряк заметил это, встал с бочки, заломил рваный картузишко на ухо и направился к другому столу, наигрывая на гармонике и подпевая:
В Александровском как парке
Подралися три кухарки,
Подралися в кровь…
– Эхма! – закончил он. – Кто хочет, чтоб песне конец был, – ставь осьмушку…
– Валяй, ставлю! – откликнулся какой-то мастеровой.
Кимряк продолжал.
Через полчаса целовальник выпроводил гостей, вытолкал портного и Герасима Андреева за двери и запер кабак. Хотя кабак был в том же доме, где жил портной, но они еще с четверть часа проблуждали по улице, отыскивая свой подвал, и наконец кое-как, с помощью дворника, попали домой.
Жена портного уже ложилась спать. Увидав мужа и гостя, еле стоящих на ногах и плачущих, она так и всплеснула руками.
– Ну, так и знала! Насосались. Срамники вы эдакие! О чем ревете-то? Ведь это вино в вас, пьяницах, плачет. Ложитесь спать. Робят перебудите…
– Глаша, Глаша… андел, не сердись… с горя… ведь я тоже отец… У него, вон, дочь загуляла… По пришпекту пошла…
– Голубушка, не обессудь! С горя! Дочка обидела! – завыл Герасим Андреев и повалился хозяйке в ноги.
– Эх, бесстыдник! Старый ты человек! Ложись под верстак… Спи! Ну, гость! Эдакого гостя за хвост да палкой, чтоб хозяина не спаивал!
Послушный и робкий Герасим Андреев как был, не раздеваясь, полез под верстак и через пять минут уже спал крепким, но тяжким сном пьяного человека, а портной еще несколько времени сидел на стуле, бил себя в грудь и коснеющим языком рассказывал жене, что завтра идет с жалобой к обер-полицейместеру, к генералу Суворову и еще к каким-то генералам. Но жена ничему этому не верила: она знала, что муж всякий раз, когда напивался пьян, сочинял на себя небывалые вещи. Она не верила даже и рассказу о «загулявшей» дочери Герасима Андреева. И в самом деле, портной, когда бывал пьян, не дрался, не буянил, но плакал навзрыд и рассказывал различные скорбные небылицы про себя и своих знакомых. Так однажды, придя домой сильно пьяный, он бросился жене в ноги и со слезами объявил ей, что он, по бедности, «продался в поляки». Бедная женщина поверила, всю ночь не могла сомкнуть глаз и проплакала. Когда же поутру попросила мужа, чтобы тот пообстоятельнее рассказал ей, в чем дело, – муж ничего не помнил.
Наплакавшись и наговорившись вволю, утомившийся портной повалился на верстак и захрапел. Жена стащила с него сибирку и начала шарить по карманам… Вынула скомканную жилетку и покачала головой, вынула два рубля с медными и мелочью и перекрестилась…
– Слава богу, хоть еще не все пропил-то! – прошептали ее губы.
Она осторожно убрала жилетку и деньги в сундук, помолилась Богу, осторожно загасила свечку и легла спать.
VI
На другой день, поутру, Герасим Андреев почувствовал, что его кто-то дергает за рукав и толкает в бок. Он открыл глаза: перед ним на коленях стояла жена портного.
– Вставай! Что заспался-то! Нечего тут дрыхнуть! – сказала она.
Позевывая и почесываясь, Герасим Андреев вылез из-под верстака. Хозяйка отошла к топившейся печке и исподлобья смотрела на него. У печки грелись дети. Один сидел на скамейке, другой, грудной, на столе. Оба ели хлеб. На столе лежали три корня свеклы и картофель, нарезанный ломотками. Жена портного уже стряпала обед. Старшая девочка, Машутка, окутанная в платок, сидела на верстаке, у окна, и вязала чулок.
– Испить бы водички, хозяйка, да помыться. Смерть томит… – хриплым голосом и покашливая пробормотал Герасим Андреев.
– И ништо тебе, коли томит! Ты бы еще больше пил да людей спаивал, – проговорила хозяйка. – На вон, пополоскайся!.. – И она кивнула в угол, где на табуретке стояло ведро с водой и над ушатом висел глиняный умывальник в виде чайника с двумя горлышками.
После вчерашнего пьянства Герасима Андреева томила жажда. Он выпил целый ковш воды, умылся и, отыскав в углу образ, начал молиться. Хозяйка следила за ним глазами. Он кончил, обернулся к ней лицом и, поклонясь в пояс, проговорил:
– Здравствуйте.
– Нечего тут здороваться-то, а бери свой мешок да иди… с Богом! – сказала она и повернулась в сторону, стараясь не глядеть на Герасима Андреева.
Герасим Андреев не понял вполне, в чем дело, стоял и не двигался.
– Что стоишь-то? Собирай пожитки да ступай подобру-поздорову. Ведь вчера сказывал, что на дровяном дворе место нашел.
– Пойду, голубушка, пойду, родимая… – пробормотал Герасим Андреев, переминаясь с ноги на ногу. – Только бы с хозяином проститься да поблагодарить его за хлеб, за соль.
– Нечего тут благодарить! Хозяин спит, и будить я тебе его не позволю. Это опять чтоб пьянствовать, чтоб похмеляться? Нечего его спаивать. Иди! Вот тебе Бог! Вот тебе двери! Без тебя он человеком был, две недели капли в рот не брал. Старый ты человек, ты бы хоть детей-то пожалел! Ведь он все пропьет, и тогда им жрать будет нечего!
Герасим Андреев молчал. Прошло с минуту, а он все еще не двигался с места.
– Что ж, гость, ведь тебе говорят – иди! Погостил, да и будет! Иди же, говорят, – повторила хозяйка, вытащила из-под верстака мешок и шапку, подала ему их и слегка пихнула его за плечи.
– Ну, прощенья просим! За хлеб, за соль! Кланяйся сожителю! – как-то бесстрастно проговорил Герасим Андреев и, помолившись образу, направился к двери.
Вязавшая чулок Машутка, засмеявшись, фыркнула. Мать по дороге дала ей подзатыльник и отправилась запирать за Герасимом Андреевым дверь.
Ей стало жалко его. Она не ненавидела его, а выпроваживала вон только потому, чтобы по возможности сохранить домашнее спокойствие. Она думала, что Герасим Андреев подстрекнул вчера напиться ее мужа и если останется у них, то под каким-нибудь предлогом поведет и сегодня мужа в кабак.
– Приходить – приходи опять, только как-нибудь после! – крикнула она Герасиму Андрееву вслед, но тот ничего не ответил и не обернулся.
Когда Герасим Андреев очутился на улице, звонили уже к поздней обедне. Пройдя несколько шагов, он остановился на тротуаре и стал соображать, куда ему идти – к дочери или на дровяной двор на работу. При мысли о дочери злоба, досада и гнев опять начали душить его. Уставя глаза в землю, он машинально то теребил свою бороду, то передвигал шапку со лба на затылок и мысленно твердил: «Искалечу, косы вырву». Он не обращал внимания даже на толчки проходящих, и только какой-то шутник-извозчик, стегнув его кнутом и крикнув: «Эй, ворона!», вывел его из задумчивости. И тут ему представилось, что на сегодня у него нет даже и ночлега и что ежели он не пойдет на дровяной двор, то при незнании, где находятся постоялые дворы, он принужден будет ночевать на улице. «Нет, надо идти на работу», – решил он и почти побежал по направлению к Фонтанке.
На дровяном дворе, куда пришел Герасим Андреев, человек восемь народу пилили и складывали дрова. Приказчик, в лисьей шубе и котиковом картузе, сидел на скамейке, у дверей избы. Перед ним стоял без шапки болезненный худой высокий мужик в изорванном полушубке и кланялся. Приказчик поглаживал бороду и говорил:
– Нам, брат, такого народу, который ежели поклепы взводит, не надо… Потому у нас на чести.
– Помилуй, Никита Гаврилыч, ведь и мы на чести. Нешто я говорю, что стряпуха зажильничала? Не насчет жильничества, Боже избави!.. А только все ребята видели, как я ей эту самую рубаху постирать отдал. А теперь она отпирается, говорит, что не брала… – бормотал мужик.
– А коли стряпуха не брала, значит, и не брала. Что проедаешься-то? Ступай! Ведь расчет за пять ден получил?..
– Получить-то получил, только, Никита Гаврилыч, заставь Богу молить, оставь ты меня у себя работать. Ну куда я денусь?..
– Нет, брат, проваливай, нам шильников не надо! Ты, может, еще потом скажешь, что у тебя здесь тысячу ру-блев выудили. Проваливай же, а то велю по шеям спровадить! – возвысил голос приказчик, привстав со скамейки и важно запахнув свою лисью шубу.
– Зачем спроваживать? Сам пойду. Ну, Бог тебе судья! – сказал мужик, махнул рукой и поплелся за ворота.
Герасим Андреев подошел к приказчику.
– К твоей чести, хозяин. Работать пришел, – проговорил он.
– Вижу, что пришел. Только бы уж ты к самому обеду потрафил, чтоб задарма брюхо набить. Нет, брат, нам такого народу не надо. У меня, вон, с шести часов работают.
Приказчику не нужно было никакого народу. С него было довольно и тех работников, которые у него были, и он был рад случаю отделаться от Герасима Андреева. Правда, он дал вчера слово, что возьмет его, как земляка кимряка, но наутро одумался. Ему даже и своих работников было много, по этой причине он и отказал высокому мужику, придравшись к тому, что тот спорил со стряпухой о рубахе, которую та затеряла в стирке.
Герасим Андреев стоял перед ним, сняв шапку и теребя ее.
– Зачем задарма брюхо набивать, мы поработаем… – проговорил он.
– Да, поработаешь, полдня прогулявши… Ты к харчам-то здесь приценялся ли? Каковы цены-то? – отвечал приказчик. – Нет, не лафа! – добавил он и, встав с места, хотел идти в избу.
– Так уж допусти хоть ночевать-то прийти, потому мы безночлежные; а с завтрашнего дня работать начнем, – заговорил ему вслед Герасим Андреев.
– У нас не постоялый двор.
– Да что ж тебе стоит ночку-то одну?.. Не просплю место-то!
– А то, что и народу мне больше не нужно, отдумал уж я нанимать, – заключил приказчик и ушел в избу, захлопнув дверь.
Герасим Андреев минут пять постоял около двери, подождал его, потом надел шапку и поплелся за ворота.
На улице, на набережной, около решетки стоял высокий худой мужик и глядел на замерзшую Фонтанку. На тонком льду, чуть-чуть покрытом снегом, валялись стоптанный башмак и кирпич, неизвестно для чего кинутые, и бродили голуби. Герасим Андреев подошел к мужику и стал с ним рядом. Мужик оборотился лицом к Герасиму Андрееву, посмотрел на него и проговорил:
– Что, брат, тоже не выгорело?
– Не взял. Бог его ведает. А ведь еще вчера рядил.
– Куда ж теперь?
– Да мы бездомные. Два дня только что из деревни.
– Плохо дело. И мне, брат, некуда. Потому, хоть я и здешний, а по-теперешнему – где ночь… И вот эдаким-то манером два месяца маюсь.
Герасим Андреев покачал головой. Начались обоюдные расспросы. Герасим Андреев рассказал свою историю, не утаил и предположение земляка-портного о загулявшей дочери, на что новый знакомый ответил, что «уж это завсегда так, ежели смазливенькая девчонка одна, потому Питер – город-забалуй; чуть свихнешься – и шабаш», и, в свою очередь, рассказал свою историю. Оказалось, что он петербургский мещанин, лето прожил в дворниках где-то на даче, с осени без места, так как дачные хозяева, по бедности, зимою дворника не держат; потом занимался поденною работою; работал на бирже, ломал барки около дровяных дворов, очищал мусор около вновь строящихся домов, а теперь такой же бездомный, не знающий, где приклонить голову, как и Герасим Андреев. Относительно родства было сказано, что «один как перст», и при этом прибавлено: «И то слава Богу»; относительно же имени – что зовут его Аристархом Флегонтовым.
– Имя-то больно мудреное. А коли знаком будешь, так зови попросту: Голяшкин. Так меня завсегда звали… – закончил он и замолчал.
Они прошлись несколько шагов по набережной, остановились перед рыбным садком и начали смотреть, как вертлявый рыбак-приказчик продавал жирному мужчине, должно быть повару, аршинную стерлядь. Красивая рыба плескалась в бадье. Повар заходил то с той, то с другой стороны, измерял ее пальцами, стараясь узнать, сколько в ней вершков.
– Семнадцать вершков. Берите без сумления! – звонко кричал приказчик, размахивая руками и то снимая, то надевая шапку. – По теперешнему времени, ей-богу, одна в Петербурге. Извольте обойти все садки – не найдете.
Повар высморкался в желтый фуляровый платок и, должно быть, спросил о цене, потому что приказчик опять во все горло крикнул:
– Тридцать пять серебра! – и при этом счел за нужное вынуть из бадьи рыбу и показать ее нос.
Повар махнул рукой и стал уходить.
– Послушайте, господин управляющий! Тридцать рублей!.. Двадцать девять! – во все горло кричал ему вслед приказчик, стараясь не потерять покупателя. Наконец приказчик и покупатель сошлись на двадцати семи рублях. Рыбу торжественно потащили в лавку садка.
– Двадцать семь серебра! Эки деньги, эки деньги! – вздыхая, говорил Голяшкин.
Герасим Андреев ничего не ответил. Ему и в голову не приходило, что за одну рыбу можно платить такие деньги.
Началось снова молчаливо-созерцательное состояние и продолжалось более четверти часа. Наконец Голяшкин, как бы очнувшись ото сна, взглянул на Герасима Андреева и проговорил:
– Ну, теперь куда же? Ведь так все стоять нельзя.
– К дочке пойду. Дочку повидать надо… – отвечал тот.
– А покусать не хочешь? Не томит брюхо-то? Вот зайдем в закусошную, дадим малость поработать зубаревым детям, а там я тебя, пожалуй, и провожу, потому мне все равно, куда ни идти.
Ближайшая закусочная была в Апраксином переулке. Предварительно купив в лавочке по два фунта хлеба, они отправились. Закусочная помещалась в подвальном этаже. На дверных вывесках были изображены: с одной стороны – темно-бурый треугольник, долженствовавший изображать собою окорок ветчины, и, судя по догадкам, сковорода с жареным картофелем, а с другой – рыба с выпученными глазами, в брюхо которой была воткнута вилка. Над дверями была надпись: «Сесная лавка». Голяшкин и Герасим Андреев спустились в подвал. Их обдало запахом вареного рубца, пригорелого масла и прелых щей. В лавке было темно: она освещалась дверными стеклами да маленьким окошечком, мимо которого то и дело мелькали ноги и подолы проходящих и мешали проникать свету. Время было обеденное, а потому в съестной лавке народу было много. Тут были носильщики с веревками у пояса с привешенными на них кожаными подушечками для подкладывания под голову во время переноски тяжестей, была нищая баба с грудным ребенком, запрятанным за пазуху рваного тулупа, и с пятилетней девочкой; был отставной капитан – «благородный неимущий человек» – в фуражке с кокардой и с указом об отставке в кармане; мастеровой в халате с прорванным задом; известная петербургская «салопница», франт, промотавшийся до последних клетчатых брюк и серой пуховой шляпы, которые одни скудно напоминали о прежнем величии своего господина. Одним словом, тут была бедность непокрытая, бедность голодная. Все это толпилось с чашками в руках, стараясь прислониться к столу, к подоконнику, к стене; все это чавкало, хлебало, запихивало в рот куски студня и куски мяса, такого мяса, которое и самими хозяевами съестных заведений не иначе называется, как «жилами».
Голяшкин и Герасим Андреев подошли к стойке. За стойкой стояли: хозяин, бородатый мужик в полосатой фуфайке поверх рубахи, и его подручный, мальчишка лет пятнадцати. Они то и дело подымали какие-то одеяла, которыми были прикрыты корчаги, и плескали в чашки мутную жидкость, носящую название щей. На стойке, среди корчаг, лежали рубцы, печенки и окорок ветчины.
– Плесни-ка щец в две чашечки, – сказал Голяшкин.
– По три или по пяти? – спросил хозяин, хватая чашку и уполовник.
– Плесни на три да на копейку прибавь каждому по жилке…
– Деньги! – скомандовал он и с быстротою фокусника налил две чашки и бросил туда по кусочку «зарезу».
Герасим Андреев и Голяшкин бросили на стойку по четыре копейки и взялись за чашки. С трудом отыскав на лавке местечко, они поели. Голод был удовлетворен.
– Что ж – студню на пятак спросим, что ли? – спросил Голяшкин.
– Сразу-то оно хуже. Ужо опять захочется, так уж лучше ужо студнем-то и поужинаем, – отвечал Герасим Андреев. – Да мне и к дочке пора.
– Ну так пойдем, я тебя провожу.
Улица и дом были найдены без особенного труда. Голяшкин был питерский и знал город хорошо. У ворот они расстались. Герасим Андреев пошел во двор, а Голяшкин остался его дожидаться. Решено было – ежели Герасим Андреев долго останется у дочери и будет можно позвать туда Голяшкина, то Герасим Андреев позовет его.