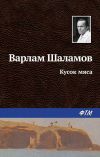Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
После двух часов дня явился из городского училища Васютка, сын Марьи, торговец счастьем на мостах. Это был тщедушный, захудалый мальчик лет двенадцати, белокурый, малокровный, с красными золотушными слезящимися глазами. Одет он был плохо, в потертое пальто с короткими рукавами и рваную шапку с большой головы.
– Мамка, я есть хочу… – проговорил он, даже не поздоровавшись с матерью.
– Дурак, да отчего ж ты не купил себе чего-нибудь в лавочке? Ведь я оставила тебе вчера от продажи твоего счастья гривенник. Да, поди, ты сам еще сколько-нибудь утаил, – равнодушно отвечала Марья, катая на скалке на столе ручным вальком грубое белье и производя в квартире грохот. – Что ж я тебе, дураку, теперь дам? У меня ничего нет. Да и денег нет. Куда же ты девал гривенник? Ведь подзакусить в школе тебе дают. Я выпросила тебе дармовые завтраки у учительницы.
– Мамка, похлебать бы чего…
Мальчик сделал просительную гримасу и утер красной от холода рукой мокрый, тоже красный нос.
– Похлебать… Вишь ты какой! Я сама сегодня не хлебала. Возьми вон, там на подоконнике горбушка полубелого осталась.
– Горяченького бы чего-нибудь, мамка… – сказал Васютка, схватив горбушку.
– Горяченького… Погоди, вот дяденька Михайло проснется, так чай пить будем.
– Да я не сплю… – откликнулся с койки Михайло, потягиваясь. – Где тут спать, коли ты вальком возишь! Мертвого разбудить можно.
– Ну, вот погрызешь хлебца, так и беги в трактир за кипятком для чаю, – сказала сыну Марья. – Копейку я дам. Но куда ты вчерашний гривенник свой девал? – допытывалась она.
Мальчик молчал и жевал хлеб.
Поднялся Михайло и сел на койку.
– Куда ты гривенник девал, постреленок? Отвечай, коли мать тебя спрашивает! – строго и заспанным голосом повторил он вопрос, обращенный к Васютке.
Васютка огрызнулся.
– А тебе какое дело! Что ты за указчик? – сказал он.
– А! Ты еще грубить? А хочешь тряску? Хочешь, я выволочку с поволочкой тебе задам?
– Не смеешь!
– Я не смею? А вот я тебе покажу, поросенку!..
Михайло поднялся с койки, выпрямился во весь рост и двинулся на Васютку.
– Ай, дерется! Михайло дерется! – завизжал Васютка и перебежал в другой конец комнаты.
– Оставь! – остановила его Марья, протянув валек.
– Чего оставь? Как ты смеешь мне препятствовать! – закричал Михайло и вышиб из рук Марьи валек.
– Мой сын, а не твой.
– Так зачем же он грубит? Сейчас допытай его, куда он гривенник девал, а нет, я тебе и второй глаз подправлю. Ну? Что тебе этот кулак приказывает?
Михайло поднес к носу Марьи кулак. Та суетилась.
– Только ссоры да дрязги из-за тебя, чертенка… – слезливо обратилась она к Васютке. – Куда ты, дьяволенок, девал гривенник? У тебя и от третьего дня должен оставаться еще пятиалтынный. На пряниках и на леденцах проел? Сказывай, куда дел?
Васютка плакал.
– Куда… Я двугривенный на звезду спрятал, – слезливо говорил он.
– На какую звезду, дьяволенок? – допытывался Михайло.
– Тебе не буду говорить. Скажу только мамке. Что ты мне? Ни кум, ни брат, ни сват. Только деньги от нас отбираешь, – пробормотал сердито и сквозь слезы Васютка и перебежал еще в более дальний угол от Михайло.
– Какова анафема треклятая! – заорал Михайло. – Нет, уж как ты хочешь, а я его оттаскаю.
Он ринулся к Васютке. Тот завизжал еще громче и полез под кровать. Михайло нагнулся и стал тащить его за ногу. Марья подскочила к Михайло.
– Побей лучше меня, а его не трогай. Лучше меня, – говорила она, держа Михайло за руку.
– На вот, волчья снедь, коли напрашиваешься! Получай! – крикнул Михайло и так пихнул кулаком Марью в подбородок, что та навзничь опрокинулась на койку.
– Убил! Убил, мерзавец! Ни за что убил!
Из другой комнаты выскочили жильцы и жилицы. Бородатый портной, в оловянных очках с ремешком на голове и с нитками на ухе, в жилетке и опорках на босую ногу, говорил, стоя в удивлении:
– И что это у вас за манера, что даже трезвые деретесь. Ну, пьяные, так оно понятно, а то трезвые…
– Только из-за этого она и должна Бога благодарить, что я трезвый. А будь пьяный, я ее изувечил бы, халду несчастную! – угрожающе произносил Михайло и показывал Марье кулак.
– Да вот из-за мальчонки… – слезливо объясняла Марья жильцам и поправляла растрепанные волосы. —
Он, Михайло, отца разыгрывает, а мальчонка не хочет покориться.
– И не покорюсь. Какой он мне отец! Он леший, домовой, черт, даже хуже! – отвечал Васютка, продолжая плакать.
– Поговори еще у меня, так я тебе под хмельную руку вшивицу-то всю выщиплю! – грозил Васютке Михайло и, обратясь к Марье, сказал: – А все-таки ты должна допытаться, куда щенок гривенник девал. А то – попомни…
Марья покорилась и стала задавать сыну вопросы:
– Куда ты гривенник дел, глупый мальчик?
– Говорю, что на звезду припрятал, – отвечал Васютка.
– На какую звезду?
– А вот, чтоб на Рождество христославить.
– Христославить?
– Да… С нашими мальчиками из училища… Со звездой… Звезда такая бумажная, из цветной и золотой бумаги… Надо склеить… Бумаги купить. Наши мальчики покажут… Они говорят, что хорошо можно собрать… По три копейки и по пятакам дают…
– Стало быть, деньги собирать будешь? – спросил Михайло, и хмурое, строгое лицо его прояснилось.
– А то как же… Само собой… – отвечал Васютка. – Тут больше, чем на мосту счастьем собрать можно. Деньги дают… Гостинцы дают.
– Ну, насчет гостинцев-то ты оставь. Это только себе в брюхо. А ты матери помогать должен, – наставительно заметил Михайло.
– Матери! Да ведь ты отнимешь у матери-то, – вырвалось у Васютки.
– Ох-ох! – погрозил ему Михайло. – А то ведь я и сызнова начну. Ну, посылай его в трактир заваривать чай. Вот копейка… – обратился он к Марье и выкинул на стол медную монету.
VБыл декабрь. Стемнело рано. Угловые жильцы Анны Кружалкиной стали препираться между собой, кому лампу зажигать. От хозяйки освещение полагалось только в кухне, где она сама жила, да в коридоре, разделявшем три комнаты с жильцами, горела маленькая жестяная лампочка. В комнатах угловые жильцы освещались своим огнем, когда кому понадобится, но сегодня в комнате, где жили Марья и Михайло, никто не зажигал огня, отговариваясь неимением денег на керосин. Поденщик-метельщик с конно-железной дороги Аввакум Иванов, как пришел домой с работы, так и завалился спать на койку. Лежала на своей кровати и безместная кухарка Афанасьевна с закрытыми глазами и сопя носом. Сегодня она была сыта до отвалу. Она ходила в гости к знакомой кухарке, живущей на хорошем месте, поела там до отвалу, напилась кофе до полного переполнения желудка и вернулась домой с краюхой пирога с рисом. Слесарь Анисимов с утра был пьян и опохмелялся, под вечер сходил в баню выпаривать хмель и теперь лежал в изнеможении.
Пришлось зажигать лампу Марье. Пользуясь теперь некоторым кредитом в лавочке вследствие произведенной уплаты старого долга дровами, она сходила в лавку за керосином и бумагой для прошения о сапогах на Васютку, зажгла маленькую жестяную лампочку, и Михайло принялся писать ей прошение. Михайло сердился и выговаривал безместной кухарке:
– Ладно, Афанасьевна… Ты это попомни… Не хочешь по-товарищецки жить с соседями, и мы тебя тоже припечем насчет лампы… Сегодня уж, как ни считай, твоя очередь зажигать огонь, а ты упрямишься. Мы три дня подряд вас освещаем лампой.
– Ну, на что мне лампа, коли я сегодня вся раскисла? Сам посуди, – откликнулась старуха Афанасьевна.
– А на что нам была вчера лампа, но мы жгли же, – сказала ей Марья. – А ты подсела и иглой что-то ковыряла. И хоть не было бы у тебя денег, а то сама же хвасталась, что с последнего места восемнадцать рублей прикопила.
– Ну да… Восемнадцать прикопила, а полтора месяца на покое без места живу. Много ли осталось-то? Разочти.
– Чего рассчитывать! Тебе харч ничего не стоит. Ты каждый день по знакомым кухаркам ешь.
– Толкуй! Чужие-то куски в чужом брюхе легко считать!
При писании прошения опять позвали на совет Матрену Охлябину как великую искусницу получать от благодетелей и благотворительных обществ разные блага земные. Матрене это несколько польстило, и она скромно отвечала:
– Да что я вам посоветую, коли я женщина безграмотная. Ведь вот оттого-то и надо, чтобы эти прошения настоящий писарь писал. Уж тот – человек понимающий и отлично знает, что и как и где какое жалостное слово надо припустить.
На это Марья отвечала:
– Зачем же писарю деньги платить, коли у меня есть свой собственный грамотный.
– А затем, чтобы в точку настоящую попасть, чтоб жалостнее выходило. Твой хоть и грамотный человек, а этой точки не знает, а тот знает чудесно, – стояла на своем Охлябиха.
– Настрочим как-нибудь, – подмигнул Михайло. – А пятиалтынный, что писарю дать, на вино останется. Тебя же угостим.
Охлябиха удовлетворилась последним предложением и повествовала так:
– У меня пишут всегда таким манером: будучи обременена многочисленным семейством и имея на руках четырех малолетних детей, не имея родных и не получая ниоткуда помощи… Вот как у меня всегда пишется. Но ведь у тебя какое же многочисленное семейство? Всего только один сынишка Васька.
– Ну, это ты брось. Ведь и у тебя теперь только двое ребят на руках. А двое в приютах, – заметила ей Марья.
– Правильно. Но ведь они хоть и в приюте, а все-таки мои. И при проверке – мои дети, а не выдуманные.
– Ну ладно. Мы напишем так: «Страдая ревматизмом рук и ног, и так как я из-за этого не могу работать, а имею малолетнего сына, то и припадаю к стопам…» – сказал Михайло и принялся строчить.
– Постой… – остановила его Охлябиха. – Зачем работать? Пиши жалостнее: «Снискивать себе пропитание трудами рук своих».
– Молодец баба! «Снискивать себе пропитание трудами рук своих», – похвалил ее Михайло.
Охлябиха продолжала:
– Вот если бы ты была замужняя, то самое лучшее дело написать, что муж, мол, пьяница. Как муж пьяница – сейчас помощь. Это любят.
– Какая лафа-то! – подмигнул Михайло. – Да после этого каждому мужу нужно быть пьяницей.
– Да, да… Как только муж пьяница – сейчас всякие благости со всех сторон и посыпятся. И чем горше пьяница, тем лучше.
– Каждому отцу, даже и не пьющему, стало быть, запивать следует, – пробормотал с кровати хриплым голосом слесарь и засмеялся.
– Смейся, смейся, а на деле-то оно всегда так выходит, потому жалость… Я уж опытная, по соседкам видела, что это так… – сказала опять Охлябиха. – Как муж пьяница, так все и есть детям. Самое первое это дело. Ну и вдова хорошо, если много детей… – прибавила она.
– Я Марью вдовой написал, – сообщил Михайло, строча прошение. – От вдовы, крестьянки Марии Потаповой.
– Конечно же, от вдовы пиши, – подхватила Охлябиха. – Так лучше. А кто тут разберет? Никто. Ведь она сапоги просит сынишке. Вот ежели бы определить в приют или в ученье, так там сейчас метрическое свидетельство потребуется. Из метрического свидетельства сейчас и видно, что не вдова мать, а тут ведь на сапоги никакого свидетельства. Марья Потапова просит сапоги для сына…
– Я Марья Потаповна Кренделькова, – заявила Марья. – Прибавь.
– Фу ты, какая фамилия-то вкусная, а я и не знал! – воскликнул Михайло. – Да неужто Кренделькова? – спросил он.
– Кренделькова. Где ж тебе знать-то? Паспорта моего ты в руках не держал. Да вот что, Михайло, коли начал писать про сапоги, то пиши и про пальто. Мальчик, мол, разут и раздет.
– Нельзя в одно общество про пальто и сапоги, – остановила Охлябиха. – Может не выйти. А вы пишите про пальто в другое общество, второе прошение. Ведь два общества есть для пособия.
– Два? Это ловко. У тебя, Матрена Ивановна, и второго общества есть адрес и писулечка, как писать? – спросил Михайло.
– А то как же. У Матрены, да чтобы не было! Таковская Матрена! Я, милый человек, перед большими праздниками в двадцать мест прошения подаю. Я запасливая. Ну, из пяти-шести мест ничего не выйдет, а из остальных-то все что-нибудь да очистится. По малости иногда, конечно, а ведь курочка по зернышку клюет да сыта бывает. Так и я. Там рублик, тут рублик, а оно и наберется. Я обо всем прошу, на всякие манеры. Сапоги так сапоги, пальто так пальто, наводнение придет – на наводнение, пожар по соседству – на пожар. Так, мол, и так, хотя в доме нашем и ничего не погорело – мы выносились и раскрали у нас наше добро. Теперь есть такое общество, что можно даже просить, чтобы выкупили твои заложенные вещи. И выкупают. Заложена у меня моя кофточка и Дашкины сапоги – вот на будущей неделе, перед праздниками, буду просить, чтобы вещи выкупили.
Михайло кончил писание прошения и отер перо о голову.
– Думаю, что ладно будет, госпожа Кренделькова, – сказал он. – Написал я, что ты болезненная вдова, страдаешь ревматизмом рук и ног и грудной болезнью.
– Да ведь у меня и в самом деле ломота в руке и ноге. Из-за чего же я по стиркам-то редко хожу? Прямо из-за этого, – отвечала Марья, взяла написанное прошение и стала его сушить на лампе.
VIО написанном для Марьи Михайлой прошении сейчас же разнеслось по всей квартире. Жилицы из других двух комнат тоже сбирались подавать в разные общества предпраздничные прошения и ждали только писаря, который на днях обещался зайти в квартиру. Но писарь когда еще придет, а тут вот под боком был свой грамотей – и вот жилицы из других двух комнат одна за другой стали приходить к Михайло с просьбой о написании прошений в местное попечительство о предпраздничном вспомоществовании, надеясь, что Михайло напишет им по-соседски, только из-за угощения, которое они ему преподнесут сообща. Это были две старухи лет под семьдесят, ожидающие вакансии в богадельне, живущие на подачки разных благодетелей, одинокие и когда-то служившие прислугой. Кроме них пришла молодая женщина, вдова какого-то фабричного, мать двоих детей, работающая поденно где случится, но часто не могущая отлучиться на работу из-за больных детей, – женщина действительно очень нуждающаяся не по своей вине.
Михайло, уже сознав свой авторитет, принял их довольно гордо.
– Угощение угощением, это уж само собой, но за что же я вам даром-то писать буду, если вы сами будете деньги по прошениям получать? – сказал он.
– Верно, правильно, но денег-то, видишь ли ты, у нас теперь не завалило, – отвечала одна из старух, Акинфиевна, высокая, худая, костлявая, с клочком седых волос, торчащим из-под черного платка. – Ты уж по-соседски…
– Стало быть, и на угощение у вас сейчас нет? – спросил Михайло.
– Откуда, милый?.. Но мы тебе соберем к воскресенью и преподнесем. Сороковочку считай за нами, – заговорила вторая старуха, Калиновна, приземистая, с редкими седыми волосами, которыми поросла у ней верхняя губа, и даже торчащими, как щетина, из подбородка.
Михайло задумался.
– Стало быть, ждать? Невкусно, – произнес он. – А у меня явился такой аппетит, чтоб сейчас выпить.
– Да полно тебе. Пиши, – заметила ему Марья. – Пиши в запас. По крайности в воскресенье, в праздничный день, с вином будешь.
– А когда же это я в воскресенье бывал без вина? – куражился Михайло. – Кажись, этого и не случалось. Ну да ладно. В воскресенье так в воскресенье, а только даром, матери, я вам писать не стану. С какой стати? Надо и на закуску. Вы писарю по гривеннику за прошение платите?
– По гривеннику он берет, если два-три прошения кто пишет, а одно – так пятиалтынный подай, – добродушно и откровенно объяснила молодая женщина.
– Ну вот видишь. А мне уж дайте хоть по пятачку за прошение. Вот нам с Марьей и закуска, – сказал Михайло.
– Да это что! По пятачку дадим, по пятачку дать можно, а только сейчас-то у нас денег нет – вот беда какая, – проговорила Калиновна. – Откуда взять-то? – продолжала она. – С паперти нынче гонят, на кладбище ходить и заупокойное собирать – стара я нынче стала, ноги совсем не ходят. Уж по благодетелям пройтись и то подчас еле-еле могу. Мы тебе, Михайлушка, не знаю, как тебя по батюшке, по пятачку дадим за каждое прошение, когда из попечительства получим.
– Это, стало быть, до Рождества ждать? Невкусно.
– Да ведь уж теперь скоро Рождество-то. А что насчет обмана – никакого… Насчет обмана ты будь спокоен. Дня за три до Рождества получим и сейчас тебе.
Михайло все еще куражился, чувствуя свое превосходство.
– Постойте… – проговорил он. – Но ведь писарь-то, настоящий писарь, в долг вам не стал бы писать. Ведь ему сейчас и деньги на бочку…
– Писарь… Для писаря, понятное дело, я сейчас бы платок или подушку заложила, – сказала костлявая старуха Акинфиевна. – А ты сосед, ты по-соседски…
– Сосед! – ухмылялся Михайло. – Сегодня здесь я на Петербургской стороне существую, а завтра на Васильевский остров перекочевал, так какой же я сосед? Я птица перелетная.
Марью взорвало.
– Да чего ты ломаешься-то? – воскликнула она. – Тебе же лучше, если деньги к празднику, чтобы великий день хорошенько встретить. Пиши. Ведь они не надуют.
– Да как тут писать, коли у них, может статься, и на бумагу-то для прошений денег нет! У них нет, да и у меня не завалило.
– На бумагу-то найдется. Что ж тут? Две копейки лист в лавочке, – заговорила одна из старух.
– На бумагу хватит, – прибавила другая старуха.
– Две копейки на бумагу я могу дать, – сказала, в свою очередь, молодая женщина. – Даже на два листа дам. Мне два прошеньица надо. Ох, и не подавала бы я этих прошений, ни за что не подавала бы, да дети-то уж очень одолели! – тяжело вздохнула она и отерла кончиком головного платка глаза. – Ведь вот сегодня из-за младшенького-то на поломойство не пошла. Звали полы и двери к полковнице одной помыть. Хворает мальчик-то, сегодня горит весь. К докторше его носила. Дала она снадобьица какого-то. Беда с ребятами. Кабы одна, и горюшка мало. На место бы пошла… Одна голова не бедна… А вот сегодня из-за ребенка полтины нет. И никогда я, пока муж жив был, ни у кого не просила. А вот теперь пришлось.
Женщина заплакала.
– Не хнычь… – остановила ее Марья. – Помогут… Перед праздником хорошо помогут. Пиши только побольше прошеньев…
– Милая, да ведь и до праздников тоже пить-есть надо. Махонькому-то молочка, булку… Ну, старшенький-то хлеб ест, а младшенькому-то и кашки сварить надо. А откуда взять? Я и так вся перезаложилась. Все, все теперь хорошее перезаложено, что при муже накопила.
– Подавай прошение в общество для закладов – выкупят, – сказала безместная кухарка Афанасьевна. – Кое-что выкупят. Я у Каталихи в восьмом номере в углу жила, так там женщина одна насчет теплого пальто прошение подавала – ей выкупили.
– Да, надо подать, хоть и грех, может статься. Смотри, какая я обдерганная хожу. Все заложено, – плакалась молодая женщина.
– А ты грех-то в орех… – в утешение сказала ей Марья и засмеялась. – Не от бедных просишь, а от богатых. А богатые на то и есть, чтобы бедным помогать. Обязаны.
Михайло слушал и перебил:
– Ну так что же… Чем зря бобы разводить, беги в лавочку за бумагой. Так уж и быть, напишу я вам прошения. Только, чур, по пятачку и в воскресенье мне на угощение сложиться.
– Как сказано, миленький, как сказано. Мы не отопремся, – проговорила Калиновна. – Аграфенушка, сбегай в лавочку, у тебя ноги-то молодые… Сбегай и купи бумаги. Сейчас я дам деньги, – обратилась она к молодой женщине. – А я за твоим ребенком присмотрю.
Аграфена засуетилась, чтобы бежать в лавочку, но ей загородила дорогу поднявшаяся с койки безместная кухарка Афанасьевна.
– На вот… Отдай детишкам… Пусть поедят, – сказала она и передала краюшку пирога.
Аграфена рассыпалась в благодарностях.
VIIДня через три на дворе дома, где снимала квартиру для своих жильцов Анна Кружалкина, опять навезли три воза городских дров для раздачи бедным и распределили их по полусаженно между подававшими прошения о дровах. Анна Кружалкина, подававшая также прошение, опять не получила дров, а две угловые жилицы из соседней квартиры оказались с дровами. Это взорвало Кружалкину, и она подняла на дворе целый скандал, ругаясь с возчиками, хотя те были ни в чем не виноваты. Разумеется, возчики не остались в долгу и отругивались в свою очередь.
– Угловые жилицы! Ведьмы! Чертовки! Ну на что угловым жилицам дрова? – кричала она на дворе. – Живут на готовом тепле и дрова получают! Ведь все это опять в ненасытное брюхо нашего рыжебородого лавочника провалится. Ему продадут. С какой стати тебе, выдре, дрова, если твой угол хозяйка Спиридоновна обязана отапливать? – обратилась она к тощей женщине Акулине, кутавшейся в серый платок и стоявшей около своей кучки дров, выброшенной на двор.
– А с такой стати, что у меня трое ребятишек мал мала меньше, – отвечала женщина в шапке.
– Так ты на ребятишек своих деньгами проси. А то дрова! Да и какие у тебя трое детей! У тебя девчонка уж в ученье к белошвейке сдана.
– Да ведь сдана она у меня на моей одеже, а двое-то все-таки при мне.
– Ну так ты про одежу и расписывай в прошениях, волчья снедь ты эдакая.
– Не ругайся, а нет – ведь я и сама горазда отругиваться. Вишь, мурло-то наела с жильцов!
– Наешь с вас, голопятых, коли по двугривенному выбирать приходится за углы. Хуже папертных.
По отъезде со двора возниц сейчас же на дворе собралась компания квартирных хозяек и стала обсуждать, как могла получить дрова угловая жилица Акулина, если и ее квартирная хозяйка Спиридоновна получила свою порцию дров по прошению, а на одну квартиру больше как в одни руки не дают.
– Без справок. Справиться забыли. А Акулина просила на троих детей, – говорила Спиридоновна, хотя в душе была очень рада, что Акулине удалось получить дров, ибо та сейчас же свою полусаженку перепродала ей за рубль с двугривенным, сделав таким манером уплату за полкомнаты, которую занимала.
– Но ведь у того, милая, кто раздает дрова, тоже списки есть. Если в доме номер семнадцать в квартиру под номером восьмым выдана полусаженка, то уж на этот номер больше и не дают, – возражала другая квартирная хозяйка, старуха Езопкина. – Просто счастье какое-то этой Акулине! Собачье счастье! Осенью в публикацию в газетах попала – и чего-чего ей барыни не нанесли.
Акулина была тут же.
– Не счастье, а ум, – пояснила она и тронула себя пальцем по лбу. – Не пропила я ума своего – вот что. Ум… Дом-то ведь наш угловой, на две улицы, с одной улицы под номером двадцать первым, а с другой под номером семнадцатым. Поняли? Спиридоновна подавала прошение о дровах на квартиру номер восьмой из дома номер двадцать первый с одной улицы, а я на квартиру номер восьмой из дома номер семнадцатый с другой улицы. А благодетели-то проверки не сделали и ничего этого не сообразили. Поняли? – Акулина призналась, улыбнулась и подбоченилась, самодовольно посматривая на хозяек. – Вот вы и знайте Акулину! – прибавила она.
– Ах ты, дохлая! – вырвалось у хозяек. – Бабенку плевком перешибить, а она, смотрите, как ухитрилась! Ловко, Акулина, ловко! Уж хоть и надо тебя ругать, а за хитрость простить тебя следует.
Шедшая из мелочной лавки с куском ситного хлеба угловая жилица-папиросница, известная на дворе под именем Соньки-модницы, услыхав этот рассказ, сейчас же проговорила:
– Что ж, и я такое же прошение подам.
– Сколько хочешь подавай. Тебе все равно ничего не выйдет, – отвечала ей Акулина.
– Отчего?
– Оттого, что ты бездетная. Я на троих детей подавала.
– А кто же мне мешает написать, что у меня их четверо? Так и напишем.
– А приедут смотреть? Станут расспрашивать соседей, дворника?
– В деревне, мол, их содержу, в деревню им на пропитание высылаю – вот и вся недолга!
– Так тебе, кудластой, и поверили! – слышались возражения.
– Ну, не поверят, так и не надо, – сказала Сонька-папиросница. – А отчего же не попытаться? Попытка – не пытка, спрос – не беда. Да ведь уж приедут и начнут по углам шарить и расспрашивать, так многим из вас ничего не очистится, – прибавила она.
В это время на дворе показалась рослая старая барыня, закутанная вся в серых мехах шеншеля. Ее сопровождал ливрейный лакей. Впереди шел дворник Никита, невзирая на мороз, с картузом в руке. Барыня спрашивала дворника:
– Не высоко это?
– Никак нет-с, ваше сиятельство. Во втором этаже.
– Охлябина. Она пишет, что вдова… Что она из себя представляет? Какая она вдова? Кто был муж? – допытывалась барыня.
Дворник приостановился и затем, идя рядом с барыней, отвечал:
– С одной стороны, действительно вдова, вдова настоящая… а с другой стороны, если взять, к примеру… У нас, ваше сиятельство, народ живет тесно, мужиков хоть отбавляй… Живут все в одной комнате… Публика тоже… Народ фабричный…
– Но все-таки она женщина хорошая, трудолюбивая?
– Хорошая женщина… Это что говорить!
– Не пьющая?
– Вина не обожает. Это уж надо прямо сказать. Тут без фальши… Зачем говорить?.. Ей по-настоящему, по ее смыслу не в углу жить, а в хозяйках существовать, самой квартиру держать, но квартирным-то хозяйкам денежной милостью не помогают, потому что хозяйка, а у ней дети…
– Стало быть, все-таки женщина трезвая. Это очень приятно… Мы ей помогали, я ее помню. Фамилия такая, что запоминается… И в списках у нас… Охлябина…
– Это правильно-с… Из-за ейной трезвости очень многие… Да и ловка она насчет этого… Вино клянет. Прямо клянет… А только вот сам-то у нее…
– Ах, у нее, стало быть, есть друг милый? – удивилась барыня, не поняв, к чему клонилась речь дворника.
– Существует-с. Недавно объявился. Об этом я вам и докладываю, – отвечал дворник. – Да вот ейная хозяйка… Вы от нее все узнаете, – указал он на Кружалкину. – Пожалуйте… Она вас проводит к Охлябиной. Охлябину спрашивают, Анна Сергевна, проводи…
– Охлябину? – засуетилась Кружалкина. – Пожалуйте, сударыня, пожалуйте. Женщина кроткая и очень с детьми мучается. Вот здесь, по этой лестнице, у меня на квартире. Я сама сирая вдова, и хотя детей у меня нет, но тоже бьюсь в бедности. Тише, ваше превосходительство… Тут порожек.
Явившийся лакей поддержал барыню под локоть.
Кружалкина повела барыню по лестнице во второй этаж.