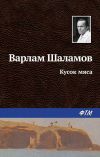Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Ученица начального училища
IДесятилетняя Маня Иванова только что вернулась из городского начального училища домой, где окончилось ученье. Было два часа дня. Когда она вошла в квартиру, мать ее убиралась в кухне, мыла стол с песком, а на кровати за ситцевым пологом ревел грудной ребенок. Мать бросила мочалку, взглянула на дочь и грозно воскликнула:
– Ты что ж это без щепок? Я же ведь русским языком сказала тебе, дуре, чтоб ты после школы заходила по дороге на постройку за щепками!
Маня виновато взглянула на мать, протянула перед ней руки с ситцевым мешком и проговорила:
– Да ведь при мне книги, маменька, и грифельная доска.
– Что такое книги! Велики ли твои книги! Мешок-то ведь на шнурке. Его могла бы и на шею надеть, а охапку щепок все-таки с собой захватить. Иди, иди на постройку. Вот тебе корзинка и захвати щепок.
– Мне, мамка, есть хочется. Дай мне поесть чего-нибудь.
– Вздор! Пустяки! Потом поешь. Ведь завтракала в школе. Учительница кормила тебя. Ты ведь получаешь там завтрак. Иди, иди за щепками. А то потом стемнеет, работы на постройке кончатся, и двор запрут. Иди. День-то теперь короче куриного носа.
Маня переминалась и слезливо моргала глазами. Она устала, ей хотелось есть.
– Дай мне, мама, хоть картошку… Одну картошку… Я по дороге…
– Нет у меня картошки. За обедом все съели. Сегодня Петр Митрофаныч тверезый, пришел с фабрики обедать, принес селедку и много картошки ел. Да что ж ты топчешься-то! Иди, говорят тебе, а то ведь я и веником…
– Тогда хоть хлебца кусочек, мама.
– Ну, вот тебе хлеб, и проваливай! Да живо у меня. Пока свет, за щепками можно два раза сходить.
Мать сунула Мане ломоть хлеба. Девочка спрятала его за пазуху, взяла корзинку и отправилась за щепками, отщипывая от ломтя кусочки и суя их в рот.
Через час Маня вернулась с корзинкой щепок, вся раскрасневшаяся и чуть не плача.
– Не дают щепок-то. Ругаются… – сказала она. – Там бабы какие-то… Гонят… Дерутся… «Ты, – говорит, – не с нашего двора, так нечего тебе сюда и шляться!» Я, мама, больше не пойду.
– Как «не пойду»? Ступай… Это еще что за выдумки! Чем же я топить-то буду? Дров не на что купить. Петр Митрофаныч в воскресенье почти всю получку пропил. Ступай без разговоров.
– Я боюсь, мама… Бабы дерутся. Грозятся убить.
– Ну вот, вздор какой! Как же они смеют? На это городовой есть. Ты на них городовому…
– Боюсь… Грозятся… И то три раза по затылку…
Девочка заплакала.
– Ну чего ты ревешь-то, дура! И Митька за занавеской ревет, и ты ревешь, так что же это будет! Голова кругом… Иди за щепками, и делу конец. Эка важность, что по затылку! За всяким тычком не угонишься. Ну, полно… Не реви. Иди еще раз и будь умницей.
Мать погладила Маню по голове и выпроводила ее еще раз из дома.
Прошел еще час. Начинало темнеть. Девочка явилась снова с корзиной щепок.
– Ну вот… Не убили же… Кто смеет девочек убивать! Щепки хозяйские, – встретила ее утешительными словами мать.
– Опять два раза по затылку и раз по спине. Больно тоже ведь, – отвечала Маня.
– Однако ведь не убили же… А за каждым тычком гнаться не следует. Я маленькая была, так меня тоже колотили. И мать колотила, и жильцы. А как в ученье-то тузили, когда я у белошвейки жила! Муж ейный, бывало, ремнем от штанов. И только разве печка по мне не ходила!
– Дай, мама, мне теперь поесть, – проговорила девочка. – Дай хоть холодного похлебать.
– Чего я тебе дам, коли от обеда ничего не осталось. Вон хлеб на столе. Ешь.
Девочка взяла ломоть хлеба, круто насолила его солью и принялась есть. Мать посмотрела, как Маня ела с жадностью, и сказала:
– Смотрю я на тебя, Манька, и дивлюсь, как это в тебя столько еды входит! Все-то ты жрешь. В школу шла, ломоть хлеба съела, в школе тебя учительница кормила, за щепками ты пошла, ломоть за пазуху сунула и теперь опять жрешь.
– Да ведь хочется, маменька… Сами же вы всегда говорите, кто водки не пьет, тот больше ест, – отвечала Маня.
– Водки! Это я про взрослых говорю, про мужиков, а не про детей. А тебя за водку-то пороть следует.
– За что ж пороть-то? Я и не пью.
– Еще бы пила! Ах ты, гнида! Пороть надо за то, чтоб и не упоминала о проклятой водке. Ну, отъешь, так возьми из-за занавески Митьку и поноси его по двору. Вон опять ревет. Все уши надсадил мне. А я простирну в корыте твою рубашонку. Ты давно не сменялась и все чешешься. Тебя, должно быть, блохи жрут.
– Я, маменька, не могу с Митькой… Я, маменька, должна уроки учить.
– Ну вот… Какие тут уроки! Учишься, учишься, а домой придешь – опять уроки.
– Батюшка задал из закона Божия молитву выучить к завтрему.
– Успеешь. Ты уж теперь подросла и должна помогать матери. А я смучилась с ребенком. Дерябит на всю комнату! Даже голова у меня разболелась. Бери ребенка и уходи.
Маня взяла плачущего ребенка и понесла на двор. На дворе долго она укачивала его, жужжала над его головой, бегала с ним, пела какую-то песню, выученную в училище, чтобы как-нибудь его угомонить, наконец забежала к кучеру в конюшню и со слезами на глазах стала просить кучера:
– Смучил меня, дяденька, ребенок… Поколотите чем-нибудь в стену пошибче. Авось он испугается и уймется. Он у нас стуку всегда боится.
Кучер взглянул на Маню, скосив глаза, и воскликнул:
– Поди ты, чертова перечница, к лешему под халат! Мне и свои ребята надоели, а тут еще чужого унимай. Уходи! Брысь! Вишь, еще что выдумала. Стану я перед чужим ребенком шута разыгрывать. – И он топнул на нее ногой и показал ей кулак.
Уже совсем было темно, когда Маня принесла ребенка домой.
– Что рано? Куда лезешь? – закричала на нее мать, стиравшая при свете жестяной лампочки в корыте. – Пошла назад! Я ведь сказала тебе, чтобы ты по двору ходила.
– Холодно, маменька, на дворе, да и уснул Митька, угомонился, – отвечала Маня.
– Угомонился? Ну положи его на постель за занавеску. Переменить бы у него пеленку надо – ну да уж благо, что спит. Полежит и мокрый. А сама иди в лавочку и возьми три фунта хлеба к ужину да три луковицы. Хлеб-то весь давече сожрала. Иди…
– Уроки… Молитву, маменька, надо учить. Батюшка велел… – заикнулась было Маня.
– Успеешь. После лавки будет время… – перебила ее мать. – Мне же не разорваться самой… Вот достирать надо.
Маня отправилась в лавку и через несколько времени вернулась с закупками. Мать прополаскивала в корыте белье.
– Наложи под таган щепочек на шестке. Кофейку сварить, что ли, – отдала она приказ Мане.
– Мне, маменька, уроки, молитву…
– Ох уж мне это ученье! Одно наказание! Делай, что тебе приказано! Растопи таган на шестке.
Маня повиновалась. Запахло дымом горящих щепок.
Только под вечер перед ужином уселась Маня при свете жестяной лампочки учить молитву. Заткнув уши пальцами от шума у соседей, смотрела она в книгу, положенную на столе, и шептала слова заданной к выучке молитвы, как пришел с фабрики сожитель матери Петр Митрофанов. Он был уже полупьян.
– A! Школьница! – воскликнул он, увидав Маню. – Давай мне сюда бумаги на папироску. У меня бумаги нет.
– Да и у меня нет, дяденька… – отвечала Маня.
– А тетради-то на что? Вырви…
– Запрещают, дяденька. Учительница ругается. Я уже и так много вам вырывала.
– Ну?! Разговаривать еще! Вырывай!
Петр Митрофанов показал кулак.
Маня повиновалась.
IIПетр Митрофанов сидел в кухне около стола, разувшись, и при свете маленькой жестяной лампочки рассматривал свой сапог, ковыряя ножом отставший каблук и дымя махоркой. Мать Мани Марфа Алексеевна жарила на плите картофель в сале и так начадила, что чад, смешанный с табачным дымом, заставил чихать даже приютившуюся на полке около кофейной мельницы кошку, которая тотчас же убежала в комнату к жильцам Марфы Алексеевны, снимавшим там углы. За ситцевой занавеской кряхтел грудной ребенок. Маня, учившая уроки, несколько раз подсаживалась к лампе, стоявшей перед Петром Митрофановым, но тот всякий раз говорил ей:
– Ну чего ты к ножу-то лезешь! Сорвется ножик, и я тебя невзначай и пырнуть могу. Сядь к сторонке.
– Да темно, дяденька, читать нельзя, – отвечала Маня.
– Невелика тебе нужда и читать-то!
– Выучить приказано к завтрему.
– Достаточно тебе того, что ты в школе учишься. Ты девочка, а не мальчик. Куда тебе грамоту-то большую? Зачем? А то на ночь глядя книжки читать!
Маня отодвинулась от него и в полупотемках начала разбирать, бормоча вполголоса:
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда…
– Вон оно что… Про птичку какую-то и про гнездо. Еще если бы что путное учить – молитвы или про житие святых, а то про птичку… – говорил Петр Митрофанов. – Ну на что тебе птичка с гнездом? На кой шут, спрашивается?
– Да коли приказывает учительница. Какие вы, право… – пробует возражать Маня.
– Делать ей нечего, этой учительнице твоей. Зажралась она в хорошем житье – вот и блажит.
– Уж и то правда… – отозвалась мать Мани. – Так стесняют девчонку, так стесняют, что просто ужасти. Чуть скажешь: «Манька, беги за щепками». – «Мне нельзя… Надо уроки учить».
– Да ведь бегала и за щепками, принесла давеча две корзинки.
– Еще бы ты не сбегала! Коса-то у тебя своя. Чудесно ведь понимаешь, как мать тебя гладит. Однако артачилась. То же и с Митькой… Говорю: «Прогуляй Митьку…»
– Ну да ладно… Брось, Марфа! Чего тут! Надоела, – перебил Петр Митрофанов. – А ты, Манька, сбегай-ка мне в лавку за сапожными гвоздями для каблука. На две копейки возьмешь. Вот две копейки. Спросишь у лавочника гвоздей для каблука. Он знает. Вот… смотри… вот с такими шляпками…
Маня мялась.
– Я, дяденька, должна еще молитву повторить, потому наш батюшка, священник… – заговорила она.
– Успеешь. Долго ли до лавки добежать!
Маня накинула на голову платок и приготовилась бежать в лавку.
– Постой… – остановил ее Петр Митрофанов. – Марфа Алексевна, есть ли у меня там сколько-нибудь, чтоб ковырнуть перед ужином-то?
– Есть, есть. Вчера я сберегла тебе в сороковке… На махонький стаканчик хватит.
– Ну, умница, что сама не вытрескала. Так и предпочитай меня всегда. Беги, Манька… Водки не надо… хватит. А я думал заодно уж и махонький пузырек…
Маня убежала и вернулась с гвоздями.
Петр Митрофанов взял молоток, стал вбивать гвозди в каблук и приговаривал:
– Вот так ладно… Вот так хорошо будет… Вишь, у тебя сожитель-то, Марфа Алексевна, по ремеслу кузнец, а на какое хошь дело его возьми – он и сапожник, он и печник, он и…
– Хвались, хвались! Ржаная каша всегда себя хвалит.
– Однако в воскресенье три кирпича тебе в печку вставил, глиной обмазал, проволокой прикрепил, а вот сегодня каблук к сапогам справлю… А кто у жильцов твоих в комнате стену бумажками оклеил? Все я же…
– Мастер-то ты хороший, слов нет, – сказала Марфа Алексеевна. – А только подчас чертишь сильно, пьешь много.
– Я? Да когда же это я так особенно?.. С повзапрош-лого воскресенья пьян не был.
– Толкуй! С повзапрошлого воскресенья ты в участке не сидел, это точно… А пьян – так ты и сегодня пришел с работы выпивши.
– Уж и выпивши! Просто пропустил малую толику в препорцию. Так нам, нашему брату, без этого нельзя… Мы люди рабочие… А вот покурить люблю… – благодушно говорил Петр Митрофанов. – Покурить обожаю. Манька! У меня руки заняты. Гвозди в каблук вбиваю. Скрути-ка мне папироску… Привыкай… Вон кисет с табаком лежит.
В долгу ночь на ветке дремлет…
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу Бога внемлет… —
читает Маня, заткнув пальцами уши, и не слышит приказа Петра Митрофанова.
– Манька! Тебе говорят насчет папироски или нет? – повторяет свой приказ Петр Митрофанов, возвышая голос. – Брось птичку! Крути папиросу.
Маня откладывает книгу и повинуется.
Молоток Петра Митрофанова продолжает стучать. Ребенок перестает кряхтеть, просыпается и плачет. Марфа Алексеевна уходит за занавеску и кормит его грудью.
В кухне показывается босой мужик с всклокоченной головой и в рубахе без опояски.
– Манька, а Манька, – говорит он, обращаясь к девочке. – Ведь ты грамотная. Что бы тебе, умница, написать мне письмо в деревню?.. А я бы тебе за это две копейки на семечки пожертвовал.
Петр Митрофанов оставляет сапог и молоток, взглядывает на мужика и произносит:
– А коли вам желательно, чтобы Манюшка вам письма в деревню писала, то вы должны, прежде всего, с Петром Митрофановым ласковы быть и его попотчевать. А то я от вас капли единой до сих пор вина не видал, нужды нет, что вы у нас на квартире существуете.
Мужик озадачен.
– А что тебе такое Манька? Кабы ты ей отец был или бы она тебе дочь… – говорит он наконец.
– А то, что иногда, братец ты мой, и посторонняя личность бывает больше отца, – вот как я рассуждаю. Не отец я ей, это точно, но, может статься, больше, чем отец… Я сожитель ее матери и Манюшку завсегда как дочь родную соблюдаю. Вот как-с, светик…
– Да ладно, ладно. В воскресенье я поднесу тебе стакашек, – соглашается мужик.
– Что мне в воскресенье! Письмо-то ведь ты Маньку сейчас писать просишь.
– Сейчас, сейчас… Это точно… Только у меня денег таких нет. Разве на восемь копеек…
– Ну, на восемь копеек… Манька! Порхай! Порхай! Пока казенку не заперли! Давай, земляк, деньги!..
– Сейчас, Петр Митрофаныч, – откликается Маня.
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет, —
заканчивает она, скручивая папироску для Петра Митрофанова, подает ему ее и быстро накидывает себе на голову платок.
– Дадут ли девчонке-то? Нынче ведь по винным лавкам строго… – сомневается мужик, вынимая деньги.
– Дадут… К ней пригляделись… Ей не впервой… Она девчонка шустрая… Ей самой не дадут, так она кого-нибудь другого взять попросит, – отвечает Петр Митрофанов.
Маня, получившая и на вино, и себе на семечки, быстро схватывает с подоконника порожнюю посуду из-под водки и поспешно выбегает из кухни.
IIIМаня вернулась из винной лавки. На столе перед Петром Митрофановым стоит маленькая бутылочка с водкой, именуемая в просторечии «мерзавчиком». Петр Митрофанов все еще ковыряет каблук сапога, вбивая в него гвозди с большими шляпками. Мужик-жилец в неопоя-санной рубахе сидит тут же на лавке, улыбается на водку и говорит Петру Митрофанову:
– А со мной, земляк, винцом-то не поделишься?
– Зачем же это я буду с тобой делиться, если ты меня потчуешь за дело!
Петр Митрофанов кончил с сапогом, выпил водку, крякнул и, отодвинув от себя лампу, сказал Мане:
– Ну, пиши ему письмо в деревню.
– Сейчас, – отвечала ему Маня, грызя подсолнухи. – Бумага у вас есть, дяденька? – спросила она мужика.
– Нет, бумаги не захватил. Вот конверт с маркой купил в лавочке, а бумаги у меня нету. Да я думал так, что коли ты мастерица сему делу, то и с бумагой.
– Вырви, Манюшка, из тетрадки, – отдал приказ Петр Митрофанов. – Коли кто ко мне с угощением, то для того всегда можно.
– Да ведь ругается учительница. За это наказывают, – заметила Маня.
– Ну-ну… Не разговаривай. Ведь и ты семечки себе получила. Вот теперь лущишь.
Маня вырвала из тетрадки листок бумаги, достала из сумки перо, принесла с подоконника находившуюся там баночку чернил и, приютившись за столом, около лампы, приготовилась писать.
– О чем писать-то? – спросила она мужика.
– А видишь что, умница… Я вдовый, а у меня дети… Двое детей махоньких при бабушке и при невестке в деревне. А невестка-то тоже без мужа. Муж ейный здесь, в Питере, на заработках, на заводе у Берда, но загулял, спутался, – рассказывал мужик. – Наши бабы ему писали, просили денег, а от него никакого ответа. Так бабы написали мне, чтоб я его постыдил и посрамил. В воскресенье я его видел, а он пьяный, с мадамой своей гуляет… Тоже с фабрики женщина… Чудесно… Я ему говорю насчет жены евонной, а он и она меня ругать начали. «Отпиши, – говорит, – им, что я знать их не хочу, опостылели они мне и никаких им денег не будет». Поняла, умница? – спросил мужик Маню. – Связался он тут с полюбовницей.
Маня сидела, выпуча глазенки, и ничего не поняла. Через несколько времени она сказала:
– Ты диктуй, дяденька, как у нас в училище диктует учительница, а я записывать буду.
Теперь в свою очередь мужик выпучил глаза.
Он тоже не понимал, что говорит Маня.
– Диктуй… – повторила она. – Говори, что писать… Что, как, а я напишу.
– Да ведь ты грамотная. Тебе лучше знать, что и как…
– Постой… – перебил его Петр Митрофанов. – Погоди, Манюшка. Прежде всего, нужно повеличать по имени и по отчеству, а потом поклоны. Как бабушку-то, как мать-то твою звать? Да и невестку-то как звать?
– Арина Андреевна. А невестку Матрена Герасимовна, – дал ответ мужик.
– Ну вот и отлично. «Любезная матушка Арина Герасимовна…» Пиши, Манюшка…
Маня начала писать и через минуту прочла:
– «Любезная маменька Арина Герасимовна».
– «От сына вашего Григория Николаева низкий поклон…» – подсказал мужик.
– «Низкий поклон и просим родительского благословения навеки нерушимо», – прибавил Петр Митрофанов. – Я хоть и неграмотный, а письма-то как писать знаю… – похвастался он.
Маня выводила крупными буквами, что ей говорили, и опять прочитала конец фразы:
– «Навеки нерушимо».
– А теперь невестке… – продолжал Петр Митрофанов. – Невестку-то как, говоришь, кликать?
– Матреной… Матрена Герасимовна. Работящая баба, крепкая, жильная, а вот не дал Бог настоящего мужа. Путаник, а не муж, хоть он и свояк мне.
– Пиши, Манька… – командовал Петр Митрофанов. – «А также и любезной невестушке нашей Матрене Герасимовне низкий поклон от деверя вашего».
– Как? От кого? – спросила Маня.
– От деверя вашего. Ведь он ей деверь приходится, – пояснил Петр Митрофанов.
– Деверь? Ну хорошо. «Родительское благословение от деверя вашего…» – прочитала она.
– Да от деверя родительского благословения не надо. Вот дура-то! Вымарай родительское благословение… Вымарала?
– Вымарала.
– Ну а теперь пиши, умница, что я посылаю матери-старушке три рубля, – сказал мужик.
– Три рубля?! – воскликнул Петр Митрофанов. – А говоришь, что денег нет, угощаешь только мерзавчиком. При трех рублях мы в лучшем виде могли бы распить сороковку. И тебе бы досталось.
– Чудак-человек! Да ведь семье, девкам, матери три-то рубля послать надо. Я и берегу трехрублевку, как глаз… – вразумлял его мужик.
Из-за занавески послышался голос Маниной матери:
– Экий ты жадный до вина-то, Петр! Посмотрю я на тебя.
– Ну-ну-ну! На этот счет рассыпать разговоров нечего! Не твое дело! Кисни там…
– «И посылаю вам, маменька, три рубля…» – прочитала Маня и спросила мужика: – Так?
– Три рубля. Правильно. Только прибавь, что от меня, от Григория Николаева. А то подумать могут, что деньги от Захара. А он наплевал на них.
– «Эти деньги от Григория Николаева», – читала Маня. – Ну а еще что?
– А теперь о Захарке. «Видел я Захарку пьяного, он все гуляет, связался с бабой-полюбовницей и не хочет вас знать, как я ни совестил его», – диктовал мужик.
– «С бабой-полюбовницей и знать вас не хочет», – сообщила Маня написанное.
– «А я его усовещевал, но он от рук отбился, и ничего поделать нельзя…»
– «От рук отбился, и ничего поделать нельзя».
– Ну, все… «Дай Бог вам здоровья, от сына вашего Григория Николаева и деверя».
– Написала… – сообщила после некоторой паузы Маня и стала прикладывать к письму проточную бумагу.
– Ну, вот спасибо, милушка, – поблагодарил мужик и спросил: – Про полюбовницу-то явственно им написала? Я к тому, чтоб они поняли из-за чего он им денег не шлет. Явственно?
– Явственно, – отвечала Маня. – Вот… «Связался с бабой-полюбовницей…»
– Ну, дай Бог тебе здоровья, крохотной. Эки руки-то у тебя золотые! Ведь вот и не велика пигалица, а смотри, как написала хорошо письмо! – восторгался мужик. – Ну, теперь конвертик, куда послать, милушка. Рязанской губернии, Скопинского уезда.
Мужик передал Мане конверт и стал диктовать адрес.
– Манька! Надо прибавить, что со вложением, мол, трех рублей. Ты так и пропиши, – учил Петр Митрофанов. – Со вложением трех рублей от Григория Николаева и потом наш дом, нашу улицу. Я ведь учился когда-то! У солдата учился в нашей деревне. Все знал, но теперь забыл, – похвастался он. – Прочитать прочту, коли что по-печатному, а по писаному ни боже мой… И писать учился, но совсем забыл. Цифирь знаю обозначить, а писать, хоть ты убей, не помню.
Мужик ушел. Грызя семечки, Маня опять раскрыла книгу и принялась за чтение «Птички».
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет,
И туман и непогоды… —
читала она полушепотом, но мать, выйдя из-за занавески с ребенком, перебила ее:
– Ты еще все со своей птичкой возишься? Вот надоела-то! – сказала она. – И если бы еще что путное было бы, а то птичка какая-то! Убирай книги и возьми Митьку, а я ужинать соберу. Есть пора, да и на боковую… Сегодня раньше раннего поднялась я из-за ребенка, да и днем он мне соснуть не дал ни минуты. Целый день блажил, неугомонный. Бери его.
И мать передала на руки Мане грудного ребенка.
– Где у тебя сороковка с остатками-то? – спрашивал Марфу Алексеевну Петр Митрофанов. – Выпить остатки-то, да и не думать об них.
За стеной у жильцов происходила ссора. Кто-то отборными площадными ругательствами отчитывал кого-то. Плакала какая-то женщина.