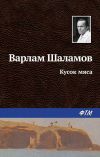Текст книги "Голь перекатная. Картинки с натуры"

Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Переполох
IВ квартирах дома извозопромышленника Беспокоева переполох. Счетчиком были розданы листки и ведомости по народной переписи. Сам хозяин дома Беспокоев был в трактире, куда ходил пить чай с сенником-поставщиком, когда без него приняли дома большой пакет с листками, ведомостями и объяснениями, или наставлениями. Вернувшись домой, он долго кричал и бранился на дворника, жену и прислугу, зачем те приняли пакет. Дворник, жена и домашние стояли растерявшись.
– Да ведь все принимали, Лукьян Захарыч… Всем соседям выдано, – осмелился заметить дворник, переминаясь с ноги на ногу.
– Плевать мне на соседей! – закричал Беспокоев.
– Принес такой… барин не барин, но с кокардой на фуражке, так как же не брать-то! – поясняла жена.
– А хоть бы генерал! – закричал Беспокоев, взял пакет, вынул оттуда листки и принялся их рассматривать. – Матери мои! По крышам придется лазать, дымовые трубы считать. Спрашивает, сколько дымовых труб, сколько выгребов в доме. Ну, пусть этот полубарин с кокардой на шапке, что листки принес, сам и считает дымовые трубы, а я не намерен. – Беспокоев очень хорошо знал, что пакет принять было нужно, что отказаться от него нельзя, но ему только хотелось покуражиться перед домашними. Он расхаживал большими шагами по комнате и в раздражении продолжал говорить: – Дымовые трубы понадобились, выгреба! Ну на что они понадобились? Только ведь для того, чтобы людей от дела отшибать.
Сын, ученик Петровского коммерческого училища, продолжал рассматривать брошенные отцом на стол листки и проговорил:
– Тут еще и про собак есть. Спрашивают, сколько собак на дворе.
– Ну вот ты от нечего делать и начни сегодня считать, – огрызнулся отец.
– С какой же это стати? Мне нужно уроки учить.
– Уроки побоку. А завтра так и скажешь учителям: так и так, мол, по приказанию начальства считал собак для переписи. Кошек еще не надо ли пересчитать?
– Про кошек ничего не сказано. Лошади, коровы, собаки.
– Жаль, очень жаль! – иронизировал Беспокоев. – Кстати бы уж и кошек переписать, да и мышей… Пожалуй, уж и блох на собаках. Заодно. Чего ж тут стесняться! Досужих людей в Питере много. Все досужие. К какому же это времени нужно доклад подать о дымовых трубах и собаках? – спросил он все еще стоявшего у притолоки дворника.
– Через три дня счетчик зайдет за пакетом, – дал ответ дворник.
Сын смотрел в листки и прочитал:
– «15 декабря к вам зайдет счетчик, и вы должны возвратить ему как все листки, так и…»
– Молчи! – оборвал его отец.
Он взял пакет и отправился в комнату, называемую «конторкой», каморку около кухни, где он обыкновенно принимал от навозников дневную выручку и записывал в книгу. Там он на свободе принялся рассматривать содержимое пакета. На пакете стояла надпись: «Прежде нежели писать ответы на листки, прочтите внимательно наставление».
«Эво, как обучают!» – подумал он, отыскал среди листков наставление, напечатанное на четырех страницах большого формата, и воскликнул:
– Вот так география! И все это нашему брату, пожилому человеку, вызубрить надо! Ловко! Вот так перепись! Благодарим покорно. – Он начал читать и прерывал чтение возгласами: – Скажите, как строго! Словно с мальчишками. Пожалуй, еще за ошибки-то без обеда оставлять будут! А то в карцер. Самое лучшее в карцер на хлеб и на воду. – После фразы «листки и ведомость должны быть написаны к 10 часам утра пятницы, 15 декабря», Беспокоев воскликнул: – А вот не напишу, нарочно не напишу! И ничего ты со мной не поделаешь!
Читал он долго и внимательно, так внимательно, что на лбу его выступил пот. Прочитав первую страницу наставления, он спросил квасу и, когда кухарка ему принесла, выпил кружку с жадностью; прочитав вторую страницу, велел ставить самовар. После третьей страницы, не дочитав четвертую, он вышел в столовую к чаю и сказал жене, сидевшей за самоваром:
– Чисто математика какая-то эта самая перепись. Читал, читал – и ничего не понимаю.
– Да дай вон Грише прочесть, – кивнула жена на сына в мундире коммерческого училища. – Авось он поймет.
– Ну вот! Уж ежели я не понимаю, то где же ему-то! Знаю только одно: что перепись эта от всех делов меня отшибет. Трубы считай, собак считай, расспрашивай, где кто родился.
– Возьми адвоката, – предложила жена. – Он напишет.
– Ну вот, вывезла тоже! Да что это, суд, что ли? Я и у мирового-то всегда сам.
Жена, сидевшая против Беспокоева, подмигнула ему и сказала:
– А ведь этой переписью, Лукьян Захарыч, наверное, на что-нибудь подъезжают.
– Само собой, – отвечал тот. – Хотя в объявлении и сказано, что никаких фискальных целей. Мы тоже знаем и понимаем. Вдруг дымовые трубы понадобились. Сосчитай, сколько их. Зачем это, спрашивается? С какой стати? И вот помяни мое слово, что с этих-то дымовых труб к лету и возьмут. С лошадей взято, с собак взято – ну, теперь с дымовых труб возьмут.
– Так покажи меньше труб.
– А как проверят, да потом со штрафом возьмут? Счетчику-то что делать? Ему к пятнице представь все листки, как облупленное яичко. Ну, он по крышам и начнет лазать да трубы считать.
– А сколько у нас труб на наших домах?
– А я почем знаю. Нешто я дом строил? Надо будет променаж по крышам сделать да и сосчитать.
– Ну вот. Охота! Пошли дворника.
– Перепутает. А там и отвечай за него. Нет, уж надо самому. Да ведь, кроме того, надо и печи сосчитать по всем квартирам.
– Печи-то для чего?
– Ах, боже мой! Да все для того же! – раздраженно отвечал Беспокоев. – Квартирный налог взят – ну, теперь с печки еще на прибавку возьмут.
– Когда по крышам-то будешь лазать? – спросила жена.
– Да надо сейчас начать.
– Возьми с собой дворника. Все-таки будешь не один, и он тебе поможет. А то эдакая скользь теперь. Долго ли поскользнуться.
– Ладно… – пробормотал Беспокоев, тяжело вздохнул и прибавил: – Вот не было-то печали, так черти накачали. Теперь лазай по крышам.
– А голубей по чердакам, папашенька, считать не надо? – спросил сын.
– Дурак.
– Позвольте… Чем же дурак-то? Ежели собак приказано считать, то отчего же голубей не сосчитать. Такая же тварь.
– Ну, полезем на крышу, – сказал Беспокоев, вставая из-за стола.
В столовую вошла дочь его, девушка лет семнадцати, пухленькая, с вздернутым носиком, и объявила:
– Ну, вы там как хотите, а я в одном листе с собаками и лошадьми прописываться не желаю.
– А мы и не спрашивая запишем тебя, – пробормотал отец, уходя из столовой.
IIВдова, старуха, мещанка Марфа Алексеевна Петунникова, содержательница в доме Беспокоева маленькой квартиры и отдающая ее от себя жильцам по углам, как получила от счетчика пакет с листками и наставлениями для переписи, так и обомлела. Когда вошел счетчик, она сидела в кухне и ела соленую треску с картофелем и луком. Взяв от него пакет, она даже перестала жевать, хотя рот ее был полон. Руки ее тряслись, глаза остановились. Она бессмысленно смотрела на счетчика, студента, а он ей пояснял:
– Тут все найдете: и листки личные, и листок квартирный, и квартирную ведомость, и наставление. Все это вы внимательно прочтете, прежде чем приступить к делу. Главное, на наставление поналягте. Оно вам выяснит все до мельчайших подробностей! Да прочтите не один раз, а два, три. Поняли? Ну а потом уж начинайте переписывать. У вас сколько всех жильцов? – спросил он.
Только теперь Марфа Алексеевна начала прожевывать треску. Счетчик ждал ответа.
– Сколько же у вас всех жильцов? – спросил он еще раз.
Сопровождавший счетчика и стоявший в дверях дворник произнес:
– У ней, ваше благородие, жильцов много.
– Сколько же именно?
Марфа Алексеевна наконец прожевала треску и стала считать по пальцам.
– Девятнадцать душ, – послышался от нее ответ.
– Эк вас! Ну, тогда я мало дал вам личных листков. Вот, возьмите еще.
– Младенцев надо считать? – спросила она.
– Непременно. И если бы даже в ночь с 14 на 15 декабря родился кто-нибудь, то и того надо записать. Даже новорожденные и некрещенные и те записываются.
– Тогда двадцать две души, – поправилась она.
– Ну так вот вам добавочные личные листки, и прошу их выполнить к пятнице, 15 декабря, к десяти часам утра.
– То есть как это, ваше благородие?
Марфа Алексеевна недоумевала. Теперь уж у нее затряслась голова.
– В пятницу к десяти часам утра все ваши жильцы должны быть переписаны вот на этих отдельных листках, – отвечал счетчик.
– Да я, ваше высокое благородие, неграмотная.
– Неграмотны? Гм… Но ведь, однако, в квартире кто же нибудь найдется грамотный – вот его и попросите.
– Писаря наймет, ваше благородие. Ей что! Она старушка с запасцем, – заметил дворник.
К трясению головы у старухи прибавилось усиленное моргание глазами.
– Ну-с, так вот… – сказал счетчик. – Чтобы к пятнице было все готово. В девять часов утра я зайду, и вы мне вручите пакет с листками обратно.
Он повернулся и в сопровождении дворника вышел из квартиры.
В кухню вбежала жилица – девица не первой уже молодости, в ситцевом распашном капоте, накрашенная, в папильотках, с папироской.
– Что такое, Марфа Алексеевна, у вас здесь стряслось? Кто это был? – задала она вопрос.
– Ох, беда, милая! – пробормотала беспомощным тоном старуха.
Она уже сидела на сундуке, опустя руки и держа в одной из них пакет с листками.
– Какая беда? Господи Иисусе!
– Перепись… Всех вас, жильцов, переписывать надо и даже младенцев.
– Так что же из этого? Это ведь по всему Петербургу. Об этом и в газетах было написано, – успокаивала хозяйку жилица. – А я думала, какая такая беда!
– Ох, ох! А у меня даже под сердце подкатило. Милушка, да нет ли у тебя тех капелек, что ты мне давала тут как-то?
– Гофманских? Все до капельки выпила. Да чего вы беспокоитесь-то? Перепись… Ничего тут страшного нет. Я помню… Десять лет тому назад она была в Петербурге… Тут счетчики по домам ходят. У вас счетчик был?
– Ох, не знаю! Лицо такое серьезное. Вот оставил бумаги и говорит, чтобы непременно к пятнице к десяти часам утра.
– Ну, счетчик был. Молодой или старый? – спрашивала жилица.
– Ох, милушка, и не разглядела я. С дворником был, с Кондратьем. Только я выпила рюмочку перед обедом и стала треску есть – вдруг он…
– Все-таки из себя интересный?
– Ах, херувимка моя, да я и треской-то чуть не подавилась с перепуга. До того ли мне было.
– Решительно тут ничего нет страшного. Напротив… Если молодой и интересный кавалер… Где листки-то у вас? Покажите-ка мне листки-то.
– Вот…
Старуха протянула пакет. Жилица с папильотками на лбу присела рядом с ней на сундук, вынула из пакета листок и принялась его рассматривать, говоря:
– Тут описание жизни, личности и кто в каких отношениях… Кому сколько лет и кто какого поведения. Трезвого, так и пишите – «трезвый», выпивающий – ну, «выпивающий». Так и обозначить следует. Девица – так девица и надо уж обозначить, настоящая девица или так… Вот Афимья-слесариха говорит, что она жена Ивана Парфеныча. А какая она жена! Тут уж как на духу, надо все до капельки обозначить. Матрешка, моя соседка, рассказывает всем, что она белошвейка без места. А какая она белошвейка? Мы очень чудесно знаем. Вот вы и обозначьте, – тараторила жилица и принялась читать листок. – Да вот, например… Имя и фамилия? Вот вы и пишите хоть бы про себя: «Марфа Петунникова». «Сколько лет от роду?» Сколько вам лет?
– Ох, забыла, милая! Почем мне знать! Забыла… – отвечала старуха.
– Ну, уж это так нельзя. Должны правильно ответить. А то штраф… – сказала жилица. – И лучше уж говорить больше. Ну, семьдесят три. Трудного-то тут ничего нет.
Старуха заискивающе взглянула на жилицу и сказала:
– Так вот ты, милушка, и напиши мне. Ты ведь грамотная. А я тебя за это кофейком попою.
– Я? Я и написала бы вам, да вы знаете, как я пишу? Словно слон брюхом ползал. Напишешь, а потом и сама не разберешь, что написала, так где же счетчику-то! – отвечала жилица. – А вы Финогена Михайлыча попросите. Он ведь из писарей.
У успокоившейся было старухи Петунниковой голова опять затряслась.
– Милая, – заговорила она. – Финоген – мужчина корыстный. Попроси-ка его написать, так он и денег запросит, и угощение ему с пивом и кильками, на перья и чернила ему дай, да и за квартиру он недоплатит. Ох, знаю я его! Лучше уж дворнику дать.
Старуха поникла головой и, чуть не плача, бормотала:
– Бедная я, несчастная, беззащитная сирота! И придумали же эту перепись несчастную!
IIIВечером пришли жильцы старухи Марфы Алексеевны Петунниковой, узнали о врученных ей счетчиком переписных листках и загалдели о переписи. Жильцы у ней были большею частью мужчины, почти все работающие по фабрикам. Женщин было всего четыре: две прачки-поденщицы, девушка, именовавшая себя белошвейкой, и барышня в папильотках. Все жильцы приходили в кухню к старухе Петунниковой и рассматривали переписные листки. Все без исключения отнеслись к переписи подозрительно.
– Надо чего-нибудь ждать после этого… – неопределенно сказал ей слесарь Титов.
– Да уж будьте покойны, напреет, – отозвался старик-рассыльный Тимофеев.
– Пропишут… – закончил нарядчик Семенов, мрачный мужчина с бельмом.
Петунникову даже подергивало, когда она слушала эти речи.
– Да чего ждать-то? Что напреет-то? – тревожно спрашивала она.
– А там потом что-нибудь да обозначится, – опять уклончиво отвечали ей.
Прачка-поденщица Устинья Потаповна в мужских сапогах проговорила:
– Вот он, кофей-то. Недаром он на гривенник фунт вздорожал.
– Очень просто… – кивнул слесарь Титов. – А ты думала, как? И еще вздорожает.
– Ну?! Поди ты… Ведь уж и так теперь за полтинник-то горох в кофей мешают.
– Ничего не обозначает. Подмешают и еще что-нибудь.
– Кофей что! Кофей – бог с ним. Да не особенно я его много и пью, – сказала старуха Петунникова. – А я думаю, не опасаться ли мне чего другого.
– Чего же другого-то? – пробормотал Титов. – Квартирный налог платишь – ну и ладно.
– Ох, семь рублей, голубчик! Вот после нового года опять придется.
– А я думаю, бани вздорожают, – сказала вторая прачка, Наумовна. – На днях я была в банях, так сторожиха стращала, что вместо гривенника двенадцать будут брать.
– Да ведь с веником и теперь одиннадцать.
– А тогда будет с веником тринадцать.
Сторож присел на сундук и произнес:
– Вся эта перепись теперича, я думаю, для того, чтобы узнать, поскольку на душу водки выпивается из винных лавок, потому и в газетах писали, что будто бы меньше пьют.
– Мели больше, – пробормотал нарядчик, все еще при свете лампы просматривавший «личный листок». – А нет ли тут чего-нибудь насчет приписки в мещане?
– То есть как это? – спросили все разом.
– А вот тут есть в листке точка: «С какого года поселились в Петербурге?»
– Ну?!
– Более десяти годов живешь – ну и приписывайся в мещане.
– Эк хватил! Да в петербургские-то мещане ноне не всякого и берут. Походи да покланяйся, похлопочи. В шлиссельбургские и колпинские – сколько угодно, – возразил слесарь. – А я думаю вот что: с квартиры жильцов будут сгонять, где по углам тесно живут. Это я от знакомого старшего дворника слышал, что сбираются. Вот когда всех перепишут – ну и начнут перебирать. «Марфа Алексевна, у тебя по скольку углов в комнате?» – «Столько-то». – «Гони двоих вон».
– Голубчик, да ведь это разорение… – еле выговорила Петунникова. – Как же тогда жить-то? Ведь жильцов отопить надо. Ведь уж и так-то от вас самая малость очищается.
– А им какое дело? Поезжай в деревню. Вот оттого-то и допытываются, кто где родился.
– Погибель, совсем погибель.
– Санитарная комиссия… Ничего не поделаешь.
– Какая? – спросила старуха.
– Санитарная.
– Это что же обозначает?
– Да уж там потом разберут. Листки об оспе читала?
– Нет.
– Ну, прочти у нас около ворот. «Прививайте оспу… мойте полы… Не пейте воды сырой, а пейте чай» и все этакое… Также и насчет чистоты. А я тебе сколько раз говорил: «Выведи у нас клопов французской зеленью, промажь щели» – и ты ни с места. А вот теперь и казнись.
Слесарь кончил. Водворилось молчание.
– Спрыски с тебя… Должна поднести жильцам по стаканчику… – сказал, смеясь, сторож.
Старуха даже слезливо заморгала глазами.
– Тебе шутки, а мне-то каково, Аверьян Михеич! – проговорила она и утерла глаза передником. – Ты жилец, с тебя как с гуся вода… а я всех вас переписать должна. Сегодня этот самый барин, что листки принес, сказал, чтоб к пятнице утру беспременно…
– Ну и перепишешь, – кивнул ей нарядчик.
– Да ведь я неграмотная. Надо мне человека нанять.
– И наймешь. Возьми вон Финогеныча. Генералов тебе перепишет, а не только нас.
– Говорила уж я ему. Рубль просит. И угощение… Да чтоб кильки были и непременно пиво. Во сколько мне это вскочит! А я женщина бедная. Только вокруг жильцов. На треске да на астраханской селедке сижу. Кофейные переварки пью…
Сторож похлопал по сундуку, на котором сидел, и с улыбкой сказал:
– Пошарь вот здесь хорошенько – на три переписи найдешь, а то и на десять.
– Нет, уж вы как хотите, а по гривеннику должны сложиться и дать мне за перепись, – выговорила наконец старуха Петунникова.
– Это еще с какой стати! – воскликнул нарядчик. – Больно жирно будет.
– Да ведь вас же переписывать будет Финогеныч-то. Он завтра придет.
– Мы жильцы. Мы за углы платим – и знать ничего не должны, – произнес сторож.
– За прописку паспорта платишь же, а это та же прописка.
– Нет, ах, оставьте! То совсем особь статья. Прописка, больничные, адресный сбор – это с марками, это на паспорте. А какие у тебя такие марки насчет переписи!
– Ну что вам значит, голубчики, по гривеннику для вашей хозяйки, для бедной старушки, которая о вас заботится?! Ведь пропил больше в день, – упрашивала старуха.
– Выпивкой не кори. То особь статья. Мы люди рабочие, нам нужно для силы.
– Да ведь не себе прошу, Финогенычу. Он завтра придет вас переписывать.
– Я сам себя перепишу. Я сам грамотный, – вызвался слесарь. – Давай листок.
– Да ведь перепутаешь, а тут надо в точку…
– Я и не такие бумаги писал, а много почище, – похвастался слесарь.
– Слышь, Марфа Алексевна, я дам гривенник на перепись, но чтобы и мне вместе с Финогенычем было угощение, – вызвался нарядчик.
– Здравствуйте! А ты на пятиалтынный выпьешь!
– Врешь, насчет водки я человек деликатный. Ну вот что: пятиалтынный дам, но только чтобы с угощением.
Старуха утирала глаза передником.
– Разорение, совсем разорение, – бормотала она. – Во что мне эта перепись-то вскочит!
IVВечером накануне 15 декабря, часу в девятом, когда все жильцы и жилицы старухи Марфы Алексеевны Петунниковой собрались домой с работы, явился по приглашению Петунниковой переписывать их писарь Финогенов. Это был старик с седым щетинистым подбородком и верхней губой, одетый в очень потертый пиджак с замасленной голубой ленточкой в петлице и сильно расхлябанные сапоги. В руках его был облезлый портфель и замасленная форменная фуражка с кокардой. Финогенов переписывал жильцов на том же дворе, где жила Петунникова, но в другой угловой квартире, а потому явился без пальто. Он когда-то служил где-то канцелярским служителем, давно уж потерял место, жил подобно птице небесной от крох, как он сам выражался, но фуражку с кокардой все-таки носить не оставлял. Его знал весь двор и даже весь околоток. Он писал угловым жильцам прошения к мировым судьям, а старухам-салопницам и вдовам с малыми детьми прошения к благодетелям о помощи. Звали его Финогеном Михайлычем Финогеновым, но он откликался и на Финогеныча, под каким именем и был больше известен. Нос его был не только красен, но и сиз, что явно указывало на его любовь к спиртным напиткам.
Войдя в квартиру Петунниковой, Финогеныч строго заговорил:
– Поторапливайтесь, матушка, поторапливайтесь. Я от дела к делу… Сами знаете, нынче время какое… Время предпраздничное… Со всех сторон заказы на прошения от сирых и убогих. Утром написал по шести прошений двум старухам в разные места боголюбиям, превосходительствам и степенствам, сейчас переписывал жильцов, да и еще есть куда идти заработать.
– Да все готово, батюшка Финогеныч, жильцы собрались. Можно начинать. А которые не собрались, так подойдут, – отвечала Петунникова. – Где писать-то будете?
– А где стол есть, там и писать начнем.
– Да стол в кухне есть, есть у жильцов в большой комнате. Только там-то я боюсь поставить для вас угощение, потому сейчас присоединиться к нему могут. Жильцы мои, сами знаете, ой-ой какой народ насчет этого…
– Разумно. Тогда я буду писать у вас вот здесь, в кухне. А вы призывайте сюда жильцов по очереди.
Финогеныч положил на некрашеный стол фуражку и портфель.
– Сейчас выкушаете, что просили приготовить-то? – спросила его старуха.
– А то как же? Колеса мажут перед тем, как ехать в путь. Пожалуйте.
– Да у меня готово. Вот вам маленькая посудинка и рюмка, а бутылку пива на загладку.
Старуха полезла в стенной шкафчик.
– А кильки? Я просил килек.
– Есть. Помню. Все по условию приготовила. А только и разоритель же вы! Ведь четвертак за коробку килек заплатить пришлось. Думала в мелочной десяток купить – ан нет, не дают.
– Давайте, давайте скорей. Да собирайте народ. Подмажем колеса, да и в путь.
Старуха поставила на стол бутылочку, рюмку, хлеб и кильки. Финогеныч сел к столу и стал наливать в рюмку, говоря:
– Посудинку сию мы поделим пополам и вторую подмазку колес сделаем в пути.
– То-то, я думаю, что так лучше.
– Правильно. Ну, вот я выпью, а вы все это и убирайте. А потом, как заскрипят колеса в пути, я вам подмингну – вы опять подавайте. Ну, ваше здоровье!
Финогеныч выпил, крякнул и стал заедать кильками с хлебом. Старуха Петунникова убирала со стола посуду, а он, прожевывая куски, говорил ей:
– Перо, чернильницу, прокладную бумагу – все это свое я принес. Ничего этого не надо. Ну-с, начнем с хозяйки квартиры и первым делом вас перепишем, – прибавил он, достав из портфеля канцелярские принадлежности и листки, а затем надел на нос серебряные очки с круглыми стеклами. – Часть, участок, номера дома и квартиры – все это у меня в листках уж заблаговременно вписано. Приблизьтесь к столу.
Говорил Финогеныч все это не без некоторой торжественности и важности и указал старухе Петунниковой на место у стола, где она должна стать. Затем обмакнул перо в банку с чернилами и спросил: – Ваши имя и фамилия?
– Марфа Петунникова я, Финоген Михайлыч… – отвечала старуха и уж слезилась. – Вдова мещанина, петербургского мещанина.
– Потом… – остановил ее Финогеныч, повторил «Марфа Петунникова» и написал. – Какой пол? Пол: мужской, женский?
– То есть как это, батюшка? – недоумевала Петунникова.
– Тут вопрос – женщина вы или мужчина… Я спрашиваю то, что написано.
– О, господи! Да неужто же я?..
– Постойте. Конечно, я вижу, что вы женщина, но так как на листке есть вопрос, какой пол – мужской или женский, то и обязан я спросить. Ну, я пишу «женский». Возраст ваш. Сколько лет от роду?
– Забыла я, Финоген Михайлыч, совсем забыла.
– Однако тут в листке забывать не дозволяется, а требуют, чтоб год был обозначен. Ведь в паспорте, поди, сказано.
– Да что паспорт! В паспорте сказано пятьдесят семь, а мне куда больше. А пишут это они в мещанской управе нарочно, чтоб в богадельню не просилась.
– Обязаны верить официальному документу. В паспорте сказано, что пятьдесят семь – пусть и будет пятьдесят семь, – строго сказал Финогеныч и написал. – В котором году родились? – задал он новый вопрос старухе.
– А этого уж и совсем не знаю.
– Вычтем пятьдесят семь из тысяча девятисотого года. Будет тысяча восемьсот сорок три. Записано. Где родились?
– О, господи! И все-то им нужно знать!
– Говорите, говорите.
– Да я в Тульской губернии, Белевского уезда, в деревне…
– Довольно. Записано. С какого года поселились в Петербурге?
– А вот как покойный папенька с Крымской кампании вернулся. Дали ему тогда чистую отставку…
– Крымская кампания. Ну, напишем, что с 1856 года. Как приходитесь хозяину квартиры?
– Это Беспокоеву-то, что ли? Да я никак не прихожусь.
Финогеныч спохватился.
– Впрочем, хозяин-то квартиры вы сами и есть. Пишем: «Сама по себе. Хозяйка». А теперь важный вопрос: девица, замужем, вдова или разведенная? Только не врать!
– Вдова, вдова.
– Да вдова ли? Настоящая ли вдова?
– Настоящая, настоящая. Могу паспорт показать. Достать?
Хозяйка сделала движение.
– Верим, – перебил ее Финогеныч. – Вероисповедания какого?
– Церковного. Родители были по Косцовой вере, но я…
– Довольно. Православного. Записано. Читаете и пишете?
– Читать-то малость могу, а уж писать-то…
– Записано. Слепой на оба глаза или глухонемой? От рождения или нет? Впрочем, это к вам не подходит. Чем существуете? Напишем: «Живет от квартиры». Ну, все!
Финогеныч заткнул перо за ухо и потянулся.