Текст книги "Наши за границей"
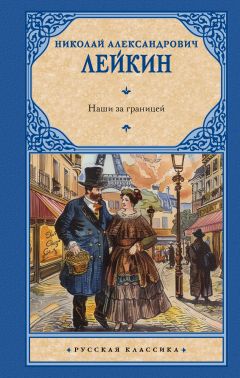
Автор книги: Николай Лейкин
Жанр: Юмористическая проза, Юмор
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
XLIII
Запахло, по выражению Гейне, не имеющим ничего общего с одеколоном. Катальщик подводил кресло к каменным мазанкам с плоскими крышами североафриканских народов, которых он и называл «дикими» (sauvages). Николай Иванович шел рядом с креслом Глафиры Семеновны. Виднелись каменные низенькие заборы, примыкающие к мазанкам и составляющие дворы. Мелькали смуглолицые мужчины из аравийских племен, прикрытые грязными белыми лохмотьями, босые, с голыми ногами до колен, в тюрбанах, но часто обнаженные сверху до пояса, чернобородые, черноглазые, с белыми широкими зубами. Некоторые из них торговали под плотными навесами, прикрепленными к заборам, засахаренными фруктами, нанизанными на соломинки, винными ягодами, миндалем, орехами и какими-то вышитыми цветными тряпками, выкрикивая на плохом французском языке: «Де конфитюр, мадам! А бон марше, а бон марше!»[242]242
Варенье, мадам! Дешево, дешево!
[Закрыть] Выкрикивая название товаров, они переругивались на своем гортанном наречии друг с другом, скаля зубы и показывая кулаки, для привлечения покупателей звонко хлопали себя по бедрам, свистели и даже пели петухом.
– Les sauvages… – отрекомендовал катальщик.
– Дикие… – перевела Глафира Семеновна, вылезая из кресла. – Надо посмотреть. Пойдем, Николай Иваныч. Рассчитывайся с французом, и пойдем.
Николай Иванович расплатился с катальщиком, и они отправились к самым мазанкам. Около мазанок было сыро, грязно, местами даже стояли лужи помоев, валялись объедки, ореховая скорлупа, кожура плодов, кости.
– Полубелого сорта эти дикие-то, а не настоящие, – сказал Николай Иванович. – Настоящий дикий человек черный.
Маленький арабчонок, голоногий и только с головы до раздвоения туловища прикрытый белой рваной тряпицей, тотчас же схватил Глафиру Семеновну за полу ватерпруфа и заговорил что-то на гортанном наречии, таща к мазанке.
– Dix centimes, madame, dix centimes…[243]243
Десять сантимов, мадам, десять сантимов…
[Закрыть] – выдавалась в его речи французская фраза.
Николай Иванович крикнул ему «брысь» и замахнулся на него зонтиком, но он не отставал, скалил зубы и сверкал черными, как уголь, глазенками.
– Да куда ты меня тащишь-то? – улыбнулась Глафира Семеновна.
– Dix centimes, et vous verrez notre maison…[244]244
Десять сантимов, и вы увидите наш дом…
[Закрыть] – повторял арабчонок.
– Дом свой показать хочет. Не страшно, Николай Иваныч, к ним идти-то?
– Ничего, я думаю. В случае чего – вон городовой стоит.
Повинуясь арабчонку, подошли к мазанке и вошли в переулок, еще больше грязный. Подведя к низенькой двери, ведущей в мазанку и завешанной грязным ковром, арабчонок вдруг остановился около нее и загородил вход.
– Dix centimes… – строго сказал он, протягивая руку.
– Дай ему, Николай Иваныч, медяшку. Десять сантимов просит. Там у тебя медяки в кармане есть… – сказала Глафира Семеновна мужу.
– На, возьми, черт с тобой…
Николай Иванович протянул арабчонку десятисантимную медную монету. Арабчонок приподнял ковер и пропустил в дверь Глафиру Семеновну, но перед Николаем Ивановичем тотчас же опять загородил вход.
– Dix centimes, monsieur… – заговорил он опять.
– Да ведь уж дал я тебе, чертенку, трешницу.
– Dix centimes pour madame, dix centimes pour monsieur…[245]245
Десять сантимов за мадам и десять сантимов за месье…
[Закрыть]
– Николай Иваныч, что же ты? Где ты? Я боюсь одна! – послышалось из мазанки.
– Сейчас, сейчас… Да пусти же, чертова кукла! – оттолкнул он арабчонка и ворвался в дверь за женой.
Арабчонок завизжал, вскочил в мазанку и повис на руке у Николая Ивановича, крича:
– Dix centimes, dix centimes…
– Вот неотвязчивый-то… Да погоди, дай посмотреть. Потом дам, может быть, и больше.
– Dix centimes, dix centimes… – не унимался арабчонок и даже впился Николаю Ивановичу в руку зубами.
– Кусаться? Ах ты, черт проклятый! На, подавись.
Получив еще монету, арабчонок успокоился, подбросил ее на руке и вместе с другой монетой тотчас опустил в мешок, сделанный из наголенки женского полосатого чулка, висящий у стены у входа. Мешок был уже наполовину набит медяками.
– Каково! Кусаться вздумал, постреленок… – сказал Николай Иванович жене.
– Да ведь с ними надо осторожно. Они дикие… – отвечала та. – А только к чему он нас притащил сюда? Здесь и смотреть-то нечего.
Смотреть было действительно нечего. Сидела на циновке грязная смуглая пожилая женщина в белом покрывале на голове, с голыми ногами, с голой отвисшей грудью и, прижав к груди голого ребенка, кормила его. Далее помещалась, поджав под себя ноги, перед ткацким станком молоденькая девушка в бусах на шее и ткала ковер. В углу храпел, лежа вниз лицом, на циновке араб, но от него виднелись только голые ноги с неимоверно грязными пятками. В мазанке царствовал полумрак, ибо маленькое грязное окошко освещало плохо, воздух был сперт, пахло детскими пеленками, пригорелым салом.
– Тьфу, мерзость! Пойдем назад… – проговорил жене Николай Иванович и вывел ее из мазанки в переулок.
Арабчонок опять вертелся около них.
– Dix centimes, monsieur… Dix centimes. Je vous montrerai quelque chose[246]246
Десять сантимов, месье… Десять сантимов. Я вам кое-что покажу.
[Закрыть], – кричал он, протягивая руку.
– Как, и за выход платить надо? Ну, брат, уж это дудки! – возмутился Николай Иванович. – Городовой! Где городовой!
– Он еще показать что-то хочет. Пусть возьмет медячок. Ведь бедный… Нищий… – сказала Глафира Семеновна и, взяв у мужа монету, передала арабчонку.
Получив деньги, арабчонок в мгновение ока сбросил с себя тряпки, коими был прикрыт с головы, очутился весь голый и стал кувыркаться на грязной земле. Глафира Семеновна плюнула и потащила мужа из переулка.
XLIV
Супруги шли дальше. Арабы в белых одеждах попадались все чаще и чаще. Были и цветные балахоны. Мелькали голубые длинные рубахи на манер женских. Из верхних разрезов этих рубах выглядывали смуглые чернобородые лица в белых тюрбанах; внизу торчали грязные ступни голых ног; некоторые из арабов сидели около мазанок, поджав под себя ноги, и важно покуривали трубки в длинных чубуках; некоторые стояли около оседланных ослов, бормотали что-то на непонятном языке, сверкая черными, как уголь, глазами, и, указывая на ослов, хлопали по седлам, очевидно предлагая публике садиться. Один даже вдруг схватил Глафиру Семеновну за руку и потащил к ослу.
– Ай! ай! Николай Иваныч! Что это он такое делает! – взвизгнула она, вырываясь от весело скалящего на нее зубы голубого балахона.
Николай Иванович замахнулся на него зонтиком.
– Я тебе покажу, черномазая образина, как дам за руки хватать! – возмущался он. – Где городовой? Мосье городовой! Иси… Вене зиси…[247]247
Сюда… Идите сюда…
[Закрыть] – поманил он стоявшего на посту полицейского и, когда тот подошел, начал ему жаловаться: – Вот этот мерзавец… Как мерзавец, Глаша, по-французски?
– Да не надо, не надо… Ну что скандал начинать! Оставь…
– Нет, зачем же… Надо проучить. Пусть этого скота в часть под шары возьмут.
– Здесь и частей-то с шарами нет. Я ни одной каланчи не видала.
– Все равно, есть какая-нибудь кутузка. Вот этот голубой мерзавец, мосье городовой, схватил ма фам за мян[248]248
Мою жену за руку.
[Закрыть] и даже за грудь. Глаша! Переведи же ему…
– Не требуется. Пойдем. Ну что за радость публику собирать! Смотри, народ останавливается.
– Пускай собирается. Не оставлю я так. Сэт мерзавец бле… Ах, какое несчастие, что я ни одного ругательного слова не знаю по-французски! – воскликнул Николай Иванович и все-таки продолжал, обращаясь к городовому: – Сет кошон бле хвате ма фам за мян и за это место. Вуаля – сет… – показал он на грудь. – Прене его в полис, прене…[249]249
Этот голубой мерзавец… Эта чертова свинья хватает мою жену за руку и за это место. Вот это… Заберите его в полицию, заберите…
[Закрыть] Се безобразие ведь…
– Николай Иваныч, я ухожу… Довольно.
– Погоди. Се ма фам и иль хвате. Нешто это можно?
Полицейский приблизился к Глафире Семеновна.
– Qu’est-ce qu’il a fait, madame? – спросил он.
– Рьян[250]250
Что он сделал, мадам? – Ничего.
[Закрыть], – отвечала Глафира Семеновна и пошла по аллее.
Николаю Ивановичу ничего не оставалось, как тоже идти за супругой.
– Удивляюсь… – бормотал он. – Уметь говорить по-французски и не пожаловаться на мерзавца, значит, ты рада, что он тебя схватил, и только из притворства вскрикнула.
– Ну да, рада… Не желаю я делать скандала и обращать на себя внимание. Отбилась, и слава богу.
Николай Иванович мало-помалу утих, но, проходя с женой мимо арабов, держал уже наготове зонтик. Мазанки уже чередовались с двухэтажными домами с плоскими крышами. Виднелась какая-то башня. Начиналась Каирская улица, выстроенная на выставке. Попался второй балахонник с ослом, третий. Николай Иванович и Глафира Семеновна посторонились от них. Далее показался англичанин в клетчатом пальто с несколькими пелеринками и в белом картузе с козырьками на лбу и на затылке, едущий на осле. Балахонник бежал впереди осла, держа его за уздцы. За англичанином проскакала на таком же осле англичанка в синем платье и в шляпке с зеленым газовым вуалем.
– Да эти балахонники-то на манер извозчиков. Ослы-то у них для катания отдаются, – сказала Глафира Семеновна. – Ну так чего же от извозчика и ждать! И у нас иногда извозчики за руки хватают народ.
– Фу-ты пропасть! Извозчик и есть. А я думал, что какая нибудь арабская конница, на манер наших гусаров или уланов. Смотри-ка, Глаша, и многие ездят на ослах-то. Даже и дамы. Вон какая-то толстенькая барынька с большим животом едет. Смотри-ка, смотри-ка… Да тут и верблюды есть. Вон верблюд лежит. Стало быть, и на верблюдах можно покататься.
– Ну вот. То все ругал балахонников, а теперь уж кататься!
– Нет, я к слову только. А впрочем, ежели бы ты поехала, то и я бы вместе с тобой покатался на осле.
– Выдумай еще что-нибудь?
– Да отчего же? Люди катаются же. Были на выставке, так уж надо все переиспытать. На человеке сейчас ездила, а теперь на осле.
– Не говори глупостей.
– Какие же тут глупости! На верблюде я ехать не предлагаю, на верблюде страшно, потому зверь большой, а осел – маленький зверь.
Налево на одноэтажном доме с плоской крышей высилась надпись, гласящая по-французски, что это кафе-ресторан. На крыше дома виднелись мужчины и дамы, сидевшие за столиками и что-то пившие. Около столиков бродили арабы в белых чалмах, белых шальварах и красных куртках.
– Смотри-ка, куда публика-то забралась! На крыше сидит, – указал Глафире Семеновне Николай Иванович. – Это арабский ресторан. Зайдем выпить кофейку.
– Напиться хочешь? Опять с коньяком? Понимаю.
– Ну вот… В арабском-то кафе-ресторане. Да тут, я думаю, и коньяку-то нет. Ведь арабы! Магометанского закона. Им вино запрещено.
– Нашим татарам тоже запрещено вино, однако они в Петербурге в татарском ресторане в лучшем виде его держат. В татарском-то ресторане у нас самое лютое пьянство и есть.
– Только кофейку, Глаша. Кофей здесь должен быть отличный, арабский, самый лучший мокка. Уж ежели у арабов быть да кофею ихнего не попробовать, так что же это такое! Зайдем… Вон в ресторане и музыка играет.
Из отворенной двери дома слышались какие-то дикие звуки флейты и бубна.
– Только кофей будешь пить? – спросила Глафира Семеновна.
– Кофей, кофей. Да разве красного вина с водой. В мусульманском ресторане буду и держать себя по-мусульмански, – сказал Николай Иванович.
– Ну, пожалуй, зайдем.
И супруги направились в кафе-ресторан.
XLV
Кафе-ресторан, в который зашли супруги, был в то же время и кафешантаном. В глубине комнаты высилась маленькая эстрада с декорацией, изображающей несколько финиковых пальм в пустыне. У декорации сидел, поджав под себя ноги, балахонник в белой чалме и дудил в длинную дудку какой-то заунывный мотив. Рядом с ним помещался другой балахонник и аккомпанировал ему на бубне, ударяя в бубен то пальцем, то кулаком, то локтем. Вскоре из-за кулис выплыла танцовщица. Она была вся задрапирована в белые широкие одежды. Даже подбородок и рот были завязаны. Из одежд выглядывала только верхняя часть лица с черными глазами и такими же бровями да ступни голых ног. Танец ее заключался в том, что она маленькими шажками переминалась на одном месте и медленно перегибалась корпусом то на один бок, то на другой, то, откинув голову назад, выпяливала вперед живот. Притом по мере наклонения корпуса она страшно косила глазами в ту сторону, в которую наклонялась, или закатывала их под лоб так, что виднелись только одни белки.
– Эк ее кочевряжит! – сказал Николай Иванович, усаживаясь с женой за один из столиков против эстрады.
К ним подбежал чернобородый араб в белой чалме, белой рубахе без пояса и белых шароварах, завязанных около коленок голых, смуглых, волосатых ног, в туфлях, и поднес поднос, на котором стояли два стакана воды и два блюдечка с вареньем.
– С угощением ресторан-то, – проговорил жене Николай Иванович и, крикнув арабу, прибавил: – Нет, брат, мерси. Сладкого не употребляем.
– Отчего же? Ты хотел пить. Вот и напейся. Вода с вареньем – отлично, – перебила его Глафира Семеновна. – Доне, доне…[251]251
Давайте, давайте…
[Закрыть] – обратилась она к арабу и взяла с подноса два стакана, ложечки и два блюдечка варенья. – Вот и пей… – прибавила она мужу.
– Знаешь, Глаша, быть на парижской выставке да зудить холодную воду с вареньем – ой, ой, ой! Не стоило тогда сюда и ехать.
Николай Иванович покачал головой.
– Так чего же ты хочешь? Сам же ты сказал, что ничего хмельного пить не будешь.
– Да уж чего-нибудь арабского, что ли.
– Знаю я твое арабское-то! Коньячищу хочешь.
– Зачем коньячищу! Наверное, у них есть и арабское вино. Половой! Есть у вас вен араб?
Араб смотрел на него удивленными глазами и не понимал, что у него спрашивают. Наконец он пробормотал что-то на непонятном наречии, мешая к разговору и французские слова.
– Не понимаешь! Эх! – вздохнул Николай Иванович. – Глаша, растолкуй ему.
– Зачем же я буду ему растолковывать про вино, ежели ты мне обещался в мусульманском ресторане и держать себя по-мусульмански. Мусульмане вина не пьют. Пей воду с вареньем.
Николай Иванович лизнул варенья и сделал глоток воды. Араб на минуту исчез и вновь подходил с двумя тарелочками, на которых лежали засахаренные плоды. Подав это на подносе, он опять поклонился супругам.
– Да что это, он все сласти да сласти! – воскликнул Николай Иванович. – Дай хоть кофе, мосье половой, что ли… Кофе! Понимаешь?
– Уй, уй… Кафе апре…[252]252
Да, да… Кофе потом…
[Закрыть] – закивал головой араб.
Глафира Семеновна взяла и блюдечки с засахаренными плодами.
– Ты бы спросила хоть почем. Ведь слупят потом, – заметил муж и задал арабу вопрос: – Комбьян?
– Эн франк.
Араб показал один палец в пояснение, исчез и появился в третий раз, поднося на блюдцах по свежей груше, и опять поклонился.
– Зачем? Мы не требовали груш. Ты кофе-то нам подавай. Кафе нуар. Несе вон, несе обратно и принесе кафе… – махал руками Николай Иванович.
– Ту… ту… Пур ту эн франк…[253]253
Все… Все… За все один франк…
[Закрыть] – старался объяснить араб, показывая и на стаканы и блюдца с остатками варенья, и на засахаренные плоды, и на груши.
– За все угощение франк, ешь, – сказала мужу Глафира Семеновна.
– Стану я всякую сладкую дрянь есть! Это же бабья еда.
Николай Иванович отвернулся.
Араб подходил в четвертый раз с подносом и опять кланялся. На подносе на этот раз стояли две чашки черного кофе.
– Ну наконец-то! – И Николай Иванович придвинул к себе чашку, попробовал ложечкой и сказал: – Да он гущу кофейную подал. На смех, что ли! Смотри, одна гуща вместо кофею.
– Да уж, должно быть, так надо по-арабски, – заметила Глафира Семеновна. – Пей…
– Не могу я пить такую дрянь. Это переварки кофейные какие-то! В арабском ресторане – да вдруг пить переварки! Половой! Гарсон! Или араб! Как тебя? Поди сюда! Вене зиси…[254]254
Поди сюда.
[Закрыть]
Араб подходил опять, со стеклянным кальяном уж на этот раз, и снова с поклоном, бережно поставил его у ног Николая Ивановича, протягивая ему в руки гибкую трубку.
– Фу-ты пропасть! Трубку принес… Кальян турецкий принес и заставляет курить, – улыбнулся Николай Иванович, взяв в руки трубку кальяна.
– Кури, кури. Ведь папиросы же куришь, – ободряла Глафира Семеновна.
Николай Иванович затянулся из кальяна, выпустил дым и проговорил:
– Совсем я теперь на манер того турка, что у нас в Петербурге в табачных лавочках рисуют. Только стоит ноги под себя поджать.
– Да вон на диване у стены курит один в красной феске, поджав под себя ноги. Видишь, одет так же, как и ты, в пиджаке, а только феска красная. Пересаживайся на диван и поджимай под себя ноги.
– Выдумай еще что-нибудь. Араб! Мосье араб! Коньяк есть? By заве коньяк?[255]255
Есть у вас коньяк?
[Закрыть] – быстро спросил араба Николай Иванович.
– Послушай! Я не дам тебе пить коньяк! – возвысила голос Глафира Семеновна.
– Только рюмочку, Глаша, маленькую рюмочку. Коньяк ву заве?
– Коньяк? Уй, уй… – закивал головой араб.
– Так апорте эл вер…[256]256
Так принесите стакан…
[Закрыть] Только одну рюмку, Глаша. Я вот в эту воду вылью и выпью. Пить хочется, а голой воды не могу пить.
– Свинья! Своего слова не держишь.
Араб принес графинчик коньяку и рюмку. Николай Иванович, однако, рюмкой не стал отмеривать коньяк, а бухнул в стакан с водой прямо из графинчика, взглянул на жену, улыбнулся и пробормотал:
– Ух, ошибся! А все оттого, что под руку говоришь.
Воду с коньяком он выпил залпом и стал рассчитываться с арабом. За все взяли три франка.
В голове Николая Ивановича приятно шумело. Он повеселел. Коньяк сделал свое дело. Глафира Семеновна была насупившись и молчала. Они вышли из кофейни.
XLVI
Вечерело. Над Парижем спускались уже сумерки, когда супруги обошли ряд восточных построек, составляющих улицу. Пора было помышлять и об обеде.
– Я есть хочу. Ты хочешь кушать, Глаша? – спросил супругу Николай Иванович.
– Еще бы не хотеть! Даже очень хочу. Целый день на ногах, целый день слоняемся по выставке – да чтобы не захотеть! Только не будем обедать на выставке, а пообедаем где-нибудь в городе. Мало ли там ресторанов.
– Ну ладно. А теперь на загладку прокатимся на ослах да и велим вывести нас прямо к выходу.
– Нет, нет. Что ты! Вот еще что выдумал, – воспротивилась Глафира Семеновна.
– Да отчего же? Ослы ведь бегут тихо. Они не то что лошади. Да, кроме того, их под уздцы ослиные извозчики ведут. Опасности, ей-ей, никакой.
– Боюсь, боюсь.
– Бояться, душечка, тут нечего. Ты видела, как давеча англичанка ехала? Самым спокойным манером. Да еще какая англичанка-то! Восьмипудовая и вот с каким брюхом!.. Доехали бы до выхода, а там взяли бы колясочку и велели бы извозчику везти нас в самый лучший ресторан. Чего тут?.. А вечером в театр.
– Да, право, Николай Иваныч, я верхом никогда не езжала.
– Да ведь это осел, а не лошадь, – уговаривал Николай Иванович жену. – Вон даже маленькие девочки ездят. Ну смотри, как маленькая девочка хорошо едет, – указал он на нарядно одетую всадницу лет двенадцати в коротеньком платьице и черных чулках. – А завтра на выставку уж не поехали бы, а отправились бы по магазинам покупать для тебя парижские наряды. Как магазин-то хороший называется, который тебе рекомендовали?
– Магазин де Лувр.
– Ну вот, вот… А только сейчас уж пройдемся на ослах. Пожалуйста, пройдемся. Знаешь, для чего я прошу? Мне хочется похвастаться перед Скалкиными. Сегодня вечером и написали бы им письмо, что ездили мы на ослах с диким арабским проводником, который пел арабские песни, что осел взбесился, закусил удила и помчался прямо по направлению к бушующей реке – еще момент, и ты бы погибла в волнах, но я бросился за тобой и на краю пропасти остановил рассвирепевшего осла…
– Схватив его за хвост? – перебила мужа Глафира Семеновна.
– Зачем же за хвост! Схватил его под уздцы. С опасностью для своей жизни схватил под уздцы.
– Ах, Николай Иваныч, как ты любишь врать! И что это у тебя за манера!
– Не врать, душечка, а просто это для прикраски.
– Да, пожалуй, пойдем. А только ведь никакого удовольствия.
– Ну как никакого! Эй, ослятник! Балахонник! – крикнул Николай Иванович приютившегося около стены погонщика с ослом, но тот не понял зова и не пошевельнулся.
– Постой, постой, – остановила Глафира Семеновна мужа. – Право, я боюсь ехать, – сказала она. – To есть боюсь не осла, а черномазого ослятника. Ну вдруг он начнет хвататься? Уж ежели давеча меня один схватил, когда я и на осла-то не садилась… Ужасные они нахалы.
– А зонтик-то у меня на что? Зонтик об него обломаю, ежели что… Да наконец, и городовой, и публика… Эй, ослятник! Осел! – опять крикнул Николай Иванович и спросил жену: – Как осел по-французски?
– Лянь.
– Ах, так осел-то по-французски ланью называется! А по-нашему, лань совсем другой зверь. Эй, лань! Иси… Ланщик! Подавай!
Балахонник, заметив, что его машут, тотчас же подтащил осла к супругам и оскалил зубы.
– К выходу! К воротам, где ля порт, – сказал Николай Иванович. – Да вот что. Махни-ка второго осла. Эн лань пур ма фам и эн лань пур муа[257]257
Один осел для моей жены и один для меня.
[Закрыть]. Глаша! Да переведи же.
– Де лань. Иль фо ну де лань!..[258]258
Два осла. Нам надо два осла!..
[Закрыть] – перевела Глафира Семеновна и показала балахоннику два пальца.
Тот тотчас пронзительно свистнул, положив два пальца себе в рот, и замахал руками. Откуда-то из-за угла показался еще балахонник с ослом и подвел его в поводу к супругам.
– Садись, Глаша… Давай я тебя подсажу, – сказал Николай Иванович супруге. – Ну облокотись на меня и влезай.
Николай Иванович наклонился. Глафира Семеновна одной рукой схватилась за седло осла, а другой уперлась в спину Николая Ивановича и занесла ногу в стремя, но вдруг вскрикнула:
– Ай, ай! Балахонник за ногу… за ногу хватается!
– Ты что, распроканалия, протобестия, свиное ухо эдакое! – накинулся на балахонника Николай Иванович и замахнулся зонтиком. – Ты за ногу… Ты за пье хвате… Ежели ты, арабская твоя образина…
Балахонник сидел, опустившись на корточки, скалил зубы и бормотал что-то по-своему, показывая себе на ладонь. Наконец он произнес на ломаном французском языке:
– Мете пье, мадам, мете пье…[259]259
Ставьте ногу, мадам, ставьте ногу…
[Закрыть]
– Ах, он хочет, чтоб я ногу ему на руку поставила! – воскликнула Глафира Семеновна. – Вот он почему меня за ногу хватал. Но все-таки как же он смеет самовольно за ногу! Посади меня, Николай Иваныч, на осла.
Но прежде, чем Николай Иваныч бросил свой зонтик и взялся за Глафиру Семеновну, балахонник уже схватил ее в охапку и, как перышко, посадил на осла.
– Стой, стой, мерзавец! – крикнула было Глафира Семеновна, но она уже сидела в седле.
Балахонник издал какой-то гортанный звук и потащил за повод осла.
– Погоди! Погоди! Мы вместе пойдем! – восклицал ему вдогонку Николай Иванович, поспешно карабкался на своего осла, обрывался, опять карабкался и наконец, подсаженный балахонником, уселся и крикнул ему: – Пошел! Дуй белку в хвост и гриву! Догоняй жену!









































