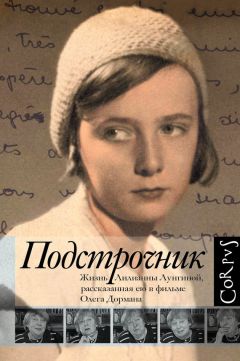
Автор книги: Олег Дорман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
41
У нас жил очень близкий, самый любимый друг Вики Некрасова Исаак Григорьевич Пятигорский. Простой киевский инженер, абсолютно очаровательный человек, исключительной души и доброты. И вот помню, как мы с Симой поехали по каким-то делам в Ленинград, вернулись утром четвертого апреля на «Красной стреле», пришли домой, Исаак Григорьевич нам открывает дверь, стоит в одной пижаме и молча потрясает газетой.
В газете говорилось, что все обвинения против врачей-отравителей ошибочны. Что произошла небольшая ошибка. И чувство счастья, какого-то очищения – я не могу его передать, – чувство, что мы отошли от безумия. Это была минута настоящего счастья.
Можно считать, что с этой даты начинается оттепель. Это еще не оттепель. Но тем не менее.
Конечно, многие продолжали восхвалять Сталина, многие говорили – среди писателей, художников, – что нужно возвеличивать его образ в кино, в театре, в изобразительном искусстве. Константин Симонов утверждал, что до конца века Сталин должен оставаться единственной темой для вдохновения. И все же через какие-то недели, месяцы поползли уже первые статьи другого порядка, а главное – стали появляться люди. Очень вскоре стали выпускать людей из лагерей. Тут услышишь – кто-то вернулся, там услышишь. Этих людей окружали, о них говорили, передавали друг другу то, что они рассказывали. Как-то немножко приподнялась завеса над тем страшным и темным, что творилось. Волна возвращающихся все нарастала и нарастала, и, конечно, это создавало совершенно другой климат в обществе: появилась огромная надежда непонятно даже на что, но на что-то другое. И страх, который был связан со смертью Сталина, когда думали, что будет еще хуже, очень быстро улетучился. От того, что люди стали возвращаться, возникла уверенность, что хуже не будет. В любом случае будет не хуже. А может, будет и лучше.
Теперь вместо одного было четыре хозяина: Маленков, Хрущев, Берия и Молотов[27]27
После смерти Сталина Г. М. Маленков, секретарь ЦК, стал главой правительства; ушел с поста 9 февраля 1955 г. Н. С. Хрущев, секретарь ЦК, после смерти Сталина избран первым секретарем на пленуме ЦК партии в сентябре 1953 г. Смещен 15 октября 1964 г. Л. П. Берия в 1938 г. назначен главой НКВД. В 1946 г. он был снят с этого поста, но, став членом Политбюро ЦК, фактически сохранил контроль над органами безопасности. После смерти Сталина назначен министром внутренних дел, в июне 1953 г. смещен, предан суду и расстрелян.
[Закрыть]. Маленков сразу стал популярен среди колхозников, потому что чуть-чуть облегчил их тяготы, снизил налоги. Повсюду о нем говорили как о спасителе, в очередях, на рынке, в электричках, его фотография висела в избах рядом с иконами. Никогда не забуду историю, которую рассказал мне наш друг Володя Тендряков. Теперь его мало знают, вообще это замечательный писатель, один из лучших прозаиков шестидесятых годов, из самых честных, правдивых, искренних авторов, писавших про деревню, что было тогда чрезвычайно важно. Он поехал навестить свою мать в родное село. Где-то на севере, в полусотне километров от железной дороги. На станции его никто не встретил, и пришлось заночевать в каком-то доме неподалеку. Там был парнишка лет девяти-десяти. Володя угостил его куском сахара. Мальчик не взял: он принял сахар за мел. Он в жизни не видал куска сахара.
Мотина сестра Полька, которая была не в состоянии сдать в колхоз столько масла, молока и яиц, сколько от нее требовалось, приезжала два раза в год в Москву, чтобы их закупить и сдать в колхоз. А поскольку денег у нее не было, в магазин шла я, и мы вместе с ней выстаивали по нескольку очередей, чтобы закупить нужные двадцать кило масла, так как в одни руки отпускалось не больше двух килограммов. И вот с ведрами масла и яиц и с мешками проса она триумфально возвращалась в свой колхоз.
Электрички были набиты тысячами таких женщин, навьюченных мешками и возвращавшихся к себе в деревню. Помню, однажды в электричке незнакомый парень, простой, лет двадцати двух – двадцати трех, мне вдруг сказал: «Знаете, что они везут? Хлеб! Поглядите на эти мешки – они из столицы везут в деревню сухари да баранки… Россия-то пропала!»
Однако первые шаги нового правительства вселяли осторожную надежду. Летом 1953 года Сима был с театром Станиславского в Одессе. Я поехала к нему, взяв с собой Павлика, которому было тогда четыре года. Однажды утром мы провожали Симу на репетицию, шли по центральной аллее приморского парка. Вдоль по обеим сторонам стояли огромные портреты членов Политбюро. Вдруг мы услышали какой-то странный звук. Мы прошли еще немного и увидели невероятную сцену: четверо мужиков с топорами крушили портрет Берии. Подошел Симин коллега, остановился как вкопанный, потом тихо сказал: «Ребята, это фашистский переворот». Так мы узнали о падении Берии.
42
Среди вернувшихся – не из лагеря, но из ссылки – была Люся Товалева.
Ее реабилитировали, она смогла переехать в Москву, где и прожила потом всю жизнь. Стала преподавать немецкий в консерватории, ее обожали студенты, Люся переводила книги по музыке, труды композиторов, она перевела на русский письма Шумана, Бетховена – и старалась никогда не вспоминать о прошлом.
Среди возвратившихся из лагерей был Леонид Ефимович Пинский.
Его арестовали поздней осенью сорок девятого года. Накануне мы втроем – Сима, он и я – гуляли в каком-то московском парке, в Измайлово, кажется. Они с Симой почему-то купили четвертинку и на ходу, гуляючи, ее распили. В общем, было веселое и хорошее настроение, и мы договорились встретиться через два дня – телефона у него не было, он жил в университетском общежитии. Прошел день после той даты, когда он должен был приехать, второй, а на третий мне позвонила одна его ученица и сказала: я ездила к Леониду Ефимовичу за своей работой – его дверь опечатана. Так мы узнали, что он арестован.
Сведений о нем было очень мало, когда он сидел. И в какой-то момент мы с Симой договорились, что я могу ему написать. Это был какой-то новый этап в моем сознании. Я написала в лагерь, и в последний год мы обменялись двумя-тремя письмами. Вернее, мы получили от него только одно, потому что там писать можно было только раз в три месяца, что-то в этом роде. А я ему два-три написала за это время. И очень была горда тем, что смогла преодолеть страх, запрет.
Он вернулся и рассказал то, что, впрочем, можно было и предполагать. Был такой известный в Москве литератор по фамилии Эльсберг. Человек довольно блестящий, известный прежде всего своими книгами о Герцене, большой говорун, любитель рассказывать всякие истории, – не только ученый, но и, так сказать, светский человек. О нем ходили плохие слухи. Говорили, что он причастен к аресту Бабеля. Две дочери писателя Левидова, арестованного в тридцать восьмом году, заклинали меня предупредить Пинского о грозящей ему опасности. А Эльсберг вдруг прикипел к Пинскому. Он, как и Леонид Ефимович, читал в университете лекции, преподавал теорию литературы. После лекций не уходил, ждал часами Леню, чтобы его проводить домой, чтобы с ним походить-поговорить. А разговаривать с Эльсбергом было интересно, потому что это был человек широко мыслящий. И я все говорила: Леня, эти прогулки к добру не приведут. Он отвечал: глупости, я с ним уже почти год разговариваю, я уже ему наговорил такого, что меня десять раз бы посадили. Все это чепуха, все это страхи.
Ну, как выяснилось, Леня ошибался. Когда он вернулся в самом начале 55‑го года, то рассказал нам, что это был именно Эльсберг. Что Эльсберг, оказывается, после каждой беседы с ним не ленился садиться за письменный стол и подробно излагать, о чем шла речь. И получился довольно объемистый материал.
На пересылке Леня встретился с таким профессором Штейнбергом, востоковедом, который был Эльсбергу не то что друг-приятель, как Леня, а просто, можно сказать, брат родной. Штейнберг с женой Эльсберга обожали. Когда жена Штейнберга покупала рубашку, или костюм, или что-нибудь своему мужу, она всегда покупала и Эльсбергу. Все дни рождения, все праздники, все приемы Эльсберг устраивал в доме у Штейнбергов. Это был самый близкий, самый родной человек. Однако выяснилось, что и на Штейнберга он писал. Когда Штейнберга арестовали, его жена, естественно, побежала в ту же ночь к Эльсбергу. Он стал давать ей советы, куда спрятать какие рукописи и прочее. Часть вещей взял к себе. И месяц-другой как бы опекал и помогал им – там девочка еще была, дочка. И Штейнберг, который в ходе допросов совершенно ясно понял, кто его посадил, сумел написать записочку во время пересылки и выбросить ее из вагона. И вот нашелся добрый человек, который эту записку положил в конверт – там был адрес написан – и доставил. И жена получила эту записку, где было сказано, что во всем виноват Эльсберг, но только, ради бога, не дай ему понять, что ты знаешь, продолжай делать вид, будто ничего не случилось. И вот эта женщина в течение пяти лет продолжала водить дружбу с Эльсбергом и жить под его покровительством. Я потом этот рассказ слышала от нее самой. Когда Леня вернулся, он повел меня к ним в дом, и она сама, волнуясь, хотя все было давно пережито, трясясь просто от волнения, мне все это рассказывала.
Когда Штейнберг вернулся, Эльсберг пришел к ним. Купил немыслимой ценности редчайшее издание какого-то восточного автора, огромный букет роз и сказал: я пришел с покаянием. Я виноват. Не отрицаю. Все равно я вас люблю.
Но был спущен с лестницы.
Было сделано большое усилие, и несколько человек подали на него в суд за клевету, в том числе Штейнберг и Пинский, поскольку они были реабилитированы. Суд не принял дело к производству. Но состоялось собрание в Союзе писателей, и Эльсберга исключили. Не волнуйтесь, очень скоро он был вновь принят в этот союз. Но вот что мне хочется добавить, это очень характерно: молодые люди нового поколения, потом ставшие довольно известными литераторами, такие, как Кожинов, в момент всей этой истории вокруг Эльсберга проявляли к нему необычайные симпатии. А он вел тогда очень такой вольный семинар, где молодежь могла свободно высказываться, – он был большой либерал. И вот эти молодые люди окружали его любовью, вниманием и оправдывали его так: все предавали. Нечего его выделять. Что вы вцепились в одного человека? Время было такое, когда все друг друга выдавали. И нечего пытаться очистить свою совесть, рассчитываясь с одним. Мне кажется, это интересно как мотивация и вообще. Конечно, это все дико. Но так было. Мне хочется, чтобы это осталось в памяти людей.
43
Главным событием следующих лет стал доклад Хрущева. Через три года после смерти Сталина – в 56‑м, на съезде партии. Он не был опубликован, только зачитан на закрытых партсобраниях. Опубликовали его только в конце восьмидесятых годов. Он как бы предназначался исключительно партийцам. Но при том, что он не был опубликован и читался только устно, он стал известен всем, кто хоть мало-мальски грамотен.
Это был настоящий взрыв атомной бомбы. Хотя многое из того, о чем говорил Никита, люди уже знали. Скажем, для меня и для Симы там вообще не было ничего нового. Включая намек на то, что Сталин убил Кирова. Да и все остальное, о «культе личности», – все это мы, конечно, знали. Но даже для нас сам факт, что это произнесено вслух, сформулировано, менял что-то. Для других же, для тех, которые пытались идти за лозунгами партии, это было такое потрясение…
Фадеев, автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», покончил с собой, выстрелил себе в сердце. В «Правде» написали, что это было следствием душевного заболевания, связанного с алкоголизмом. Он действительно спивался после войны, находил собутыльников в самых низах, не из писателей, и неделями пропадал в каких-то трущобах. Но официальному объяснению никто не поверил. Все знали, что Фадеев как первый секретарь Союза писателей лично подписывал санкции на арест своих коллег. Для советской системы принципиально важно было запятнать всех. Каждый руководитель должен был нести свою долю ответственности, поскольку давал письменное согласие на арест подчиненных. А остальные одобряли приговор голосованием. Но Фадеев не был циником, в отличие, скажем, от Суркова, который ради получения должности шел на все; не был тупым невеждой вроде Панферова, главреда журнала «Октябрь», автора романов, над которыми потешалась вся Москва. Фадеев с шестнадцати лет участвовал в Гражданской войне и любил повторять, что он – солдат революции и его единственная цель – служить ее делу. Для него, как и для большинства в его поколении, дело революции олицетворял Сталин. Фадеев ему поклонялся, не раз говорил, что Сталин – это Ленин сегодня. Даже публично поклялся, на своем пятидесятилетнем юбилее, посвятить творчество прославлению Сталина. При том, что отношения Фадеева со Сталиным, который иногда приглашал его поужинать в узком кругу, были непростыми. Сталин любил унижать людей, и Фадеев не составлял исключения. Зелинский, которого я уже упоминала в связи с судьбой Марины Цветаевой и который был близким другом Фадеева, сразу после его гибели написал записки, воспоминания, которые, конечно, не могли быть опубликованы до конца восьмидесятых. Из них стал известен рассказ Фадеева, который он доверил Зелинскому, о том, как Сталин однажды вызвал его в Кремль и, не предложив сесть, вправлял мозги и говорил, что вы никуда не годный секретарь, вокруг вас матерые шпионы, а вы их в упор не видите. «Ну, если вы такой беспомощный, товарищ Фадеев, то я вам укажу их имена. Павленко[28]28
П. А. Павленко (1899–1951) – писатель, автор романа «Счастье» (1947), соавтор (вместе с С. М. Эйзенштейном) сценария к фильму «Александр Невский».
[Закрыть], ваш близкий друг, – крупный шпион. Эренбург – международный шпион, не делайте вид, что не знаете. Алексей Толстой – английский шпион. Почему вы их не разоблачили, товарищ Фадеев, а? Идите и подумайте над своим поведением».
Когда было объявлено, что товарищ Сталин больше не бог, Фадеев сломался. А после возвращения некоторых писателей, переживших ГУЛАГ, стал неузнаваем. Нам рассказывали, что он безумно боялся встретиться с людьми, которых когда-то принес в жертву. Зелинский пишет, что Фадеев сказал ему за неделю до самоубийства: теперь мы все в дерьме, никто из нас уже не может писать после всего, что произошло, ни Шолохов, ни я – никто из нашего поколения…
И в нашем с Симой кругу я знала людей, которые после доклада Хрущева хотели покончить с собой, впадали в тяжелейшую депрессию. Даже мой дорогой и любимый друг Нёмочка Кацман-Наумов – он был человеком очень думающим, но до этого момента пытался всё как-то оправдать, старался жить в едином потоке с главным направлением, был членом партии, – даже он оказался в числе тех, кто был абсолютно потрясен, болен, раздавлен этим.
Я думаю, были люди, которые поверили, но сделали вид, что не поверили, чтобы легче жилось. Были, конечно, и люди, которые не поверили, которые считали, что это самоутверждение Никиты, борьба за власть. И тем не менее это было решающим шагом, после которого каждый занял какую-то позицию. После этого нужно было оказаться в каком-то поле. И все оказались – каждый в своем. И для очень многих людей, активных, честных, стремившихся жить единой, а не раздвоенной жизнью, уже невозможно было сойти с пути отрицания, разоблачения, осуждения и активной попытки подточить режим.
44
Первые ласточки оттепели – неслыханной смелости статьи в «Новом мире», ставившие под вопрос священные понятия: соцреализм и партийность литературы. В первую очередь – статья Померанцева «Об искренности в литературе». Номер с этой статьей исчез из киосков в мгновенье ока – шел нарасхват. А мы с Симой получали «Новый мир» по подписке, и у нас собралось человек пятнадцать друзей, чтобы почитать вслух. Марк Щеглов, очень талантливый молодой критик, вскоре, к несчастью, умерший, критиковал в «Новом мире» роман «Русский лес» Леонида Леонова – Леонов был одним из динозавров сталинской литературы, до той поры неприкосновенных. А Эмиль Кардин вообще утверждал, что крейсер «Аврора» вовсе не давал исторического залпа, который, как мы знали из всех учебников, послужил сигналом к началу Октябрьской революции.
Потом появились рассказы Паустовского, повесть Эренбурга, которая называлась «Оттепель» и дала имя всему этому периоду, а главное – эпохальная для того времени книжка Дудинцева «Не хлебом единым». Сначала ее напечатали в журнале, потом издали в «Роман-газете», в мягкой обложке. Книжки не было. Все экземпляры были зачитаны не то что до дыр, а в лохмотья, в клочья. Не было за все советское время, могу это смело сказать, ни одной книги, ни до ни после – и даже Солженицын не идет ни в какое сравнение, – которую бы так зачитали, как эту.
Потому что это было что-то очень примитивное, простое, но касающееся огромного количества людей. Это была – грубо говоря, схематически – история инженера, который придумал способ модернизировать предприятие и сэкономить миллионы рублей и не мог пробиться сквозь бюрократическую стену. Вот такая история. Очевидно, что-то похожее пережил каждый, скажем, третий или пятый инженер. Так же как Некрасов первым сказал правду о войне, Дудинцев первым показал абсурдность всей нашей производственной системы. Поэтому это действительно стало массовым чтением. Тут очень интересно, как явление литературы и жизни духа превратилось в какое-то массовое… не увлечение, нет, а в массовое богатство людей. Реакционеры сурово реагировали на эту книгу, особенно писатели, – они боялись, что если начать так писать, то их царству придет конец. И устроили обсуждение в Союзе писателей. Было такое скопление народа, что прислали конную милицию. Она охраняла входы и не давала людям войти в дом Союза писателей.
Появилась в те годы плеяда новых поэтов. В первую очередь – Евтушенко, но вокруг него – Белла Ахмадулина, самая талантливая из этой группки, Вознесенский, Рождественский того времени, потом он отошел. Дело здесь было не в каких-то политических позициях, хотя Евтушенко писал и политические вещи. Это было что-то очень живое, очень свежее, очень подлинное. И люди страшно увлекались их стихами. Вскоре пошли эти грандиозные чтения, когда на спортивных стадионах выступали поэты и стадион не мог вместить всех желающих.
Другого такого времени потом уже не было. Все жаждали услышать свежее, живое слово. Я думаю, это была тоска по чему-то живому, теплому, человечному. Ведь целлулоидная литература тех лет отбила у людей желание ее читать, а все-таки потребность в поэзии живет, особенно у молодежи. И вот когда вдруг прорвалось сквозь это искусственное мертвое царство живое человеческое слово, то увлечение было невероятным. Надо еще сказать, что в этих больших чтениях на стадионах было соучастие публики – ребята кричали с мест, просили то, другое: они были не только слушателями, это было некое действо, социальное действо, в котором все присутствующие были соучастниками. И это было замечательное, удивительное явление. Я думаю, нигде в мире вообще не было ничего похожего – чтобы целые стадионы собирались слушать поэзию.
Однажды Вика привел Евтушенко к нам обедать.
И когда Евтушенко пришел, он произвел на нас с Симой удручающее впечатление. Он был одет как жар-птица. На нем был какой-то зеленый пиджак, рыжая рубашка, лиловый галстук бантиком почему-то. Невероятная пестрота, хотелось надеть темные очки. И держался он, ну… крайне бахвальствовал, все время говорил я то, я се, – влюбленный в себя, обожающий себя, довольный собою человек.
И произвел комическое впечатление. Но он нас позвал на следующий вечер в какой-то технологический институт, где должен был читать стихи. И мы решили поехать. Хотя я говорила: может, не стоит? Нет, – все-таки ребята сказали, – поедем. И мы с Викой и Симой поехали. И это тоже на всю жизнь. Какие есть варианты в одной и той же личности. Это был совершенно другой человек. Он был строго одет, в темном коричневом костюме, он замечательно читал свои стихи и замечательно их отобрал. Сказать, что зал в этом институте был набит, – это ничего не сказать: там буквально висели на лампе, на потолке. И отклик… Это был настоящий народный трибун. Он вытащил на свет все политическое, все, что у него было, и произвел неизгладимое впечатление не только на этих ребят, но и на нас.
Действительно он был как двуликий Янус. В нем оказались две совершенно разные стороны. Я думаю, что так он и прошел, и сейчас еще идет по жизни: то делает удивительные вещи, например написал «Бабий Яр» – все-таки, не забудем, первое открытое провозглашение решительного осуждения антисемитизма, что встретило страшное противодействие, у него была масса неприятностей из‑за этого и из‑за многих других стихов. Но вместе с тем писал – не помню, в какой поэме, – что у него с левой стороны вместо сердца бьется партбилет. Такое он тоже писал. Этот партбилет, который бьется слева, я забыть ему не могу. Он как-то уравновешивал то и другое. Тем не менее, я думаю, его роль в каком-то движении идей этих лет была очень важной. Потом, при Брежневе, популярность Евтушенко упала, но он продолжал пользоваться особыми привилегиями – ему, например, разрешалось регулярно посещать Америку, – и в какой-то мере, в эпоху гораздо менее жесткую, он сыграл роль, сходную с ролью Эренбурга в свое время. Он был в контакте с Андроповым, тогдашним главой КГБ, и сам мне рассказывал, когда мы оказались вместе в Крыму, что, когда арестовали Солженицына, звонил Андропову и убеждал его не ссылать Солженицына в Сибирь. И конечно, очень жалко, что его не выбрали, хотя несколько раз пытались выбрать председателем Союза писателей. Все-таки по своим симпатиям он человек, конечно, либерального толка. Он просто умело балансировал, чтобы всегда оставаться на плаву. Он и прошел на плаву.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































