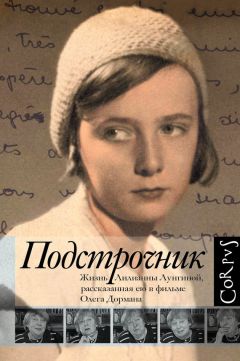
Автор книги: Олег Дорман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Если подводить еще итоги моей жизни, то, конечно, главное в ней – это два сына. У нас с Симой два больших мальчика. Одному, Павлику Лунгину, уже 48 лет будет. И если раньше о Павлике говорили «это сын Семена Лунгина», то теперь говорят… говорили о Симе, пока он был жив, «это отец Павлика Лунгина». Он стал в одночасье, каким-то довольно странным и несколько чудесным образом, кинорежиссером, хотя до этого долго искал своего пути. Вообще у нас мальчики в семье поздние в том смысле, что поздно находят свой путь: они долго ищут и не могут определиться. Павлик учился на матлингвиста. Это были годы, когда стала модной совершенно идиотская профессия, которой на самом деле не существует. Лингвистика лингвистикой, математика математикой, а никакой матлингвистики нет. Ну вот, Павлик очень гордо кончил эту матлингвистику, потом поступил работать в Институт конкретной социологии. Был такой институт в Москве. Через полтора года его оттуда выгнали, потому что появился новый директор и сказал: «Я не люблю бородатых молодых людей, которые ходят по коридорам и иронично посматривают по сторонам. Сбрейте бороду». На что Павлик ему ответил, не сходя с места: когда я могу подать заявление об уходе? И вот Павлик, уже с женой Таней и маленьким сыном Сашей, оказался без работы. Жили они у нас. А тогда еще свирепствовала «борьба с тунеядством». И мы ужасно испугались. что его схватят, как Бродского, и куда-нибудь сошлют. Процесс Бродского получил большую огласку, но вообще такого типа процессов и выселения молодых людей на грани диссидентства – а Павлик, конечно, был на границе диссидентства – было немало. Ища спасения, мы все подумали, что он может пойти на Высшие сценарные и режиссерские курсы, где Сима преподавал много лет. Павлик действительно туда поступил, стал писать сценарии. Сценарии довольно милые, но хороших фильмов не получалось. Это были совсем другие годы, чем те, когда его отец дебютировал. Режиссеры очень слабые, и вообще середина брежневского времени была средневековьем каким-то. Это были годы медленного, но непрестанного гниения, болото, где все колыхалось назад-вперед. Что-то немножко лучше, что-то немножко хуже. Общество загнивало. И мы все были глубоко убеждены – я уже говорила, – что так и умрем в болоте, что гнить нам до конца наших дней. И конечно, тогда хороший фильм был большой редкостью, для него настоящей базы не было.
Павлик очень хотел сам снимать свои картины. Ему не разрешали, потому что не было режиссерского образования. Перестройка все изменила. И во-первых, как-то расковала его изнутри. Он написал сценарий более смелый, чем писал до сих пор, то есть перестал быть сам себе цензором. Ведь мы все в какой-то степени на протяжении многих лет были собственными цензорами: каждый, кто писал и желал увидеть это на сцене или на экране, рассчитывал, до какой точки свободы можно дойти, где край возможного. А тут Павлик написал очень свободно, и так получилось, что иностранный продюсер, интересовавшийся авторским кино, предложил ему снимать самому. Павлик был счастлив и, к нашему с Симой великому испугу, кинулся в эту авантюру, притом честно признавшись продюсеру, что в жизни еще не снял ни одного метра. Он, уже сорокалетним человеком, сделал фильм «Такси-блюз», который в Каннах получил премию за лучшую режиссуру, что было невероятным счастьем, и мы с Симой подымались по этой знаменитой каннской лестнице, устланной ковром, и радио орало на всех каннских перекрестках, что вот идут родители режиссера Павла Лунгина… Это все было совершенно необычайно трогательно, прекрасно и торжественно. Павлик идет по этому пути, и мы, конечно, им очень гордимся, считаем, что все это замечательно, что с ним случилось.
Между сыновьями одиннадцать лет разницы. Они и похожи и разные. Женя увлекался с детства театром, хотел быть актером, его собиралась снимать Инна Туманян в фильме «Мальчик и лось» по Симиному сценарию. Там герой Женькиного возраста, а у Женьки было очень милое фотогеничное лицо, и он мечтал, умирал, как хотел сниматься. Все думали, и сама Инна в первую очередь, что вопрос решен. Но худсовет, который утверждает актеров, сказал: просвечивает еврейство, не надо. И это стало для Жени сигналом, что он не сможет здесь быть актером. Поскольку это еврейство, вероятно, всегда будет просвечивать.
И Женя пошел в ГИТИС на театроведческий. Но рана осталась глубокая. Вообще у детей такие обиды западают глубже, чем у взрослых. Думаю, взрослый человек справился бы: ну, не взяли – потом возьмут, мало ли что. А для Жени это стало моментом отторжения. А потом, поняв невозможность устроиться на работу с «пятым пунктом», он решил во что бы то ни стало уехать. Принялся дружить со всякими иностранными девочками, выдумывал, что в них влюблен, – по-моему, исключительно чтобы жениться и уехать. И так и получилось. Он женился на итальянской девочке, уехал в Падую, но было ясно, что этот брак выдуманный, что ничего он не влюблен, а все себе напридумал. И действительно, на третью неделю они поссорились, разошлись. Он ушел из дому ночью и больше никогда к ней не приходил. Начались его годы странствий за границей. В конце концов он попал к моим друзьям Вернанам, они вызвали его к себе, и Женя с тех пор жил в Париже. Но он тоже заболел кино. Сделал фильм на франко-русские деньги – «Ангелы в раю». Пытается делать следующий, ему тридцать шесть лет, он еще ищет свой путь, и я уверена, что он рано или поздно его найдет.
Вот это, конечно, главный итог.
Есть еще у нас внуки. Есть большой, двадцатичетырехлетний, внук Саша, Пашкин сын, и есть двое внуков в Париже, потому что Женя женился на француженке. Мальчик, которому шесть с половиной лет и которого зовут Антуан, и девочка трех с половиной лет по имени Анна. И Женя очень тщательно следит, чтобы, не дай бог, ее не звали Ани, на французский лад. Нет, ее зовут Анна, у нее русское имя Анна. К сожалению, они по-русски не знают ни одного слова. Может быть, «здравствуй» и «спасибо». Они живут в Париже со своей мамой, и Женя с ними жил до той минуты, пока не свихнулся на кино и не стал совершенно одержимым идеей тоже снимать фильмы. Конечно, такие фильмы снимать можно только здесь, то есть здесь-то их снимать нельзя, потому что нет денег, но во Франции их тем более снимать невозможно. И вот Женя живет уже полтора года в Москве, со мной, в надежде, что все-таки что-нибудь получится.
С Антуаном мы разговариваем по телефону, и он меня спрашивает: ты мне объясни, пожалуйста, почему у всех папы работают в Париже, а мой папа работает в какой-то Москве? И мне трудно ему объяснить, почему это так. Я говорю: ну знаешь, так бывает во взрослой жизни, бывают всякие трудные ситуации. А он мне говорит: тогда я не хочу взрослеть.
Еще остаются ученики. И у Симы и у меня. У Симы – понятно: он лет двадцать вел сценарную мастерскую вдвоем с нашей близкой подругой Милой Голубкиной на Высших сценарных курсах. И эти ребята остались ему верны. Я убедилась в этом в ужасный момент жизни, когда Симы не стало. Я получала письма от людей, кончивших мастерскую много лет тому назад, и видела, до какой степени жив в них образ Симы, как жива память о нем. А значит, и он как-то жив. Сквозь них. Они рассказывали, что перед тем, как начать писать, всегда как бы спрашивают его совета, мысленно разговаривают с ним о замысле. Утешения не может быть, но какую-то радость это приносит.
Есть, странным образом, ученики и у меня. Потому что лет пятнадцать тому назад Павлик стал меня подначивать: мама, ты все переводишь вещи общедоступные, сделай книжку, которую нельзя переводить, и сумей ее напечатать. Поставив передо мной такую задачу, он мне и подсказал, что это должно быть. Есть такой французский писатель, давно умерший, Борис Виан. Он не мог быть напечатан не по политическим соображениям, а по художественным, из‑за самого метода художественного изложения. И вот я решила действительно не отступить перед этой задачей и перевела его маленький роман «Пена дней». А в этот момент меня попросили вести семинар для молодых переводчиков с французского – выпускников университета и иняза. Я позвала Нёмочку Наумова вести этот семинар вместе со мной, и мы вдвоем решили – что было совсем дерзко – раздать нашим ребятам для перевода по рассказу Виана.
Более трудного прозаика для перевода, по-моему, не существует – это как стихи переводить. Потому что Виан весь в игре слов, в ассоциациях, в идиомах, которым не найти эквивалента в русском языке, поскольку идиоматические выражения в каждом языке свои и вся игра строится на французской фразеологии. Значит, какая стоит в таких случаях задача? Если говорить вкратце, надо обязательно найти собственную, совсем другую идиому или игру слов, часто в десяти верстах от французской, но которая вызывает то же чувство, ту же ассоциацию. Это крайне трудная задача, это действительно как строчка стихотворения, образ стихотворения, ничуть не легче. Я очень долго переводила «Пену дней». Шесть с половиной листов, наверное, переводила почти два года по полстранички, по страничке в день, и то не каждый день.
В целом сборник Виана делался три года. Редактор, который его вел, очень симпатичный человек, мне все говорил: Лиля, только не спешите, пусть директор уйдет в отпуск, пусть этот заболеет, тот перейдет на другую работу… Потому что томик надо было продвигать по инстанциям, обходя возможные опасности. Виан в преди-словии пишет, что на свете нет ничего, ради чего стоит жить, кроме красивых девочек и джазовой музыки. Ну можно ли такую книжку переводить и печатать в Советском Союзе? К сожалению, сам этот редактор до выхода сборника не дожил. А книга, как ни удивительно, была опубликована. Ну, имела успех – это не то слово: она как капля воды в сухой песок просочилась в одно мгновение.
Мы работали замечательно. У каждого рассказа был переводчик и два его оппонента. Но дело не только в переводе. Как, впрочем, и у Симы на занятиях. Мы вообще говорили о многом. Я считаю, что мы с Нёмой этих ребят в какой-то мере и воспитали немножко, и пустили их в жизнь с какими-то нашими идеями. Трое из них получились просто замечательными переводчиками, я думаю, лучшими из ныне существующих в этом поколении. Наташа Мавлевич, Ира Истратова, Нина Хотинская. Семинар не работает уже больше десяти лет, но наша дружба продолжается. И мне очень приятно, что теперь Наташа Мавлевич сама ведет такой семинар и как бы дальше передает эстафету. У нее занимаются десять человек, и они продолжают нами с Нёмой начатое дело.
Я хочу сказать, что жизнь, обещавшая быть такой трудной, оказалась полна свершений мечты. Самые разные наши мечты осуществились. В последний раз за границей мы объехали пол-Европы. Ездили по Италии замечательно. Были в Венеции. Были немножко в Испании, в Барселоне, видели Гауди, которого нас Вика научил любить. Он обожал Гауди, у него был альбом Гауди, когда еще ни у кого не было, и мы как-то привыкли к этим невероятно странным сооружениям, и было счастьем их увидеть воочию. Были в Амстердаме и в Брюгге. Слышали, как впервые исполнялась «Мистерия апостола Павла», которую Сима написал с нашим другом, композитором Николаем Каретниковым.
Эти замечательные поездки прибавились к тем удивительным путешествиям, которые мы совершали, когда уезжать за границу было нельзя. Трижды ходили по перевалам Сванетии. Веснами с целой когортой Пашкиных друзей ходили на байдарках.
Последняя наша поездка за границу длилась одиннадцать месяцев. Мы приехали двадцатого декабря в Москву, у Симы случился третий инфаркт, и двадцать девятого января девяносто шестого года за полтора часа его не стало.
Оставшись без него, я живу совсем другой жизнью. Моя жизнь ничуть не похожа на ту, в которой мы жили вместе. В общем, думаю, я теперь знаю, что такое горе. Это отсутствие желаний. На самом деле, ничего не хочется. Почти ничего. Очень мало что. Но мне очень хочется, конечно, чтобы Женя нашел свой путь. Мне очень хочется, чтобы переиздали Симину книгу, которую я упомянула, – она вышла в самые первые дни перестройки и поэтому не получила должного отклика. Называется «Виденное наяву» и подводит итоги его размышлениям о своеобразии письма для кино и театра. И не только. Вот хочется мне, чтоб эта книжка была переиздана.
Мне хочется, чтобы обязательно издали одну книгу, которую я перевела еще десять лет назад. Она называется «История, конца которой нет» Михаэля Энде. Моя подруга, переводчица Александра Исаевна Исаева, к сожалению, в этом году умершая, тоже очень хотела это переводить, и мы с ней поделили работу пополам. Тем временем произошла перестройка, «Детгиз» практически перестал существовать, и книга лежала у них, потому что за нее нужно платить валюту иностранным издателям, у которых были права. А валюты не было.
Я решила, что напишу этому Михаэлю Энде, в которого я просто влюбилась за его взгляд на мир, за его понимание многогранности этого мира, за его исключительную доброту и немыслимую фантазию. Я решила, что если я напишу хорошее письмо, то, может быть, он разрешит нам издать книгу бесплатно. Знала я о нем только то, что он весьма таинственный писатель, что у него вилла под Римом, где он живет со своей женой, мало общается с миром и что у него есть такие теософские идеи, симпатии – это чувствуется и по концепции книги тоже. Адрес его, мне сказали, достать невозможно. Я написала в издательство. Мысль этого письма была следующая: Вы, который умеет так наклониться над всеми острыми вопросами, так к ним прислушаться… Нашим детям нужна духовная помощь не меньше, чем материальная. И Ваша книга, где так четко обозначены границы добра и зла, – она просто необходима для наших детей. Я Вас очень прошу, помогите нам ее издать, денег нет, никто не дает валюту, у нас с валютой очень плохо, – но пусть это будет ваша гуманитарная помощь.
Каково же было мое разочарование, когда я ответа не получила. Я написала второе письмо… Дорогой Михаэль, разрешите мне Вас так называть – «дорогой» – это не фраза, не формула вежливости, Вы мне действительно стали дороги, я Вас умоляю, ответьте мне… Он не ответил. Но ответило издательство. Выяснилось, что у него никаких прав нет на эту книгу, он все передал штутгартскому издательству. Они ведут все финансовые переговоры. Я написала им третье письмо – и они назначили цену за авторские права в пять тысяч немецких марок. Это немного, но и этого не было. Ничего не получалось. И вдруг я получаю письмо от издательства, где написано, что Михаэль Энде предложил Вашу кандидатуру на стипендию в Мюнхене; мы полагаем, раз Энде предложил, Вы, наверное, ее получите. Я думаю – значит, читал мои письма, значит, я их, может быть, не зря писала? И действительно, через две недели получаю подтверждение, что мне дается двухмесячная стипендия с возможностью поехать в Мюнхен и там работать. Три человека могут приехать на эту стипендию, там такой замок – вилла Берте называется, в ней дают квартиру. И мы с Симой поехали. Кругом божественный парк, озеро… Но у меня была, естественно, одна забота – как бы мне с Энде встретиться? Я всех спрашиваю – да, он живет в Мюнхене, но строго запрещено давать его телефон, адрес, – он недосягаем.
Звоню своей редакторше, говорю: послушайте, мне нужно как-то увидеть Энде. Ну, это же дико – мы живем в одном городе. «Я ему передам», даже – «мы», «мы ему передадим, но, думаем, из этого ничего не получится».
Я была вполне разочарована. И вот через два или три дня меня зовут к телефону, и какой-то незнакомый голос говорит: «Их Михаэль Энде»…
Я обомлела. Он говорит: «А знаете, мне дали вот ваш телефон, я очень хочу вас видеть!» Я говорю: «Я тоже хочу вас видеть!»
Было страшно, я боялась. Причем он пригласил очень странно – встретиться на Ратушной площади. В три часа в воскресенье. Я думаю, что ж, поведет, небось, нас в кафе на пятнадцать минут угостить чашечкой кофе и ничего вообще не получится. В сомнениях и мучениях, мы отправились туда, и выяснилось, что сегодня масленица. Что вообще встретить кого-либо и узнать там невозможно. На этой площади играют пять оркестров, полно костюмированных людей, все танцуют, ну как нам встретиться? Мы стали под условленными часами. Я думаю – все, ничего у нас не получится, он просто нас не найдет. И смотрю – на некотором отдалении стоит человек. Он необычайно мне понравился внешне. Немного похож на Вику Некрасова, тот же тип внешности: проваленные щеки, высокий, худощавый. Очень привлекательного, в общем, вида. Я говорю: «Сим, хорошо бы это был он!» А я сказала, во что буду одета (черная курточка и прочее). Человек смотрит – и идет прямо к нам. Это, конечно, оказался он. Я думаю, что же дальше будет? Он повел нас к себе домой. Его любимая жена, с которой он жил под Римом, умерла, и он женился на японке, но не на молодой хорошенькой японочке, а на старой переводчице. Это было так странно – эта пожилая японка, рядом с ней он выглядел еще очень молодо и прекрасно. И вот что он сделал: у него огромная гостиная, и из этой гостиной он выделил японский уголок. Чтобы ей не было скучно, как он нам объяснил. Там поднят пол, циновки, какие-то украшения, в общем, внутри гостиной – японский уголок. А на стенах висят замечательные картины. Я вспомнила, что его отец был авангардистский художник, которого преследовали (нацисты, как и Советская власть, не любили авангардизма), но после разгрома гитлеризма получил признание.
Мы стали разговаривать, и, знаете, бывает так – в первые секунды возникло ощущение, что мы всю жизнь знакомы, что мы всегда были вместе, что мы понимаем друг друга с полуслова. Сима участвовал в беседе, я переводила, и удивительное обнаружилось совпадение вкусов, интересов, в общем, абсолютно, казалось – сидит родной человек. «Слушайте, ну как же могло быть? Как могло случиться, что Вы мне не ответили?» Он говорит: «Разве не ответил? – Смеется. – А мне казалось, что я ответил».
Потом нас позвали пить чай, в пять часов, в этой же комнате стоял столик, это было невероятное чаепитие, с японскими церемониями, немыслимый чай, сладости, которые она приготовила, – жила в этом доме и какая-то японская традиция. Очень все это нам было интересно. Ну, выпили чай, я встаю, думаю, настало время прощаться… Он говорит: «Что вы, я заказал в ресторане столик, мы пойдем вечером ужинать». И вот так мы провели весь этот день вместе. До часу ночи. Было ощущение, что наговориться не можем. Я говорю: «Что же дальше будет? Я хочу вас видеть». Он говорит: «Я тоже хочу. Я вам позвоню. Если вам что-то срочно надо, то надо мне так звонить: позвоните, положите трубку, и второй раз тут же наберите. Тогда я возьму трубку. А вообще я вам сам позвоню».
Проходит день, другой, пять, шесть дней – никакого звонка. Я опять в недоумении – ну это же не понарошку, мы действительно замечательно разговаривали. Наконец он звонит: «Я вам звоню из больницы, но мне сейчас немного лучше, вы можете прийти». Мы пришли к нему в больницу и ушли, когда нас выгнала медсестра. Опять такой взахлеб разговор. Он говорит: «Я послезавтра как будто выписываюсь, как только выйду, обязательно позвоню, и вы придете ко мне». Тут еще произошло такое… как немцы говорят – komischer Zufall, странное совпадение. Там же, на вилле Берте, жила очень симпатичная женщина, фотограф когда-то знаменитый. Когда она услышала, что я иду к Энде, она сказала, что у нее есть уникальная фотография отца Энде, которого она снимала, когда еще девочкой начинала свою карьеру. Я ему в больнице рассказала, он безумно загорелся: «У меня этих фотографий нет, а я слышал, что они существует. Я очень хочу их получить».
Она мне отпечатала большой снимок, я жду звонка… Но он больше не позвонил. В канун отъезда мы с Симой все-таки поехали к нему, но зайти не посмели, а бросили в ящик очередное письмо и эту фотографию в большом конверте. Я оставила парижские свои телефоны, и мы уехали в Париж. И там через три недели я получила письмо от моей редакторши, с которой мы тоже стали приятельницами: «Должна Вам сообщить трагическую новость, что Энде умер в больнице». Очевидно, его не выписали.
Когда мы с ним разговаривали, я сказала ему, что мы обязательно все-таки сумеем издать эту книгу. Ему очень хотелось, чтобы в России его прочли. И у меня к желанию, чтобы прочитали наши дети, добавилось данное ему слово, поэтому мне очень важно, чтобы книжка наконец вышла. Это не роскошь. Это хлеб насущный для нас был бы.
В этой книге есть такой мотив: главное – очень хотеть чего-то, по-настоящему хотеть. А дальше – делай что хочешь. Это давнишняя формула, она есть и у Рабле – fais ce que voudras – «делай что хочешь». Человечество давно задумалось над тем, что это значит. Нужна ли эта абсолютная свобода и как ее понимать. И все, даже Рабле, который тяготел к чрезвычайности и к безмерности во всем, он тоже пришел выводу, что важно – ЧТО ты хочешь. Может быть, Энде здесь цитирует Рабле в этой формуле. Я не могу сказать, что это детская книга. Она универсальная. К концу книги, когда ставится великий вопрос – остаться в мире Фантазии или вернуться в наш реальный мир, с его добром и злом, его жестокостью, несправедливостью, абсолютно очевидно, что выберет этот мальчик, Бастиан, ее главный герой, – он органично выбирает жизнь. В этой книге есть очень большой оптимизм. Жизнеутверждение – утверждение живого и живое – это добро, вот так, примерно, получается, если свести к простым словам.
Вот, я хочу, чтобы эта книга вышла.
А в общем, горе – это отсутствие желаний. Мне не хочется ехать во Францию. Я разговариваю по телефону с внуком и спрашиваю: Антуан, ты меня помнишь? Потому что мы уехали двадцатого декабря прошлого года, он уже год меня не видел, для пятилетнего мальчика это очень много. Я спрашиваю: ты меня помнишь? Он говорит: ну как ты можешь меня об этом спрашивать? Конечно я тебя помню. И Симу помню, я часто гляжу на его фотографии, и вас обоих мне очень не хватает, но тебя я увижу, а его не увижу. То есть, значит, он понимает. Меня потрясла эта фраза. А маленькую Анну я спросила: ты меня помнишь? Она говорит: нет, я тебя совсем не помню, я тебя совсем забыла, но я все равно тебя люблю и посылаю тебе поцелуи. Наверное, мне надо поехать к ней.
Нет желаний. Это тоже как черная дыра. Но хочется вспоминать прошлое. И именно в том смысле, в каком эта наша с Симой жизнь была не только нашей, но вобрала жизнь поколения, явилась какой-то маленькой частью в странной мозаике тех, кто уходит к концу двадцатого века. Вот мы из тех. И, перебирая какие-то эпизоды, то одни, то другие, я, наверное, рассказала все очень коряво, несистемно, это и вообще, наверное, трудно рассказать иначе, а мне-то тем более трудно, я не отличаюсь особой логикой мысли. Но мне хотелось, чтобы эти осколочки нашей жизни помогли, может быть, слушателям понять, как жили не только мы – у нас особый случай, мы счастливый вытянули билет радостной жизни на страшном, мрачном фоне, – а вообще чем и как жили, на что откликались, на что реагировали наши сверстники.
Жизнь безумна, но все-таки прекрасна. Она безумна, страшна, ужасна, но вместе с тем прекрасна, и я все-таки думаю, что хорошее в ней преобладает над плохим. Над страшным. Я в этом даже уверена. Во всяком случае, мой опыт этому учит. Потому что главное в этой жизни – люди, и людей замечательных гораздо больше, чем предполагаешь. Значит, все-таки хорошее побеждает плохое. Посмотрите, сколько замечательных людей попалось на нашем пути. Надо внимательнее присматриваться к людям вокруг. Может быть, не сразу увидишь, что они замечательные, – надо дать себе труд разглядеть то, что несет в себе человек. И может быть, это есть тоже маленькая тропинка, ведущая к какой-то радости.
Вот, пожалуй, и все.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































