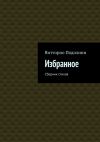Текст книги "Численник"

Автор книги: Ольга Кучкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Барбра Стрейзанд
Озорная озонная Барбра, ну что ты опять завопила истошно,
держалась я храбро, пока вдруг в секунду не сделалось тошно.
Бессовестным криком любовным вспорола окрестность
и в ней воспарила —
исчисленным трюком мне жилы и память в момент отворила.
«Перемещенье собак по улице…»
Перемещенье собак по улице:
большая, поменьше, еще меньше, еще,
совсем маленькая.
Сперва побежали в одну сторону,
ритмично перебирая ногами, словно кони,
остановились и побежали обратно:
большая, поменьше, еще меньше, еще,
совсем маленькая.
Теперь смотрят друг на друга
и мотаются взад и вперед,
как мальчишки:
большой, поменьше, еще меньше, еще,
совсем маленький.
Я мотаюсь с ними (взглядом),
как будто не старуха,
а еще девочка.
«Слева залетает золотой шмель…»
Слева залетает золотой шмель.
Справа посадка золотых огней.
Не пила я вина. И это не хмель.
Это просто мои семь дней.
Запах пожарища как пейзаж.
Музыка изнутри избороздила чело.
Нахожу лицо свое все в слезах.
И не понимаю – отчего.
Сад
Вот сада моего портрет:
засыпан снегом, словно цветом,
осыпан цветом, словно светом,
он помнит тайны прошлых лет.
Он смотрит, смотрит и молчит,
и когда долгий снег не тает,
и когда тает, зарастает,
густым малинником трещит.
Опять защелкал соловей,
родная мне и саду птица,
умолк, устал. Мне сладко спится
в постели юности моей.
Вишневый, яблоневый сон,
приснившись, тянет ветки к лету,
и ничего роднее нету,
сад – однолюб, и он влюблен,
он любит папы с мамой лик,
и все, что с ними дальше было,
и что дождем небесным смыло,
он помнит, памятью велик.
А этой странною весной,
не выбравшись из снеговой напасти,
из тяжести, подобной страсти,
очнулся, раненный, больной.
Две яблони, к стволу стволом,
лежали, ветками мертвели,
и – мертвый черный бурелом! —
вдруг почки вновь зазеленели.
Прости меня, мой бедный сад,
за одиночества гордыню,
я так хочу опять назад,
в твою зеленую гардину,
когда до всех моих потерь
и до всего, что с нами стало,
моей любви недоставало.
А впрочем так же, как теперь.
Вот сада моего портрет:
облитый светом, словно цветом,
он знает все про то и это,
я состою при нем сюжетом,
пятном за рамой мой сюжет.
«Я хочу с тобой поговорить…»
Я хочу с тобой поговорить,
через этот день пустой и длинный,
через белых мух полет старинный,
я хочу с тобой поговорить.
Расскажи мне, как мои дела,
отчего-то жизнь моя немеет,
и никто, кто возле, не умеет
сделать то, что ты: чтоб ночь светла.
Отчего, как чеховский рояль,
замкнута душа, как на засовы —
день ли, год ли наступает новый,
не поют регистры, как ни жаль.
Не разучен никакой дуэт,
музыка молчок, пусты длинноты,
где-то на полу пылятся ноты,
никому до них и дела нет.
Я хочу с тобой поговорить,
пожалеть, как странны стали люди,
так, как ты, никто меня не любит,
я хочу с тобой поговорить.
Объяснить тебе, какой ценой
плачено за все, я не сумею,
о тебе тебя спросить не смею,
лишь одно: а ты еще со мной?
Я теперь сама сильна, как страх,
смех и грех, что в общем-то нелепо,
помнишь, как я веровала слепо
и слабела у тебя в руках?
Я хочу с тобой поговорить,
через этот реденький лесок,
через этот старенький вальсок,
я хочу с тобой поговорить.
«Был голос дарован для песен…»
Был голос дарован для песен,
а песни звучали так редко.
Пожалуй, я выскажусь резко:
певец был почти неизвестен.
Копал огородные грядки,
сажал огурцы и картошку,
а пел для себя понемножку,
когда были нервы в порядке.
И слушали пенье стрекозы,
стрижи и остриженный ежик,
соседка по случаю тоже,
бежав от зачумленной прозы.
Негромок, непрочен, невечен,
не колокол, а колокольчик,
разбрасывал песенный почерк
на время, на вечер, на ветер.
Считаясь ни с кем и со всеми,
где солнце встает и садится,
небесные реяли птицы,
небесное сеялось семя.
«Думала, как буду говорить ему это…»
Думала, как буду говорить ему это
и плакать.
Заплакала,
думая, как буду говорить ему это
и плакать.
Говоря ему это,
не плакала.
Он заплакал,
слушая,
как я говорю ему это.
«Это золото – завтра прокисшая черная грязь…»
Это золото – завтра прокисшая черная грязь,
а вчера зелень почек нагих и кудрявых:
так случается эта земная вселенская смазь —
вот вам даже не мысль, хотя в целом из здравых.
Вот вам чувство, что режет острее ножа,
когда содрана кожа, и боль сатанеет,
и простая картинка, кровоток пережав,
жахнет штукой, что Фауста Гете сильнее.
«Большие желанья, куда вы девались?…»
Большие желанья, куда вы девались?
Куда улетели, большие деянья?
Изодраны старые одеянья,
нет новых готовых – и не одевались.
Натурою голой, нутром обнаженным
ввергаемся в изверга злые владенья,
и нечем израненным в ходе паденья
завеситься душам, огнем обожженным.
Низ истины вечной и верх обыденки,
изнанка порыва, рванина издевки,
изгрызены мысли, и мыши-полевки
кругом торжествуют.
И время – потемки.
«Он летал в 64-м…»
Он летал в 64-м,
я в 99-м летаю,
мы могли бы составить стаю
в мире старом, слегка потертом.
Мы, летящие человеки,
наблюдаем просторы косые,
зеленя, черноземы России,
голубые ленточки-реки.
Виды меняются не просто – сложно,
странные странности под стопою,
бабы Яги помелом и ступою
вызваны к зренью неосторожно.
Нет, не баба – ангел по-братски строго
водит, и местность звездно мерцает,
умницами, а не глупцами
участвуем в детском проекте Бога.
«Боковой проступает чертеж …»
Боковой проступает чертеж —
охватить его оком наскоком,
глаз прищурить, не вышло чтоб боком,
угадать, чем хорош и пригож.
Розовеет живая кора,
пестрых пятен страстное усилье,
цвет и звук нарастут в изобилье —
настает воплощенья пора.
Наблюдатель, участник, игрок,
растопырь свои чувства, как лапы,
и, внедрен в роковые этапы,
встанешь там же, неробок, где рок.
«Измененное сознанье…»
Измененное сознанье,
сознающее измены,
узнающее обманы,
обнимается с безумьем,
ум и знание бессильны
перед силой неразумной,
загоняющей созданье
в неизменное страданье.
Но однажды вдруг и разом
что-то с нами происходит,
просветленный ум за разум
больше, люди, не заходит.
Ты свободен.
«Остынь. И перестань…»
Остынь. И перестань
доказывать себе,
ему или кому —
нибудь пускай что-либо,
живи себе в селе,
сиди себе в седле,
лежи себе в траве
легко и особливо.
Довольно слыть и слать
посланья не своим,
привязывать пример
разряда трафарета,
и упиваться в дым
признаньем нулевым,
лелея, как дитя,
соблазн автопортрета.
Важняк и саддукей,
нужняк и фарисей
толпятся через край,
зовя к венцу насильно,
отрежь или отшей,
промой или просей,
и выставь на просвет
остаток щепетильный.
Песнь торжествующей любви
Рыданье гудка и рыданье дождя,
и мокрое место на месте сознанья
спустя полчаса или год обождя,
клин клином из нас вышибают признанья.
Сквозь место и время, сквозь поезд и дождь,
в вагоне, качаемом скрипом и хрипом,
вовсю торжествует любовная дрожь,
и горло зажато задавленным криком.
Который десяток?.. В котором часу?..
Железом дороги снесенные стрелки,
и возраст, как рост, удержать на весу
в железной назначено переделке.
Предмет… Но какой же возможен предмет?
Проблема, болячка, вся жизнь и живое.
Вот ряд сообщаю предмета примет —
от птичьих рулад до животного воя.
Подумаешь, тоже Ньютона бином:
унесены веком, унесены ветром,
хрипят, и кричат, и поют об одном,
последним, как первым, несясь километром.
«Дом с разбитыми окнами, что за дела…»
Дом с разбитыми окнами, что за дела,
и бутылка внутри на полу стекленеет —
я случайно сюда, в этот край забрела,
где не видно людей и где сутки длиннее.
Тут запор и засов, там остывшая печь,
и фонарь наверху, весь простужен от ветра,
кто-то раньше тепло здесь пытался сберечь,
да не вышло. И только качается ветка.
У крыльца притулившись, застыла метла,
инструмент одинокий былого ведьмовства,
но и это сгорело в печурке дотла,
и от дыма тогда же наплакались вдосталь.
Соглядатай невольный, окошко добью,
как чужое – свое, а свое – как чужое,
если водка осталась, пожалуй, допью
и коленом стекло придавлю, как живое.
Дальше: жирная сойка, в траве прошуршав,
смотрит глазом загадочным, будто знакома,
и хитрит, и петляет, и трещоткой в ушах,
и, как ведьма, уводит, уводит от дома.
Бабье лето
Надо это, надо то,
мчишься с той и с этой целью,
не наученный безделью —
ты поистине никто,
часть машины и станка,
часть компьютера и сети,
ты попался в эти сети
механизма паука.
Где-то лето с тишиной,
и качели с гамаками,
с подкидными дураками,
озаренными луной.
Лижет медленный огонь
углей красные рубины,
гроздья красные рябины
просят просекою: тронь.
Счастья полное ведро
утром встретишь у колодца,
и, летя на солнце, вьется
паутины серебро.
Если в бешеном авто
до конца еще не спятил,
вслушайся, что спросит дятел:
кто там, кто там, кто там?
Кто?
«Казалось бы, какая разница…»
Казалось бы, какая разница:
уйдет – и что потом за дело,
кому причудится, приблазнится,
какими были дух и тело.
А все старается и трудится
и с совестью болезной мается,
а вдруг, что блазнится и чудится —
возьмет да как-нибудь останется.
«Снег выпал двадцать седьмого…»
Снег выпал двадцать седьмого,
мокрый привычный снег,
до Нового года немного —
месяц, день или век.
До нового тысячелетья
примерно такой же срок,
хлещет погонщик плетью
путников всех дорог.
Погонщик-время, нам больно,
шкура не так толста,
метит хорально и сольно
слабые, блин, места.
Предательство, мена, сдача,
отступничество гурьбой —
кажется, легче задача,
не каплет когда над тобой.
Но каплет
столетьем, и снегом,
и мокрых делишек концом,
и финиша скорого бегом —
и нового срока гонцом.
Основной инстинкт
Одолевая суету и смуту,
бесплотное свое настырно ищет —
который час, которую минуту
само себя стихотворенье пишет.
Вгрызается бессовестно в сознанье,
кровь возгоняет в жилах без устатку,
беснуется, эфирное созданье,
привыкшее к войне и беспорядку.
Толкает к тем и этим переменам,
пылая, словно рана ножевая,
тот задевая орган непременно,
которого в стихах не называют.
В преображенье масс, земных и прочих,
в крест и созвездие, в кружок и клетку,
в культуры прочерк и во тьму пророчеств
включает, словно ток в розетку.
Созвучное и гению, и лоху,
часть жизни, наряду с водой и пищей,
который век, которую эпоху
само себя стихотворенье ищет.
Ответ
Юнне
Ты пишешь: в Книге Перемен
переменяется мое
на что-то, шире этих стен,
новей, чем старое, житье.
Попытка, опыт, испытать,
опять пытать – понятья-братья.
Ты пишешь: скоро благодать
нам распахнет свои объятья.
Благодарю. Благую весть
голодными глотаем ртами.
Все шире там. Все уже здесь.
Мы входим узкими вратами.
«Вот и последние капли…»
Вот и последние капли
уходящего года,
уходящего века
последние всплески,
как печальные ходики,
время ухода
отмечают мои
не пролитые слезки.
«Мы будем это вспоминать …»
Мы будем это вспоминать —
в воспоминаньях будем счастливы, —
как муж с женой, дитя и мать,
на век не возводя напраслины,
переходили в век иной,
как переходят через улицу,
и светофор горел шальной,
и чудилось, что все-то сбудется,
и, весь из круглых полных лун,
с высокой шеей лебединою,
век начинался, свеж и юн,
и нежность нес неистребимую,
и розовели облака,
и тело мира жить хотело,
мелела времени река,
число миллениума млело.
О стихах Ольги Кучкиной
Ольгу Кучкину знают как критика, журналиста, драматурга. Мало кто знает, что она пишет стихи. Ей, видимо, казалось, что она их пишет «для себя». Мне довелось прочитать ее рукопись, и оказалось, что это стихи и для всех. В лирике Ольги Кучкиной есть своя скрытая драматургия, стихи ее идут от истинного переживания. И написаны своими словами.
Владимир Соколов, 1990
Эти стихи каждый должен читать один, для себя. Это особого рода стихи. Меня книга удивила и даже потрясла. Во-первых, какой-то молодостью удивительной. Во-вторых, тем, что она ни на кого не похожа. Мы дико устали от проповедей, а теперь устаем от исповедей, особенно женских – женщины несут все свои беды и на нас обрушивают, да каждая еще громко, да еще с истерикой, по принципу выведения шлаков. Кажется, что у Кучкиной – другое. Она ни от чего не освобождается. Боль остается с нею, а вот как бы тень боли, дыхание, ветерок от этой боли достаются нам. И вообще она не навязывает себя. Наоборот, показывает себя нам как бы в перевернутый бинокль. Тут благородство. Это редкий случай. Я даже, по-моему, этого еще не встречал. Она пришла и перевернула все мои представления о поэзии. Я думаю, что каждый поэт, если он настоящий, приходит и переворачивает наши представления. Если он не переворачивает, он во втором или третьем ряду.
Владимир Корнилов, 1999
Не так уж много случаев в истории литературы, когда стихи начинают писаться уже после прозы, после драматургии. Хотя «казус журналистики» – особый. В конце концов Ольга Кучки-на сначала журналист, потом – писатель. Однако рамки очерка становятся вдруг тесны. А чужие судьбы, те, что в проживании рождают классную публицистику, рано или поздно начинают заслонять, замещать собственную личность. И тут требуется немало душевных сил, чтобы вернуться к себе. Но тогда-то, быть может, и начинается настоящая поэзия. Та, что не встает в газетную полосу, но (и потому, может быть, тема «свободы духа» одна из ключевых для этой поэтики) чужой взгляд все равно проступает, и где бы ты ни был, образы слетаются к тебе, как бабочка из стихотворения «Итальянская бабочка». И сам поэт – эта бабочка: «Так задумала природа, / нет вины, а есть свобода. / Но семья не без урода – / ты в чужой горсти, прости»…
Главное, будет ли в уже сбывшейся жизни – новая жизнь, как новая свобода упорхнувшей-таки из чужой горсти – пустой – бабочки. И чем заполнить пустоту ладоней?..
Корм этой поэзии – чувство. И оказывается, что сегодня можно писать не только «про текст», но и про себя самого. Себя саму – узнаваемую и тем не менее скользяще неуловимую.
Александр Вознесенский, 1999
Родная Оля! Перечитываю и перечитываю твои страницы. Ты очень многое вдохнула в стихи – свое обнаженное сердце, странный мир… Это сейчас и мне помогает жить. Благодарю тебя. Володин. 11 августа 2000 года.
Александр Володин, 2000
Читатели России знают Ольгу Кучкину как острого журналиста, вдумчивого эссеиста, добросовестного прозаика. Менее известна она как своеобычный лирический поэт. Поэзия наших дней колеблется в амплитуде от эклектики до постмодернизма, но настоящий поэтический голос живет своей жизнью, не присоединяясь к литературным тусовкам. Он дышит воздухом творчества, а не соображениями эстетической конъюнктуры. Это требует культурного мужества, но окупается независимым результатом – который в случае Кучкиной налицо.
Юрий Кублановский, 2002
«Високосный век» – наиболее полное на сегодняшний день собрание стихотворений Ольги Кучкиной, которую большинство читателей «Комсомолки» знают как первоклассного обозревателя, а знатоки российской драматургии – как одну из лучших учениц Арбузова… Радостно видеть, что журналистика не съела этого обаятельного и оригинального поэта. Стихи ее не претендуют ни на что – это в подлинном смысле слова лирический дневник; автор не слишком заботится о соблюдении ритма, может себе позволить неточную рифму или прозаизм – не в них дело. Она заговаривает собственную тоску, а в результате помогает и читателю. В общем, иногда поэтом становится тот, кто меньше всего на это рассчитывает – просто пишет урывками в свободные минуты и все.
Дмитрий Быков, 2002
Новую книгу стихов Ольга Кучкина назвала «Високосный век».
Часы, отмеряющие ощущения жизни, не показывают суету сиюминутности и тщету спешки. Аккумуляция чувств занимает многолетие.
Вот любовь, боль тут же, рядом. Прогноз и констатация. Нерешаемые задачи. Работа над ошибками. Отчаяния нет. Иначе и один високосный год не вытянуть.
Я живу каждый день огромный,
растворяясь
в сухом остатке
красных листьев,
ноябрьского грома,
чаепитья в простом порядке.
Ольга Кучкина – сильный хрупкий человек. Магией очарования владеет в совершенстве. Профессионализм журналиста зашкаливает. Дар драматурга естественным образом сочетается с чутьем критика. Одна из красивейших женщин столетия…
Прекрасно то, что муза, вдохновляющая, сама играет лирику.
Екатерина Дробязко, 2002
Я хотел тебе сказать очень многое. Это удивительное выражение того, что вижу и чувствую, и это такое сочетание несочетаемого, такой порыв и такое удивительное выражение невыра-жаемого, такое вытаскивание того, чего нельзя сказать, поэтому так напряженно, так рвано, и это мгновения какого-то особого состояния! Иногда это удается, иногда нет, но чаще удается, и это какое-то совершенно новое дело. Во всяком случае я такого раньше не читал. Я коряво говорю, потому что невозможно сразу сказать. Это настолько талантливо, что надо читать второй, третий, четвертый раз, и это еще сильнее. Такая изумительная ересь, которую ты говоришь, что я просто поражен. Это высоко. Это потрясающе. Дай тебе Бог больше этого бреда, такого грандиозного. Это здорово. Олька, ты умница. Где ты достаешь, откуда из себя, каким напряжением сил?
Валентин Гафт, 2008
Думается, что Ольга Кучкина не «прозаик-реалист», не «драматург» и не «поэт». В ней нет профессионально упертой сосредоточенности в жанровых координатах, она оперирует внутренними законами жанра, а не догматически следует традиционным профиллюзиям. Произведения ее (в прозе, драматургии, поэзии) – один из тех удивительных феноменов, которые нечасто появляются в нашей культуре. Приведу пример: известно, что Владимир Высоцкий не является в прямом смысле ни поэтом, ни певцом, ни музыкантом. Но сложение этих трех составляющих явило потрясающий результат – сложился российский гений. Сложение «внежанровых составляющих» Ольги Кучкиной (плюс, конечно же, ее профессиональная работа в журналистике) дает уникальный симбиоз индивидуального литературного существования – пытливого, талантливого, стремящегося «во всем дойти до самой сути».
Александр Щуплов, 2005
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.