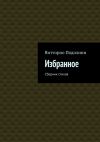Текст книги "Численник"

Автор книги: Ольга Кучкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
«Надо жить, как будто бессмертна…»
Надо жить, как будто бессмертна,
унимая дрожанье сердца,
сумма трат и даров несметна,
если в зеркало не глядеться.
В зеркалах бродит кто-то пришлый,
разменявший меня на время
по известной от века схеме,
что расчерчена Кем-то свыше.
Неразменный рубль – это в сказках,
неизменный лик фантастичен,
бабы бьются не в ласках – в масках,
результат все равно трагичен.
Проливной льет на город ливень,
омывая родное место,
осени меня небом синим,
о, мое не ушедшее детство!
Разведи угольные тучи,
молодость, что никуда не делась,
а со зрелостью скрытно спелась, —
частный или всеобщий случай.
А погода – как заказная! —
кто-то старый в стекле хохочет,
я не знаю, чего он хочет,
и что ждет его, я не знаю.
6—10 июля 2009
«Эти лапы разлапистых елей…»
Эти лапы разлапистых елей,
слёз древесных поток, что елей, —
обойтись без объявленных целей,
и душа сохранится целей.
Колокольня поделится звоном,
а мобильный – случайным звонком,
сад поделится звонким озоном,
в горле встанет нечаянный ком.
Отдаваясь виду и звуку,
обходясь без излишних фраз,
благодарная за науку,
я люблю вас в последний раз.
31 августа 2009
Аллилуйя любви
Густая ночь по обе стороны дороги,
и одинокая таксера пассажирка,
и бойкая в виске плясунья-жилка
за верстами намотанной тревоги.
Во тьме таксер рулит напропалую,
от дома удаляя неизбежно,
вдруг тетка, что по факту центробежна:
помедлите… Заслышав аллилуйю.
В приемнике – Караченцова шепот,
переходящий в хриплое рыданье,
удвоенное теткино страданье
и стук в ушах, как будто конский топот.
Он пел-кричал, терзая тетке душу,
что никогда…
Так это и случилось.
Обратно, бросила. И истово молилась,
чтобы застать любимого, вернувшись.
Центростремительной влекома силой,
сильнее предыдущей центробежной,
шептала: милый, милый, милый…
Мятеж подавлен властью безмятежной.
12 октября 2009
«Высокая и желтая трава…»
Высокая и желтая трава
в солому бита сильными ветрами,
деталь в зелено-рыжей панораме,
несметные у осени права.
И воздух мелким бисером дрожит,
дрожит ручей, отблескивая сталью,
и, уступая место зазеркалью,
сплошное зеркало пруда лежит.
Я осень праздную, как празднуют весну,
в случайностях и робких недомолвках
красы соломенной, и зеркала в осколках,
и ловишься на прежнюю блесну.
13 октября 2009
«Горел закат пожарищем за лесом…»
Горел закат пожарищем за лесом,
торчало небо облачной защитой,
верхушки елей с просвистом залысин
мобильник слушали, в котором Абдрашитов.
Был путь усеян золотом и ржавью,
был воздух свеж и упоен озоном,
и перекрикивали песню жабью
две утки, не согласные с сезоном.
Дорогу мыл машиной поливальной
шофер патлатый, скатертью дорога,
в лесу звонил мотивчик музыкальный,
сочилась дружелюбием округа.
Он говорил, что автор интересен,
Лесков и Гоголь дышат вам в затылок.
На фоне неба – ряд ветвей застылых.
Сравнений ряд был чуден и опасен,
Он говорил без счета траты денег,
и даже вдвое больше, показалось,
в ответ лишь только весело смеялась,
своим письмом его должник и данник.
14 октября 2009
«Утки плавали картинно…»
Утки плавали картинно,
утки крякали противно,
я кормила хлебом их с руки.
То-то утки некрасивы,
то-то селезни спесивы,
отбирают лучшие куски.
14 октября 2009
«Начерно набросала строки…»
Начерно набросала строки,
начерно подвела брови,
начерно вывела сроки
последней своей любови.
А они побелили стенку,
к которой ее на выстрел,
намалевали сценку
на белом листе на чистом.
Черные-черные тучи,
белые-белые снеги,
запомнить бы все получше,
да не забыть в побеге.
Записать, что было, – чернила,
впрочем сгодится компьютер.
Молния след прочертила,
будущее с прошлым спутав.
Черным по белому – участь,
черновики поделим
и, немотою мучась,
набело не перебелим.
18 апреля 2010
«Следовало привыкнуть к неотвратимой мысли…»
Следовало привыкнуть к неотвратимой мысли,
не абстрактной, а что ни на есть конкретной,
и картине совершенно предметной,
от нее холодел живот и мозги кисли.
По утрам разгулявшиеся с вечера черные дыры,
собирала, как сурепку на весеннем поле,
чтобы то ли букет получился, метелка то ли,
домашнее орудие немолодой мымры.
Лошадь без седока, воображенье носило,
било копытом по печени неаккуратно,
горечь травила, тому обеспечена кратно,
что было сладко и в чем заключалась сила.
Сила с бессильем мешались, как краска с олифой,
мазок, и еще мазок, и по стене разводы,
разводы, оставшись в прошлом, отошли как воды, —
держись за то, что имеешь, и не будь фифой.
В процессе цепляния слов под ложечкой полегчало,
в вилку между и между, спасаясь, нырнул автор,
салфеткой прикрыт прибор, и ожидает завтрак.
Сегодня спаслась.
А завтра все то же сначала.
10 мая 2010
«Богу Богово. А что у Бога…»
Богу Богово. А что у Бога
в сухом остатке?
А у Него дорога,
безлюдная, длинная,
суглинная.
20 мая 2010
Звездная пыль
Поэтам – не их всё,
прозаикам – журналист,
драматургам – ни то, ни се,
всем – оторвавшийся лист.
А что повсюду зовут —
ведь не всерьез дела,
статус, он как статут:
красавицею была.
Мужняя жена,
не девочка, бабка и мать,
а помнят: бродила одна,
и хотелось ее подобрать.
На празднике жизни чужом
оттанцевав свое,
жим одолев и жом,
в поле летит, где жнивье,
где крупно – сверканье звезд,
мелко – звездная пыль,
и, драгоценный до слез,
по ночам шелестит ковыль.
6 июня 2010
«Судьбою прибиты друг к другу…»
Судьбою прибиты друг к другу,
как лодка и берег, допустим,
дитя не нашли мы в капусте,
но бегает Чарли по кругу.
Весь мир и себя в этом мире
друг другу легко подарили,
и фото, пусть три на четыре,
у сердца в житейской кадрили.
Пространство от сосен до пиний,
освоено нашей любовью,
коричневый, желтый и синий
льнут ночью в зрачки к изголовью,
и рыжий монах обольщает,
с безумным священником вкупе,
игуменья Ксенья венчает —
мы в Божьей прикаянной труппе.
Мой мальчик, серебряный мальчик,
люблю твой сентябрь золотистый,
и то, что случайно назначен,
и то, что мы оба артисты.
28 сентября 2010
План
Привыкнуть пить стаканами воду,
гонять ровно кровь уговорить сосуды,
не пугаться ни прострела и ни простуды,
обучиться отнестись к смерти как эпизоду.
29 сентября 2010
«На асфальте мокрые огни…»
На асфальте мокрые огни,
вечер понедельника хлопочет,
кто-то обмануть кого-то хочет,
кто-то шепчет жалко: обмани.
Правда – как убийца за углом,
не ходи на встречу с ней на угол,
не веди напрасным чутким ухом,
знай, что может обернуться злом.
Путаница, слабость – ну и пусть,
сила с прямизною отвращает,
помни: нам никто не обещает
дважды повторить наш крестный путь.
Дождь двоит изображенья лиц,
всех вещей природу умножая,
плачется природа как живая,
платится по ставкам без границ.
8 ноября 2010
«Я не помню, жаворонок была или сова…»
Я не помню, жаворонок была или сова,
и что отвечала на вопрос bien ça va,
потому что была одержима письмом
и позабыла, как было до, а как потом.
Я забыла, кому отворяла дверь,
а теперь попробуй пойди проверь,
когда все ушли, кто стучался в дом,
и никто не подскажет, что было до и потом.
Записала ли я выраженья лиц,
и вышли ли обличья из приличья границ,
и зачем стоит этот в глотке ком,
если память ушла, как было до и потом.
И просвечивает сквозь кисею прошедших лет
начертанный слабыми письменами след,
тот почерк, что до крови знаком,
выводит, выводит, как было до и потом,
как кто-то присваивал себе меня,
а кто-то отпускал на волю, кляня.
И горою высится мой смертный грех,
что любила,
но плохо любила всех.
27 ноября 2010
«Убывают сентябри…»
Валеше
Убывают сентябри,
остается непогода,
но в любое время года
наш секрет у нас внутри.
Там у нас из детства звук,
звук из юности, а также
утоленье вечной жажды,
одоление разлук.
Что с тобой, то и со мной,
мы вдвоем об этом знаем,
и хотя базлать базлаем,
осень смотрится весной.
Убывают сентябри,
солнце золотом струится,
близко-близко наши лица:
вот я, тут, смотри, смотри!..
Флоренция, 28 сентября 2011
В деревянном доме
маленький роман в стихах
Однофамильцу
1
Приехали поздно.
Калитка запела,
встречая хозяев и званых гостей.
Хозяйка о гвоздь на калитке задела,
а кровь проступила на лицах детей —
сочувствия краской, румянцем по шею,
она же, от боли губу закусив,
на коже царапину трогала, ею
царапину в сердце на миг заместив.
Еще по дороге, в машине, устала
справляться с собою, забытой давно.
А гостья на заднем сиденье блистала.
А муж подливал ей охотно вино.
И в зеркало глядя, вторую машину,
что шла вслед за ними, имея в виду,
все видела мужа широкую спину
изогнутой к гостье на полном ходу.
Спиной, как забором – мальчишки отдельно, —
мужик огораживал свой интерес.
Второй кавалер на переднем сиденье
испил свою долю и к задним не лез.
Винцо по дороге – мужская забава,
придуманный кем-то смешной ритуал,
плечом повела разомлевшая пава —
муж блудный к плечу павианом припал.
Водитель, работница, тяглая лошадь,
тянула свой воз сквозь кромешные дни.
Но вот уже, въехав на малую площадь,
в последний проселок свернули они.
Входили в калитку, к крыльцу поспешали,
тащили поклажу, вино и еду,
весельем заброшенный дом оглашали,
руками на раз разводили беду.
Да где же беда!..
Просто что-то попало
в глаза, как соринка, – и чувство, как сон,
что нечто упало и с возу пропало,
и муж не жених и уже не влюблен.
Бродили по дому, кто сам, а кто с мужем,
глазели, болтали, и слышался смех,
хозяйка на кухне готовила ужин,
картошку с селедкой почистив на всех.
Поставила чайник, доверху наполнив,
усилием горечь едва укротив,
саднила царапина, что-то напомнив,
и ожил, о Боже, забытый мотив!
Качели, высокие травы и сосны,
и порванный гвоздиком юбочки край,
и девочкин папа, разумный и взрослый,
устроивший девочке ад, а не рай.
Рай был накануне, с лихим мальчуганом,
из сада к нему через грешный забор…
Но уличной девкою и хулиганом
назвал, как прочел на суде приговор.
Ей жить не хотелось.
Ей белое черным
впервые назвали в ту светлую ночь.
И с этой поры существом непокорным
росла под личиной покорности дочь.
Любимый ребенок…
Спустя лихолетья
могу оценить, как болело внутри, —
от этого, бешеный, словом, как плетью,
хлестал.
Ну же, девочка, слезы утри.
Утри. Сэкономь. Пригодилась учеба.
Уроки любви тяжелы, как плита.
Стою у плиты. И картошка готова.
И можно позвать: эй, за стол, господа!
Нейдут.
Через стенку отличная баня,
изделие мужа, мечта-похвальба,
а там анекдоты, и чьи-то лобзанья,
и хохот, и рокот, ну, словом, гульба.
Пошла на крыльцо. На ступеньки присела.
По улице бегал какой-то пострел.
И вдруг разрыдалась: как балка просела,
как краска облезла, как дом постарел.
2
В углу, не медвежьем, не дальнем, а дачном,
вблизи от Москвы, средь дубов и берез,
был выстроен дом деревянный удачно,
вместилище пения, смеха и грез.
Красавица-мама, отчаянный папа,
в ту тетку, что первой женою была,
стрелявший из ревности…
Вот она, лапа
несчастного зверя, что так тяжела.
Он был комиссар. А она комиссарша.
Ее с ординарцем внезапно застав,
рыдал и рычал, сразу сделавшись старше,
и вынул наган, нарушая устав.
Убийство не сладилось.
Тетка живая
гостила поздней в деревянном дому.
Тогда же готовился, нервно зевая,
юнец под расстрел или просто в тюрьму.
Взыскали.
Но вскоре простили по-братски:
не вождь, не начальник, всего лишь жена.
Серьезных военных, не рохлей гражданских,
гражданская требовала война.
И дети, играя в войну, столбенели
от хитрости вражьей, измены в рядах,
предательства, мужества – разных моделей
хватало на совесть, а не на страх.
Еще и сейчас можно встать до восхода,
лесною тропинкой пройти бурелом —
увидишь окоп сорок первого года,
где прятались ночью от авиабомб.
На эту войну уходил ополченцем
отец.
Но предательский туберкулез,
как флагом, кровавым махнул полотенцем,
кровь горлом, – и маминых скопище слез.
Давно нет ни папы, ни мамы на свете,
давно на границе у Бога стою
и думаю: прошлые люди, как дети,
творили отечество, дом и семью.
И красные капли смородины красной,
с утра освежавшие детские рты,
мешаются с каплями крови напрасной,
что пролиты будут и стерты с плиты.
3
Плита раскалилась. Картошка сгорела.
Хозяйка умылась холодной водой.
Присела на кухне. Селедки поела.
И в небе увидела шар золотой.
Всходила луна, раскаленная жаром
как будто бы от раскаленной плиты.
Подумала: ну покати этим шаром,
своей пустотой до моей пустоты.
Костяшка игры в домино пусто-пусто,
стручок с огорода расчисленных дней…
Там, в сумке, остались морковь и капуста
на завтра. На щи.
Завтра будет видней.
В постели уложены сонные дети,
горит телевизора глупый квадрат —
попалась опять в те же самые сети,
и прежней грозы угрожает разряд.
Могла бы и скинуть передник домашний
и в собственном доме ступить за порог,
чтоб в общее празднество встрять без промашки,
да кто-то в ней этого сделать не мог.
Забыли.
Как Фирса.
Иль Жукова Ваню.
И муж приходил, а к гостям не позвал.
Несчастный инстинкт, что замучил папаню,
мучительно в ней нарастал, как обвал.
Наверх поднялась в деревянную спальню
и методом тыка, ошибок и проб
футболила образ, тоски наковальню,
что это не дачная спальня, а гроб.
Пыталась читать – книжка ехала боком,
визжал надоедливый злобный комар,
боялась светильник разбить ненароком,
затем, чтоб затеять случайный пожар.
О, как бы тогда это место пылало!
О, как бы пылала уместная месть!
Кому?!
Неуместное чувство пропало.
Булавок в мозгу уместилось, не счесть.
Подумаешь, мысль…
А как силища пляшет,
как ломит и бьет на зигзаге крутом,
и топает, словно вояка на марше,
и как развернулась на месте пустом!
Пустом?
Э, неправда!
Не зряшным капризом,
не вымыслом вздорным отравленный миг,
чужой человек, выходило, ей близок,
и рвался из горла задушенный крик.
Старалась любить за двоих. И любила,
подруга, любовница, мать и жена…
В висок канонада упрямо забила:
то были одно – а осталась одна.
И вдруг застонала, заныла, забилась,
стремясь укротить возбужденную плоть,
и истово, тихо и нежно молилась,
простил чтобы великодушно Господь.
4
Что было, то было.
Другой.
Половинка.
Две свечечки на сумасшедшем ветру.
Не пара была – загляденье, картинка.
От редкого счастья, казалось, умру.
Здорова ли, девочка… спрашивал утром.
Ты что-то бледна… головою качал.
Ты любишь… звонил чуть ли не поминутно.
Любимая… пылко шептал по ночам.
Не брак, а роман восьмилетний в законе,
и страсть беззаконная, словно напасть,
и розы, и грозы, и кони в загоне,
и пропасть, в которой хотели пропасть,
и в ней пропадали, и с плачем печали
взлетали внезапно в обитель небес…
Но эти качели мы так раскачали,
что, ангелов мимо, бес тайный пролез.
В охотку гонял, сладострастно и жестко,
навязывал свой образ мыслей и нрав.
Внутри нарастала колючая шерстка —
и начался счет, кто виновен, кто прав.
Мой мальчик! Навечно теперь mеа сulра —
латынь так подходит к навечной вине!
Гудела подземная магма и пульпа.
Оплачен твой счет.
Мой – оплачивать мне.
В любимом отца перепутав с ребенком,
тянулась подмышку к тебе, под крыло,
и одновременно, как в мальчике тонком,
без слов различала, куда повело.
Сломалось когда?..
Кто же ведает меты!
Пускай тот, кто знал, прочитает с листа:
кто знал и любил – будет версия эта,
а кто не любил – будет версия та.
Разлад.
Где бывали гармонии полной
часы и недели, с рукою в руке,
глазами в глаза, если отблески молний —
так только в объятьях, в любовном пике, —
там кончики нервов, согласье обрушив,
как головешки, обожжены,
там трупы живые, как мертвые души,
несчастного мужа и бледной жены.
Любимый, прекрасный, издерганный веком,
судьбою и мной как довеском к судьбе,
ты был в моих окнах единственным светом
и сам погасил его назло себе.
Проклятое время.
Несчастное время.
Счастливое время.
Отпущенный срок.
История, ногу засунувши в стремя,
скакала по нам, как безумный ездок.
На даче осенней, пустой и унылой,
влюбленный куда приезжал паладин
руки попросить у родителей милой,
он сделал, что сделал, оставшись один.
И смертная казнь обвалилась лавиной,
накрывши обоих, в обломках любви,
и что было домом, сошло домовиной:
этиловый спирт – в отворенной крови.
Кто знал и любил – будет версия эта,
а кто не любил – будет версия та.
От ветра в стекло билась старая ветка,
и кровью забрызганы пол и плита.
Пришли и сказали. Не плакала даже.
А стала как камень. И долго была.
Жить или не жить было равно неважно,
как дважды, как трижды, как тысячу два.
Расстаться с живым, а увидеться с мертвым —
такого нельзя пожелать и врагу.
Стояла, как перст, перед ямой разверстой
и знала, что быть все равно не смогу.
5
Он спас ее.
Этот красавец курносый,
пижон легковесный, приблудный щенок,
когда приблудился и тотчас без спросу
веселым клубочком свернулся у ног.
Все было не то, ни к чему, непонятно,
глупее не выдумать, Боже ты мой!..
Но вышло, что не было ходу обратно —
она привела его прямо домой.
Он шлялся по свету, бездомный бродяга,
ни в чем не уверенный, муж и дитя,
таясь и страдая от всякого шага,
на взгляд посторонний – легко и шутя.
И так же шутя, привязался беспечно,
от радости тихой негромко скулил,
она привязалась ответно, конечно,
хоть мало что этот союз им сулил.
Как пара гнедая, сошедшая с круга,
на чистом инстинкте, в кусках, на мели,
судьбу проиграв и спасая друг друга,
себя обретали.
И вдруг обрели.
О, как это странно, нелепо все было,
исполнено мелких житейских затей!
Так крепко обоих друг к другу прибило,
что взяли и сходу родили детей.
И дети как дети. Смышленые вроде,
у кошек хвосты не научены драть,
и без понукания на огороде
редиску ходили и сеять, и рвать.
Смотрели большими глазищами в оба,
глаза у обоих ребят в пол-лица,
упрямо следили, разведчики, чтобы
прощала их мать прегрешенья отца.
Подобного раньше она не знавала
и, глядя на спящих родные черты,
родные черты чудака узнавала,
и в горле першило от их простоты.
6
Замучив ее пересохшую глотку,
селедка просила настойчиво пить,
и надо же есть было эту селедку,
не то чтобы есть – не хотелось и жить!
Жить молча, скучая, непонятой, лишней,
безжалостно помня тот, отнятый, дар —
и честное слово, когда б не мальчишки,
какой бы здесь дьявольский вспыхнул пожар!
Сгорели бы двери, и балки, и бревна,
и, может быть, ветвь любопытная та,
что в ночь роковую стучала упорно,
и знающий пол, и свидетель-плита,
и та заодно, что – случайный хранитель
случайных историй и знаковых встреч, —
пыталась наладить отцову обитель,
и выполнить долг, и живое сберечь.
Прости, если можешь, Господь, эту муку,
избави от зла, исцели и спаси!
Какую же с нами свирепую штуку,
играючи, страсти творят на Руси!
Страстями живут и народ, и держава,
и жадно отверсты тюрьма и сума,
как часто оружье терпения ржаво,
как часто пустует палата ума.
Историк-отец, над историей века
десятками лет размышляя один,
дошел ли до тайн одного человека
и глуби глубин как причины причин?
Послышался скрип деревянных ступеней,
и в спальню ввалился взлохмаченный муж,
с ним вместе ввалилось веселое пенье,
а в глотке просела прогорклая сушь.
Я больше тебя… – начинала осипшим,
охрипшим, осевшим, чужим голоском.
Пресекся.
Слова никакие не вышли.
Лишь в сдавленном горле задавленный ком.
И как ни старалась быть стойкой и гордой,
сдержать не сумела нахлынувших слез.
Не хочешь смочить пересохшее горло? —
услышала мужа. – Я соку принес.
7
Отечество – таинство переживанья,
не точка на карте, а точка в мозгу.
Ключом телеграфным любовь и преданья
выстукивают: без тебя не смогу.
Конечно же, сможешь.
Всего в человеке
намешано: слабости, воли и сил.
Но если бы вырубить память навеки —
остался бы нищ, и бездомен, и сир.
А впрочем, я знаю того, кто на деле
прожить без возлюбленной так и не смог:
отец через две с половиной недели
ступил вслед за мамой на смертный порог.
Не вынесло приговоренное сердце,
аорты разрыв от тоски – на куски.
Отцовское даром мотаю наследство,
с рождения и до гробовой доски.
Я помню, и дай мне, о Господи, помнить
до ночи последней последнего дня,
как дом и людей я любила огромно,
как дом мой и люди любили меня.
8
Разъехались. Кто поместился в машину,
кто поездом, и захватили детей.
Остались вдвоем, чтобы эту махину
помыть и почистить до новых смертей.
Потом он ее перестроит на славу,
возьмется как мастер и сделает сам,
и на новоселье большую ораву
они позовут, чтоб у всех по усам
текло молодое вино из Тбилиси,
подарок нагрянувших старых друзей.
Мы все друг от друга любовью зависим! —
воскликнет хозяйка с величьем князей.
И глазом зеленым, счастливым, блестящим,
уставится в мужнин смеющийся глаз,
меж прошлым и будущим и настоящим
пропав.
Это будет потом.
А сейчас —
из комнаты в комнату тени прохладой,
и сад зеленеет, и пиршество птиц,
катится судьбы колесо за оградой —
и просишь:
помедленней бряцанье спиц.
17—27 июня 1999, февраль 2001
P. S. Деревянный дом сгорел в ноябре 2007 года.
Унесенные веком
из старых тетрадей
«Теперь уже видно…»
Теперь уже видно,
что не удалось произнесть и полслова.
И очень обидно,
что жизнь протекла бестолково.
Теперь уже ясно,
что я уношу все свое на закорках с собою.
И значит напрасно
собою я вас беспокою.
Бал
С перехваченной талией, как перехваченным горлом,
фигуранткою в танце качалась, как в трансе,
мыслеформы уколота тонким уколом
в перерывах времен, в их неверном балансе.
Наркотическим сдвигом влекомая в нети, как в сети,
упиралась руками то в стену, то в спину,
и молчали убитые, невоплощенные дети,
и костяшки счетов дополняли картину.
И удары по клетке грудной изнутри и снаружи,
стук фигур приглашенных о черные с белыми клетки,
и бухгалтер итогов, в итоге себя обнаружив,
уже делал свои, непонятные смертным, пометки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.