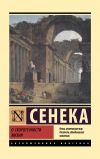Текст книги "Сенека"
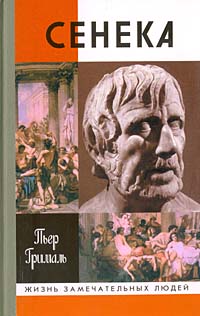
Автор книги: Пьер Грималь
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Впрочем, нетрудно догадаться, что Сенека снова начал читать философские книги, относясь к этому чтению серьезнее, чем когда-либо прежде. Первый обращенный к Серену диалог («О спокойствии духа») содержит психологический анализ, многим обязанный теоретикам Стои, и подтверждение основополагающих принципов классического стоицизма, таких, как необходимость «служения» людям и умение противостоять ударам Фортуны. Более того, автор спорит с одним из последних стоиков – Афинодором, сыном Сандона. В то же время в диалоге явственно чувствуется влияние той науки, которой свободно владели все выученики школы Секстиев, пусть даже науки, успешнее усвоенной в части красноречия, чем в плане постижения диалектики, столь дорогой сердцу учителя.
В трактате «О милосердии», по времени создания тесно соседствующем с предыдущим сочинением, Сенека предстает перед читателем блестящим знатоком стоической литературы, посвященной проблеме царской власти. Не менее глубоки его познания и в вопросе египетских обрядов, связанных с почитанием царей. Политическая направленность, диктуемая темой и поводом, преобразует изложение в размышление о монаршей власти, выдержанное в духе стоицизма, а пример Египта позволяет автору раздвинуть границы понятия монархии до масштабов вселенной. В этот самый миг происходит освобождение Сенеки от оков школы. Он становится подлинным творцом и самобытным мыслителем.
Трактат «О постоянстве мудреца» свидетельствует о философской культуре, которую Сенека, несмотря на огромную занятость, связанную с новой должностью при дворе, продолжал накапливать. Неудивительно, что год или два спустя в трактате «О счастливой жизни» он продемонстрирует такую независимость мысли, какой мы у него еще не наблюдали. Парадоксальным образом этот диалог, созданный на пике его политической карьеры, является в то же время примером широчайшей философской эрудиции и свидетельством проникновения в глубины метафизики.
Начиная с этого времени Сенека открыл для себя собственный духовный мир. Впоследствии он будет применять свое учение к области взаимоотношений людей, набросав по этому случаю теорию подлинно нового общества («О благодеяниях»), сосредоточится на размышлениях о Боге («О суеверии», «О провидении», «Побуждения», а также «Вопросы естественной истории» и «Книги нравственной философии»), обратится к вопросу определения условий внутренней жизни («О досуге» и особенно «Письма к Луцилию»), С 62 года, по мере отхода от практической деятельности, он весь свой досуг отдает дальнейшей разработке специальных аспектов учения. Отголоски его раздумий отчетливо слышны в «Письмах к Луцилию». Но, пожалуй, ключом к пониманию образа мыслей философа в этот период его жизни являются «Побуждения». Благодаря этой книге мы узнаем о его стремлении отделить философию от постижения мудрости, добиться того, чтобы чтение вело к внутреннему росту, в свою очередь, возвышающему душу до такого предела, за которым любая мысль, любой поступок сразу, с первой попытки (a prima susceptione), оказываются сопряжены с Благом. Это становится доступным только тому, учит Сенека в «Счастливой жизни», кто способен справедливо судить о себе самом и понимать смысл истинных ценностей, кто сумел освободиться от «восхищения» внешним и черпает силы в самом себе.
Таким образом, последняя часть творческого наследия Сенеки вписывается – если следовать предложенной нами хронологии – в промежуток между «наставлением» и трактатом, посвященным «философии нравственности». Одновременно Сенека продолжал работать над сочинением о природе, вернувшись к тематике своей молодости, но теперь с гораздо более явственным стремлением связать естественнонаучные изыскания с таким видением мира, в центре которого стоит проблема совести и морального облика человека.
Последние произведения, многочисленные и емкие, образуют нечто вроде единого «свода» (corpus) философских трудов, обстоятельствами своего создания отчасти напоминающего corpus трудов Цицерона, написанных состарившимся государственным деятелем в изгнании. Но по духу они разительно не похожи. Цицерон, оставаясь верным школьной постановке проблем, сравнивал соперничающие течения, вникал в их полемику, анализировал используемый ими вокабулярий и пытался определить их главные положения. Разумеется, и Сенека не оставался равнодушным к достижениям представителей других школ. Ему случалось выступать с комментариями или критикой тезисов Платона и Аристотеля, он охотно цитировал Эпикура. Но все-таки чаще всего объектом его внимания становились сочинения и отдельные тезисы приверженцев Стои, всех этапов ее истории.
Вместе с тем между «сводом» Цицерона и «сводом», задуманным Сенекой, имеется еще одно, более принципиальное различие. Оно состоит в том, что обоими мыслителями двигали разные мотивы. Цицерон, мысль которого никогда не могла оторваться от политической подосновы, видел свою задачу прежде всего в выработке философской концепции действия применительно к «типично» республиканскому городу, на самом деле представлявшему собой смешанный режим, в котором свою роль играли и аристократия, и демократия, и элементы монархизма, но где могли свободно проявить себя индивидуальные добродетели (virtutes, aretai). С этой целью он обратился к философским тезисам, разработанным в те времена, когда дух эллинизма определялся жизнью города. Этим обстоятельством, во всяком случае в существенной мере, объясняется его сознательный выбор в пользу Аристотеля и проявившиеся к концу жизни симпатии к Панетию и мыслителям Средней Стои, которые, начиная с Антипатра из Тарса, вводили в свою систему элементы, заимствованные у Академии и Ликея.
Сенеку вопросы политики волновали ничуть не меньше. Он никогда не считал себя философом-одиночкой, да и стоики никогда не принимали упреков в стремлении к затворничеству, переадресовывая их представителям мегарской школы, известным близостью своих взглядов взглядам киников. Каждый значительный поворот его мысли, как мы уже успели убедиться, происходил под влиянием стремления, если не страстной потребности «служить» другим людям. Но режим, который сложился в императорском Риме, которым ему пришлось некоторое время управлять и при котором прошла вся его жизнь, если и не представлял собой монархию в чистом виде, тем не менее оставался режимом, основанным на трех классических компонентах, хотя соотношение этих компонентов было совсем иным, нежели в «идеальном» Риме, созданном мечтой Цицерона. Индивидуальные добродетели по-прежнему играли свою роль, но они меркли перед добродетелями принцепса. Управление жизнью города перестало быть единственным и главным полем их деятельности. Поэтому встала проблема переосмысления понятия добродетели. Ее решение лежало на пути к возврату к старым определениям и классификациям, выработанным первыми основателями Стои. Стоицизм переставал быть тем, во что его пытался превратить Цицерон, то есть кодексом гражданина и государственного деятеля, и снова приходил к своей исходной функции – способу постижения мудрости. Без конца возвращаясь к Хрисиппу и Зенону, Сенека, как мы вскоре убедимся, видел свою задачу не в том, чтобы вслед за Афинодором Кордилионом и Катаном вернуть учению ортодоксальный вид, а в том, чтобы приспособить его к условиям, в которых должна протекать духовная жизнь человека в Риме, ставшем монархией.
Этому обновлению стоицизма, одним из творцов которого выступил Сенека, предстояло пролечь в русле возврата к древним мыслителям школы. Противоречие здесь только кажущееся. Во все времена существовали течения мысли, которым для обновления требовалось совершить попятное движение подобного рода.
Огромная роль в рамках «свода философских трудов», который торопился создать Сенека, принадлежит «Книгам нравственной философии». Хотя это сочинение полностью утрачено, мы благодаря «Письмам к Луцилию» можем составить себе довольно ясное представление о нем и о содержавшейся в нем концепции философии нравственности. Было бы заблуждением думать – и жертвой этой ошибки стал Луцилий, – что Сенека понимал под «философией нравственности» комплекс неких методов, призванных регулировать поведение людей, делая его добродетельным. На самом деле понятие нравов включает в себя все относящееся к жизни человека, начиная с самого факта его существования и заканчивая городским укладом. Предметом изучения такой философии является в том числе природа человека – то, что сегодня мы именуем психологией, а также взаимосвязь этой природы с теми или иными ценностями. Изучение самих поступков, то есть объективных проявлений человеческого поведения, стоит лишь на третьем месте. В данном случае Сенека демонстрирует верность самым глубоким своим убеждениям, одновременно наиболее характерным для раннего стоицизма, в соответствии с которыми любая цель любого поступка не выходит за рамки «безразличии», остается косной материей, способной обрести ценность только будучи одухотворенной праведной волей.
В свете этой концепции анализ нравов, то есть объективных проявлений поведения, предстает лишь как средство – точно так же, как само поведение человека всегда есть результат его внутреннего выбора. Обличение дурных нравов не может быть самоцелью – вспомним, что от этой же идеи отталкивалась критика вульгаризаторов от философии, погрязших в лицемерном словоблудии, приведенная на страницах «Побуждений»; самое главное – обнажить скрытые пружины души и, добившись ясного осознания механизма их действия, создать психологические условия для счастливой жизни, то есть жизни в согласии с собой (concors sibi), не отягощенной угрызениями совести и бессмысленными желаниями, одним словом, достичь гармоничного слияния человека со Вселенной.
Логично ожидать, что Сенека хотя бы попытался осуществить эту программу, которую можно назвать «программой демистификации». Возможно, именно эта проблема рассматривалась на утраченных сегодня страницах «Книг нравственной философии». Эта догадка основана на сопоставлении фрагментов, посвященных практике религиозных обрядов и поэтической теологии, с близким по духу содержанием трактата «О суеверии». Так же вероятно, что существовали отдельные сочинения, трактующие тему человеческого поведения, сегодня безвозвратно утерянные, но оставившие по себе смутный след, подтверждающий нашу гипотезу. К этой категории можно причислить трактат «О супружестве», относительно которого невозможно судить о хотя бы приблизительной дате создания или обнаружить хоть какие-то привязки к личной судьбе автора. Но даже если трактат был написан до того, как Сенека вышел в отставку, его содержание, насколько позволяет судить отзыв святого Иеронима, довольно гармонично соответствует тому месту, которое он мог бы занять в «своде философии нравственности». Следуя традиции киников, Сенека подвергал критике институт супружества, подчеркивая, насколько он зависим от выдуманных ценностей. Затем, постепенно отходя от доктрины киников, он показывал, что чувство любви к женщине остается достойным одобрения (probabilis) до тех пор, пока оно не противоречит требованиям природы и послушно разуму: «Sapiens vir indicio debet amare coniugem» («Мудрец должен любить жену разумом»). Сенека близко к сердцу принимал максиму Секстия, гласившую: «Слишком страстно любить собственную жену – уже любодеяние», имея в виду любовь, в которой нет ничего, кроме плотского влечения.
К тому же замыслу можно, вероятно, отнести и трактат «О дружбе», несколько фрагментов которого были опубликованы Ниебуром, к сожалению, в столь увечном виде, что строить на их основании какие бы то ни было выводы невозможно. Что же касается трактата «О долге», в котором предположительно также рассматривалась проблема человеческого «поведения», то от него до нас и вовсе дошло лишь название! Мы можем вывести одно: по всей видимости, Сенека счел необходимым посвятить отдельное произведение проблеме долга, то есть «должного», с точки зрения разума, поведения. Его определение он дал и в одном из писем к Луцилию: «Все, что ты видишь и что заключает в себе как божественное, так и человеческое, образует единое целое; все мы – части огромного тела. Создавая нас, Природа связала нас узами родства, ведь она сотворила нас из одних и тех же элементов, в которые мы потом снова и превратимся; она вдохнула в нас привязанность друг к другу и сделала нас способными жить обществом... Наше общество – точь-в-точь сложенный из камней свод, который рухнул бы, не держи камни друг друга, но именно по этой причине он и стоит». Таков, учит Сенека, долг человека. Подобные рассуждения, вне всякого сомнения, вытекают из концепции философии нравственности; они доказывают, что Сенека, овладев разработанным им учением, в годы напряженных размышлений, чтения и творческого труда, занимался его шлифовкой, тем самым «приводя в порядок» римский стоицизм и вдыхая в него новую жизнь.
«Система» Сенеки
Почему Сенека, принадлежа к среде, казалось бы, предельно далекой от философии – молодой представитель сословия сенаторов, рождением и богатством предназначенный подняться до высших государственных постов, чтобы заседать в курии, судить и миловать, поочередно пробуя себя в роли обвинителя, защитника, наконец, судьи, – почему этот модный оратор, вскоре ставший советником принцепса и руководивший самыми важными государственными делами, считал необходимым все больше времени посвящать сочинению философских трактатов, которые не только ничего не прибавляли к его светской славе, но и заставляли окружающих относиться к нему с подозрением? Одним словом, почему он стал Сенекой, а не Плинием Младшим?
Разумеется, главной причиной следует считать его природную склонность к занятиям философией. Но почему природная склонность оказалась сильнее всех прочих факторов? Этого одним горячим интересом к философии, пережитым в ранней молодости, не объяснить, разве что допустив, что в преклонные годы он вдруг вспомнил о своем юношеском увлечении и с наслаждением предался ему. Но ведь многие и многие римляне его круга так же живо интересовались философией и даже старались выстраивать свою жизнь в соответствии с моральными наставлениями той или иной школы, в том числе и школы стоиков. Но никому из них и в голову не приходило ни тратить время на создание пространных философских трактатов, ни публиковать плоды своих размышлений по кардинальным проблемам природы и духовной жизни человека. Вот почему для нас так важно определить причины, побудившие Сенеку взяться за перо и с каждым годом все упорнее не выпускать его из рук.
Когда человек, склонный к размышлениям, становится писателем-философом, им обычно движут два мотива: либо представление, что ему удалось найти оригинальное решение загадки Бытия (как случилось с Декартом), либо сознание того, что благодаря изучению творчества других мыслителей он достиг такой степени мудрой проницательности, что просто обязан указать людям путь, каким прошел сам. Разумеется, в пределе оба эти побуждения сливаются в одно, поскольку открыватель новой истины всегда испытывает потребность рассказать о ней окружающим. В этом его стремлении нет ни тщеславия, ни гордыни. И Сенека знал, что чувство, заставляющее нас делиться с другими своими знаниями, – одно из глубочайших человеческих чувств, которому невозможно противостоять. Но к сознанию, что ты «мудрее» своих собратьев, даже если мудростью обязан книгам или учителю, всегда в большей или меньшей мере примешивается ощущение, что ты обрел эту мудрость ценой личных усилий, что книги служили тебе лишь наставниками, но не менее важным было напряжение собственных творческих сил.
Сенека не остался глух ни к одному из этих мотивов. Мы уже упоминали, что на протяжении всей своей жизни он жаждал «служить людям». Он любил повторять, что это призвание, которое чувствует каждый, кто стремится реализовать свою человеческую природу, может принимать множество форм – от политической деятельности, одухотворенной мудростью, до безмолвной созерцательности. Впрочем, последнее случается нечасто и всегда под гнетом обстоятельств, к счастью, исключительных (по крайней мере, теоретически: правление Калигулы доказало Сенеке справедливость знаменитого высказывания, согласно которому бессмысленно публично выступать против того, кто имеет власть лишить тебя всего). На «подступах» к этой молчаливой работе мысли располагаются все виды деятельности, связанные с наставничеством и проповедничеством, одним словом, с образованием. Любому философскому сочинению под силу такая задача, и способов ее решить бесчисленное множество. Так, утешения помогают смягчить боль и содержат полезные советы принцепсу. Психологический анализ гнева призван (возможно) повлиять на характер старшего брата и (наверняка) отвратить только что пришедшего к власти принцепса от искушения править, основываясь на насилии и жестокости. Значительная часть произведений Сенеки – мы надеемся, нам удалось это доказать, – создавалась ради подобных целей.
В этом он смыкается с Цицероном, который видел свое предназначение в том, чтобы приобщить римлян к философской мысли. Разумеется, между обоими мыслителями существуют различия, обусловленные несхожестью жизненных обстоятельств. Учениками Цицерона были крупные государственные деятели, задававшие тон в римской политике. Сенеке, которому выпало жить при монархическом режиме, приходилось обращаться, с одной стороны, к принцепсам. Клавдий, а затем Нерон прямо или косвенно усваивали науку, содержавшуюся в трактатах «О гневе», «О милосердии», «О благодеяниях». С другой стороны, поскольку политика перестала служить главным источником счастливой жизни, Сенека перевел свой взор с властителей города на тех людей, к которым испытывал искреннюю привязанность; они и стали адресатами его сочинений. Его философия обретала новое измерение, состоявшее в достижении «счастливой жизни». В творчестве Цицерона это измерение также присутствовало; его можно обнаружить как в дошедших до нас пересказах «Гортензия», так и в более или менее успешных реконструкциях фрагментов «Утешения», но оно явно уступает политическому измерению, которому отведена решающая роль. У Сенеки философия также выполняет функцию руководства к жизни. На закате своих дней он заявит, что это главная, едва ли не единственная функция философии. Но в его творческом наследии, созданном до 62 года, найдется немало свидетельств того, что в прежние времена он считал не менее важной и другую функцию философии – служить наставлением в политической и общественной деятельности.
Как бы то ни было, мы понимаем, что достижение мудрости и размышления о достижении счастливой жизни неразрывно связаны с работой над философскими сочинениями, иначе говоря, с писательским трудом. Об этом Сенека рассказывает в длинном письме к Луцилию, почти целиком посвященном проблеме писательского творчества и тому месту, которое оно занимает в его жизни, отныне превратившейся в чистое созерцание:
«Я не забросил чтение. Оно необходимо мне, как я разумею, прежде всего потому, что одного моего общества мне мало, но еще и потому, что знакомство с изысканиями, проведенными другими людьми, дает возможность судить об их результатах и побуждает к поиску новых результатов. Чтение питает наш ум и придает ему, утомленному размышлением, новые силы, хотя и чтение требует размышления. Мы не должны ограничиваться только писанием или только чтением; первое (я имею в виду писательство) изматывает и истощает наши силы; второе – дробит и рассеивает их. Нужно переходить от одного к другому и в этом чередовании умерять одно другим; нужно стараться, чтобы то, что получено благодаря чтению, обретало форму в письме». Сравнивая работу философа с трудом пчелы, Сенека отмечает, что полученные из книг частички знания должны проходить тщательный отбор, чтобы затем, будучи преобразованными напряженным усилием ума, они превратились в неделимую субстанцию, которая является частицей нас самих.
В этом письме Сенека не уточняет, но в одном из последующих специально подчеркивает, что сознание философа проникается заимствованными элементами именно в процессе творчества: «Заботься о том, что ты пишешь, а не о том, как пишешь. Пиши не столько ради самого письма, сколько ради того, чтобы лучше понять и лучше усвоить понятое, чтобы, так сказать, приладить его к своей мерке». На основании этого совета мы позволим себе предположить, что работа над многими из трактатов Сенеки имела целью не только просвещение того, к кому был обращен трактат, но и просвещение самого автора. В писательстве он видел способ овладения мыслью. Пока не записана, она остается чужой, как чужим кажется художнику или скульптору предмет, пока он не повернет его так и этак, не рассмотрит хорошенько, измерит, взвесит, – чтобы в конце концов претворить в образ, который будет принадлежать уже лично ему. В этот миг предмет перестает быть частью внешнего мира и становится частью самого художника. То же самое чувствовал Сенека по отношению к писательскому труду. И мы должны согласиться, что подобное сравнение, на первый взгляд напоминающее ораторский, а то и хуже того – риторический прием, направленный исключительно на достижение внешнего эффекта, на самом деле отражает внутреннюю динамику авторского рассуждения, заставляет заиграть яркими красками поэтическую силу красноречия, на живом примере проверяет собственную власть над душой. Поэтому то, что снаружи кажется простой убедительностью, для Сенеки – внешний лик глубоко внутреннего движения, которое имеет своей целью овладение мыслью.
Говорить о «системе» Сенеки, внутренняя цельность которой есть наиболее полное выражение ее сути, следует именно в этом плане – отмечая, как шло усвоение философом идей, заимствованных из самых разных источников. Об этом необходимо постоянно помнить тому, кто берется за анализ «источников», из которых черпал философ, дабы отделить его оригинальные мысли. Все, что Сенека создавал, вернее, воссоздавал на основе почерпнутых знаний, есть неделимое целое, именно таковым воспринимавшееся его сознанием.
Судя по всему, потребность придать своим философским сочинениям вид цельного «свода» Сенека испытал в последние два или три года жизни. Мы не можем утверждать, что эта целостность проявилась уже в первых его произведениях, во всяком случае осознанно. Но нельзя сказать и что она в них вообще отсутствует. Кажущееся противоречие этих двух утверждений легко разрешается простой сменой точки зрения. На самом деле мы думаем, что внутреннее единство ранних произведений Сенеки существует главным образом «в потенции», поскольку, рассматривая ту или иную конкретную проблему, Сенека каждый раз как бы инстинктивно выбирает наиболее непротиворечивое решение, либо пользуясь тем, что непротиворечивость тезисов или разных аспектов проблемы заложена в источнике (книге), откуда он черпает, либо приводя ту или иную идею в непротиворечивое состояние силой собственного мышления.
Довольно ярким примером применения подобного метода синкретизма, при котором диалектическому построению или логической дедукции отводится гораздо меньше места, нежели инстинктивному, «художественному» выбору схемы, включающей аргументы и образы, взятые из самых разных источников, служит «Утешение к Марции» – наиболее раннее из известных философских сочинений Сенеки. Сам жанр утешения диктовал автору необходимость использовать широчайший набор аргументов. Точно так же поступал и Цицерон, когда пытался преодолеть в собственной душе боль, вызванную смертью Туллии3434
Любимая дочь Цицерона. Ее смерть была самым страшным ударом в его жизни. Примеч. науч. ред.
[Закрыть]. В «Утешении к Марции» обнаруживаются идеи, заимствованные из трудов перипатетиков, представителей киренской и эпикурейской школ, Хрисиппа и Клеанфа, а также непосредственно из Платона. Мы уже отмечали, что самый момент публикации утешения (по крайней мере в случае обращения к Марции) был выбран в соответствии с «методикой исцеления», признаваемой стоиками. Значит ли это, что, пользуясь средствами, разработанными другими школами, Сенека продемонстрировал измену собственным убеждениям? Может быть, он принес их в жертву «литературности» изложения, предугадывая ожидания читателя, и в результате запутался в противоречиях?
Первыми в ряду научных аргументов, представленных в «Утешении», Сенека поставил те, что принадлежат школе Аристотеля. Он признает, что боль – это естественная реакция человеческого существа на утрату близкого человека. Доказательством ее природного характера служит то, что и животные испытывают это чувство. Но пример животных доказывает, что действие этой боли ограничено во времени и лишено чрезмерных проявлений. И Сенека повторяет наставление Аристотеля: любые эмоции выполняют свою природную функцию только будучи умеренными.
По устоявшемуся мнению, подобная концепция эмоциональной жизни чужда стоицизму, поскольку между понятием «метриопатии» (умеренного чувства) и стоическим понятием «апатии» существует абсолютное противоречие. В поддержку этому мнению обычно приводят цитату из сто шестнадцатого письма, в котором рассматривается вопрос, что лучше: «испытывать умеренные чувства или не испытывать никаких». Сенека добавляет: «Перипатетики умеряют чувства, наши философы (стоки) их изгоняют». И затем доказывает, что правы именно стоики. Таким образом, делают вывод комментаторы, между созданием «Утешения к Марции» и «поздними» произведениями Сенеки позиция философа кардинально изменилась, либо, если следовать оценке Квинтилиана, Сенека, слабо разбиравшийся в тонкостях философских учений, поддался влиянию момента.
Но подобное толкование опирается на поверхностный, неточный анализ текста и произвол в сопоставлениях. В еще одном письме к Луцилию, отвечая на упреки в бесчувственности, столь часто предъявляемые стоикам, Сенека отвергает это обвинение как беспочвенное. Бесчувственность исповедовали представители мегарской школы, утверждает он: «Наш мудрец, и это правда, преодолевает неприятные чувства, но он их испытывает, тогда как их мудрец не чувствует ничего». В другом письме, том самом, где Сенека не соглашается с возможностью разумного контроля над страстями и чувствами, он признает, что любое чувство «проистекает из природного источника». Мало того, он напоминает, что в духовную жизнь входят и эмоциональные функции, относящиеся к трем сферам: воли, «осторожности» и радости. Это учение, у греческих стоиков связанное с понятием «eulabeia», а у Цицерона с тем, что он называл тремя видами душевного равновесия (tres constantiae), корнями уходит в Древнюю Стою. Объяснение причин, заставивших Хрисиппа (а может быть, и Зенона) разработать это учение, мы находим у Лактанция. Стоики считали четыре основные «страсти» болезнями души. С другой стороны, поскольку эмоциональный порыв естествен и необходим для внутренней жизни («без чего ничто не движется, ничто не действует»), возникает необходимость заменить «порочные» страсти «чувствами», подконтрольными разуму. По этой схеме мудрей, оказавшись в окружении предметов внешнего мира, не остается к ним бесчувственным, но, как и всякий человек, испытывает естественные «искушения», но именно потому, что он мудрец, он умеет преобразовать свои эмоции, от природы хаотические, в устойчивые чувства. Это ему удается, поскольку между первичным побуждением и поведением у него наличествует разумное суждение. Таких «устойчивых» (или постоянных) чувств три, тогда как первичных страстей, как мы помним, четыре. Желанию (cupido) соответствует твердая воля; страху (metus) – осторожность; удовольствию (laetitia) – безмятежная радость (gaudium, cara). Без пары остается только четвертая страсть – огорчение (aegritudo, luph). Определяемая как «искажение души, противное разуму», эта страсть ни в каком виде не может быть подчинена рассудку. Целиком лежащая в сфере отрицания, она служит не возбуждению существа, а его разрушению. И у мудреца нет никакой разумной причины предаваться горю, гнуться душой, тем самым отрицая само бытие.
Таким образом, действительно, учение стоиков разительно отличается от учения Аристотеля и его последователей. Но это отличие, вопреки расхожему мнению, носит совсем иной характер. В каком-то смысле стоики действительно отрицают страсти и утверждают, что их следует изгнать из души. Но они не ограничиваются подобным общим рассуждением, а анализируют проблему, выделяя среди страстей «положительные», которые разум способен преобразовать в движущее начало внутренней жизни, и отмечая одну «отрицательную» страсть – огорчение, относящуюся к небытию. Все эти страсти имеют естественное происхождение и объясняются непроизвольной реакцией души, в результате которой возникает порыв (impetus) – главный элемент души (animus) одушевленных существ (animalia). Природа вызываемого чувства зависит от отношения к этому порыву. Осознание присутствующего в данный момент блага приобретает форму наслаждения (voluptas), будущего блага – форму желания (cupido), будущего зла – форму страха (metus), присутствующего зла – форму огорчения (aegritudo). Если разум, призванный критически оценивать спонтанные реакции сознания, путем рассуждения (judicium) приходит к выводу, что эти реакции имеют законное основание, три первые страсти превращаются в «постоянства». Вместе с тем очевидно, что разум никогда не примет за подлинное зло чувство, возникающее в ответ на свершившуюся неприятность (incommodum), поскольку настоящее зло – всегда зло моральное, а душа мудреца никогда не допустит его в себя. Вот почему три «постоянства» нацелены только на Добро (моральное Добро), как настоящее, так и будущее, в зависимости от того, на что направлено стремление – на достижение добра, уклонение от того, что не есть добро, или наслаждение добром.
Следовательно, чувствительность к боли это – спонтанное ощущение, предшествующее всякому разумному суждению, – «ошибка» в оценке природы зла. Разумеется, она естественна, но ее естественность – низшего порядка, она являет собой нечто вроде «сырья» сознания. И она непродолжительна. Чем скорее вступает в действие суждение разума, тем быстрее тускнеет это чувство. Таково точное изложение учения, представленного в «аристотелевской» части «Утешения к Марции». Термин «умеренное» (modicum), приложимый к чувству скорби до тех пор, пока оно остается естественным, не должен ввести нас в заблуждение. Конечно, главный «источник» этой идеи с ее ссылкой на чувство меры – учение Аристотеля, но ведь Сенека не говорит (что свидетельствовало бы о последовательной позиции сторонника Аристотеля), что «естественная» скорбь при условии своей умеренности становится добром, что ей принадлежит своя, особая роль в жизни сознания и в философской жизни. Напротив, вслед за стоиками он утверждает, что скорбь – тотально отрицательное и деструктивное чувство. Вот почему в сто шестнадцатом письме он строит свое доказательство на примере опасности «огорчения» и лишь после этого постепенно переходит к опасностям, которые таит в себе любая страсть. Он сознательно придерживается области «постоянств» и подводит Луцилия к необходимости различать сферу чистой теории и сферу реальной жизни сознания. Это различие он объясняет с помощью знаменитой хрии Панетия, который советует самонадеянному ученику не верить, что одни и те же моральные критерии приложимы к глупцу и к мудрецу. Молодой человек обратился к Панетию с вопросом, может ли мудрец влюбиться. «Что касается мудреца, это мне неизвестно; но и ты и я, мы оба еще слишком далеки от мудрости, поэтому мы не должны позволить себе попасть в ненадежное положение, которому неведома мера, в котором мы становимся зависимы от другого человека и утрачиваем чувствоЧобственной значимости». То, что верно в отношении огорчения, верно и в отношении прочих чувств и страстей, но только для глупца. Лишь мудрец способен силой своего суждения преобразовать их в «постоянства». Следовательно, необходимо избегать страстей, не попадать в ситуации, чреватые их возникновением, но если уж они возникли – а это неизбежно, надо делать все возможное, чтобы удержать их в узде, по крайней мере в рамках строгого соответствия природе. Мы видим, что Сенека, даже заимствуя некоторые понятия у перипатетиков, трактует их в духе Стои. В сущности, это не представляет для него труда, потому что стоики довольно часто пользовались анализом, проведенным представителями школы Аристотеля, которой они обязаны не меньше, чем школа Эпикура. И те и другие – и стоики, и эпикурейцы – в значительной степени являются наследниками Ликея.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.