Текст книги "Годы учения. Учебное пособие для СПО"
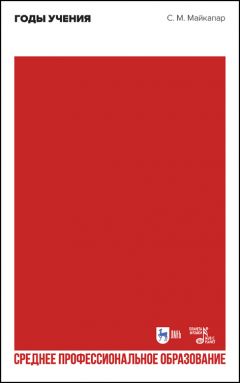
Автор книги: Самуил Майкапар
Жанр: Учебная литература, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Еще одно обстоятельство мало способствовало успешности занятий в классе ансамбля для оканчивавших пианистов.
Год окончания, на который по учебному плану падало посещение класса ансамбля, был годом усиленных занятий в классах фортепиано соло. Почти все внимание и время уже с середины года оканчивавшие должны были уделять изучению своей обширной и сложной сольной программы окончания по классу специальной игры на фортепиано. При таких условиях не могла не пострадать еще больше успешность занятий в классе ансамбля у многих оканчивавших, не имевших никакой предварительной практики совместной игры.
* * *
Профессор Леопольд Семенович Ауэр был не только совершенно исключительно выдающимся педагогом скрипичной игры, но и первоклассным солистом-скрипачом с мировым именем. Не менее крупной художественной величиной был он и как ансамблист.
Много раз приходилось мне его слышать в партии первой скрипки в знаменитых в то время камерных собраниях в зале «Кредитного общества», а через несколько лет по окончании мною консерватории я удостоился чести вместе с ним выступить в одном из абонементных концертов в этих камерных собраниях.
Указания и поправки Ауэра в его классе ансамбля были крайне интересны.
Больше всего поражало то, что, будучи только скрипачом, он умел показать на рояле пианистам фразировку и тонкости ансамблевого исполнения с такой художественностью, что трудно было поверить, чтобы он не владел роялем, как настоящий пианист.
Нечего и говорить, насколько художественными и интересными были указания, которые Ауэр делал инструменталистам.
Особенно памятны мне его требования, чтобы привыкшие всегда солировать скрипачи предельно сдерживали свой звук в аккомпанементах, когда временно солирующая партия фортепиано должна была быть исполнена piano.
Слушая игру самого Ауэра в ансамблях, я много раз восхищался, с какой тонкостью он в таких местах исполнял аккомпанементные отрывки в своих партиях. При всей тонкости звучания аккомпанементы Ауэра отличались еще необыкновенной ясностью и богатством мельчайших оттенков.
* * *
Год окончания консерватории в отношении фортепианных занятий сложился для меня крайне неблагоприятно, что не могло не отразиться на моих работах в классе ансамбля у Ауэра.
Пока в начале учебного года я после повреждения четвертого пальца правой руки восстанавливал свою игру на фортепиано, прошло больше двух месяцев.
К весне я, кроме того, потерял еще больше месяца из-за вторичного заболевания воспалением легких.
Ко всему этому присоединилась еще необходимость усиленной работы над приготовлением программы окончания по игре соло на фортепиано.
В результате всех этих обстоятельств мне удалось очень мало посещать класс ансамбля и играть в нем.
Приходится поэтому сожалеть о том, что я так мало мог тогда использовать художественное руководство такого большого специалиста ансамблевой игры, каким был профессор Ауэр.
Запомнилось мне одно интересное замечание, сделанное им по поводу исполнения мною партии фортепиано в квинтете соль-минор Моцарта для фортепиано и струнного квартета:
– Представьте себе, – сказал мне тогда Ауэр, – что вы играете на миниатюрном, изящном рояле и что руки у вас и пальцы так же миниатюрны. Играть Моцарта нужно с предельной тонкостью звука и оттенков.
Когда я в конце года сдавал экзамен по ансамблю, я играл квинтет Ми-бемоль-мажор Шумана со струнным квартетом.
Готовиться к этому экзамену мы должны были также совершенно самостоятельно, без всякой помощи со стороны руководившего классом ансамбля профессора.
На репетиции до меня играли некоторые весьма малоопытные в ансамблевой игре оканчивающие пианисты. При этом скрипач Ф-ман, один из талантливых учеников класса Ауэра, игравший с ними партию первой скрипки, позволял себе самые дикие выходки, делая из репетиции настоящий фарс.
Когда очередь репетировать дошла до меня, он в самом начале шумановского квинтета с такой силой двинул смычок по струнам вверх, что смычок вылетел из его руки и полетел в угол класса, в котором шла наша репетиция.
Я тотчас же перестал играть и сделал ему резкое замечание:
– Не забывайте, что мы не в кабаке! Мы играем музыку Шумана, и я предлагаю вам прекратить ваши неуместные выходки.
Ф-ман тотчас же принялся серьезно за исполнение своей партии, и вся репетиция была проведена им с полным вниманием и сосредоточенностью.
На экзамене, в самом начале нашего исполнения шумановского квинтета, я был удивлен необычно жидкой звучностью первых сильных аккордов.
Аккорды эти должны быть исполнены всем струнным квартетом в унисон с фортепиано.
Только на четвертом такте я заметил, что играю свои аккорды октавой выше, в чем и лежала причина общей жидкой звучности.
Я, однако, не растерялся и с пятого такта стал играть в правильной октаве.
Вероятно, причиной этого маленького инцидента было так часто имеющее место в начале публичных выступлений волнение.
Так как в течение исполнения всего квинтета я вполне удовлетворительно и с хорошим ансамблем провел свою партию, экзаменационная комиссия этому инциденту не придала значения, и в дипломе у меня по предмету ансамблевой игры стоит хорошая отметка.
3. Профессор Н. Ф. Соловьев. продолжение и окончание мною у него курса теории композиции
Соловьев Николай Феопемптович – композитор. Родился 27 апреля 1846 г. в Петрозаводске. Окончил консерваторию в 1872 г. по классу композиции у Зарембы.
В 1872 г. сделался преподавателем в Петербургской консерватории. С 1885 г. состоял профессором композиции. С 1870 г. был музыкальным критиком во многих журналах и газетах. Редактировал музыкальный отдел в большом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.
Его произведения: Симфоническая картина «Русь и монголы», оперы «Кузнец Вакула», «Корделия» и «Домик в Коломне»; фантазия для оркестра на тему «Эй, ухнем»; романсы, фортепианные пьесы и др.
В классах специальной теории композиции в мое время в консерватории работали не одни только обладавшие творческим дарованием. В целях повышения общего теоретического образования эти классы посещали также будущие дирижеры, музыкальные писатели (историки, исследователи разных вопросов музыкального искусства, критики и т. д.). Кроме того, прохождение курса специальной теории композиции было обязательным еще для органистов, ввиду большой сложности и многоголосности произведений органной литературы.
Только небольшое число теоретиков имело от природы композиторское призвание и становилось в конце концов композиторами.
За время трехлетнего пребывания в классе композиции у Соловьева мне пришлось убедиться в том, что ошибки, и даже большое количество ошибок в работах учащихся не указывают на отсутствие творческого дарования. И наоборот. Соблюдение всех правил и отсутствие ошибок не является признаком композиторского таланта.
У нас в классе был один военный, работы которого приводили Соловьева в отчаяние: «Черт знает! – вырывалось иногда у Соловьева, который вообще любил сильно выражаться, – никогда никаких ошибок в его работах, а слушать невозможно – такая сушь и полное отсутствие музыки!»
Блестяще одарен от природы творческим даром был самый молодой из моих товарищей по классу, пятнадцатилетний мальчик Б-ов, прекрасно к тому же игравший тогда на рояле.
О нем как-то Соловьев говорил, что со времени Моцарта не было такого композиторского дарования. Он, как и Моцарт, мог импровизировать на рояле целые фуги на любую заданную тему.
К сожалению, уже в этом возрасте на нем сказалась унаследованная от отца склонность к запоям, в короткий срок погубившая и его творчество, и его дивную фортепианную игру.
Некто доктор медицины Г-блюм писал необыкновенно красивую и изящную музыку, но впоследствии также не стал композитором, а много лет был одним из видных музыкальных критиков и сотрудничал в журналах и газетах.
Другой мой товарищ, С-ский, с большими мучениями и невероятной медленностью сочинял свои композиции. Он был чрезмерно требователен к своему творчеству: все ему не нравилось.
Бывало, что за целый день он сочинял всего несколько тактов. Эти маленькие плоды его мучительного творчества были необыкновенно хороши. Но при такой особенности его дарования он вряд ли мог пойти далеко.
Трудно сказать, конечно, что выработалось бы из него в будущем, если бы он не умер еще совсем молодым.
Одновременно со мной изучала теорию композиции у Соловьева еще пианистка и композитор Леокадия Кашперова, четыре года пробывшая в классе игры на фортепиано А. Г. Рубинштейна, но из-за занятий по композиции, так же как и я, отложившая свое окончание по фортепиано.
Одаренная по обеим специальностям, она отличалась к тому же серьезным отношением к своим работам и необыкновенной прямотой характера.
Соловьев на своих лекциях любил иногда острить, но не всегда удачно. Я помню, как после некоторых его неудачных острот в мимике лица Кашперовой явно выражалось неудовольствие. Заметив это, Соловьев спрашивал ее:
– Вам это не понравилось?
Она же откровенно отвечала:
– Да, совсем не понравилось!
Соловьев не сердился на нее за это, а рассмеявшись продолжал читать свою лекцию дальше.
С Кашперовой я сидел рядом на одной скамье. Когда мы изучали фугу и канон, она мне как-то сказала:
– Как странно! Какие разные у композиторов бывают склонности. Вот вам лучше всего удаются фуги, а мне каноны.
Через несколько лет после окончания нами обоими консерватории она поднесла мне печатную партитуру и четырехручное переложение своей симфонии для оркестра, в издании Бесселя.
Из учеников Соловьева со мной вместе учился еще сын моего первого учителя – Валериан Гаэтанович Молла, ставший впоследствии прекрасным дирижером.
В заключение общего очерка о классе профессора Соловьева упомяну еще об одном его ученике.
В середине учебного года у нас в классе появился новый ученик, довольно великовозрастный, некто Лаб-ский.
– Подумайте, – сказал нам как-то в его отсутствие Соловьев, – не имея средств для поездки по железной дороге, он пешком пришел из Одессы! До того сильна была у него жажда учиться теории композиции.
Начав с ним заниматься, Соловьев прежде всего обратил внимание на то, что он совершенно не умеет читать ноты с листа.
Каждый урок (уроки были у нас два раза в неделю) Лабский должен был читать с листа сонаты Бетховена, начиная с первой.
Его беспомощность при этом была вначале так велика, что весь наш класс с любопытством следил за этими сеансами, часто невольно потешавшими нас.
Вскоре слушать его чтение с листа для курьеза стали приходить и ученики классов Римского-Корсакова и Иогансена.
Однако забава эта продолжалась недолго. Через два-три месяца Лабский стал настолько прилично справляться со своей задачей, что интерес к его чтению с листа у нас пропал.
Соловьев находил у него композиторское дарование.
К сожалению, по окончании консерватории я совершенно потерял его из виду и ничего о дальнейшей его судьбе по сию пору не слышал.
* * *
Окончив курс специальной гармонии, я с большим интересом и увлечением стал заниматься у Соловьева контрапунктом.
В том же году я успел пройти еще и полный курс фуги, хотя по учебному плану оба эти предмета – контрапункт и фуга – проходились в течение двух лет.
За увлечение домашними работами по контрапункту я в самом начале описываемого года жестоко и надолго поплатился своей фортепианной игрой.
В то злополучное утро, когда у меня, как я уже упоминал выше, так внезапно обнаружилось повреждение четвертого пальца правой руки, я, конечно, стал искать причину этого повреждения.
Игра на фортепиано не могла вызвать его. Накануне я играл всего четыре часа. А бывало, что я работал на рояле пять и шесть часов, нисколько не утомляя рук.
Но вот, когда я стал припоминать и подсчитывать, сколько часов в этот день я писал контрапунктические свои и другие композиционные работы, то, к удивлению своему, увидел, что писал я ноты десять часов, да к тому же еще очень твердым карандашом.
Врачи, к которым я обращался за советом, подтвердили мое предположение, что повреждение пальца произошло у меня не от фортепианной игры, а от переутомления вследствие чрезмерного писания, вызвавшего расслабление связок четвертого пальца. Они даже называли это заболевание немецким термином – «Schreibkrampf» («судорога писцов»).
В течение всей остальной части года я уже боялся много писать ноты, и большинство моих работ по контрапункту и фуге, а также некоторые свободные композиции записывал под мою диктовку Валериан Молла.
* * *
Занимаясь контрапунктом у Соловьева, я значительно развил и расширил умение соединять две и больше самостоятельных мелодий в одновременном звучании, с чем только немного ознакомился практически в классе энциклопедии у Зике.
Мне хочется объяснить вам, как именно вообще работают над контрапунктом и благодаря чему я в классе специального контрапункта все больше приобретал знаний и умений в области композиторской контрапунктической техники.
Изучение контрапункта начинают обыкновенно с так называемого контрапункта «строгого стиля», после которого уже приступают к технике «свободного контрапункта».
В строгом контрапункте, и в мелодических рисунках, и при соединении мелодий друг с другом не разрешаются многие интервалы и допускается только небольшое их число. Совершенно запрещены, например, все диссонансы.
В основу работы берется определенная мелодия, которая называется «cantus firmus» («кантус фирмус» – неизменно устойчивая мелодия).
Эта устойчивая мелодия либо задается преподавателем, либо берется из какого-нибудь задачника по контрапункту, либо надо уметь сочинять ее самому.
Задача состоит в том, чтобы к этой устойчивой мелодии сочинить другую, совершенно самостоятельную (т. е. не следующую за ней шаг за шагом параллельно), при этом так, чтобы она могла звучать одновременно с данным cantus firmus’ом.
Такая присочиненная новая самостоятельная мелодия носит название «контрапункта» к cantus firmus’у. В результате все вместе носит название «двухголосного контрапункта».
У Зике мы писали только по одному контрапункту к заданному им cantus firmus’у.
При этом сочинявшаяся нами к cantus firmus’у самостоятельная мелодия всегда помещалась сверху.
В классе же специального контрапункта у Соловьева мы должны были сочинять не одну, а не менее трех таких различных самостоятельных мелодий-контрапунктов к сочиненному нами же самими одному и тому же cantus firmus’у, располагая их выше этого cantus firmus’a и, кроме того, еще не менее трех контрапунктов под последним.
Для того чтобы это задание полностью выполнить, требовалось гораздо больше работы и изобретательности, но зато от этих исканий развивалась контрапунктическая техника.
Конечно, и требования к художественным качествам сочинявшихся нами мелодий-контрапунктов были значительно строже и выше, чем это было в классе энциклопедии.
Все, что я сейчас сообщил вам, относится только к двухголосному контрапункту.
Затем переходят к трехголосному и четырехголосному контрапункту.
При работе над трехголосным контрапунктом нужно к данному cantus firmus’у сочинить не одну, а две самостоятельные мелодии, но так, чтобы все эти три голоса (мелодии) могли звучать одновременно.
Работая над четырехголосным контрапунктом, к cantus firmus’у сочиняют три другие мелодии, опять-таки таким образом, чтобы все четыре голоса могли звучать одновременно.
Я не могу здесь описать вам всех видов работ, входящих в курс специального изучения контрапункта, так как это заняло бы слишком много места.
Скажу только еще несколько слов о так называемом «двойном» контрапункте.
Дело в том, что далеко не всякая присочиненная к cantus firmus’у мелодия-контрапункт, приписанная к нему сверху, может звучать хорошо и согласно одновременно с этим cantus firmus’ом, если ее же поместить под ним.
При соблюдении, однако, некоторых условий и правил можно достигнуть того, чтобы две совершенно самостоятельные мелодии могли одновременно хорошо звучать друг с другом в любом расположении одна по отношению к другой.
В таких случаях, когда те же две мелодии – одна нижняя, другая верхняя – могут отлично звучать одновременно, поменявшись местами, т. е. верхняя стать нижней, а нижняя верхней, мы имеем дело с «двойным» контрапунктом.
* * *
Теперь, когда я дал вам общее представление о работах по контрапункту, мне остается только повторить, что в классе специального контрапункта у Соловьева и количество сделанных мною работ было много больше, и различные виды контрапунктов разнообразнее и, наконец, само качество работ было много выше, чем в классе энциклопедии Зике.
Успешно сдав экзамен по контрапункту, я в середине учебного года был переведен в класс фуги.
В этом классе мы изучали также технику композиции канонов.
Канон и фуга являются особыми видами многоголосных контрапунктических произведений, и приступать к их практическому сочинению можно, только имея уже известный навык в общей контрапунктической технике.
Если в двух или больше голосах проходит одна и та же мелодия, но так, что каждый следующий голос ее начинает на такт или больше позднее предыдущего, то такой вид сочинения носит название канона.
Не зная приема такой композиции, сделать это трудно.
Прием же, которым пользуются композиторы при сочинении двухголосного канона, довольно простой.
Вы пишете один такт мелодии, который даете первому голосу, например нижнему. Этот однотактный мотив вы во втором такте даете второму, верхнему, голосу, а к нему сочиняете контрапункт снизу. Затем этот нижний контрапункт вы в третьем такте переносите в верхний голос и опять к нему сочиняете контрапункт снизу и т. д.
Обладая контрапунктической техникой, сделать это механически очень легко. Но добиться того, чтобы получить настоящий художественный канон, чтобы мелодия, проходящая через все голоса, была естественной и имела хорошую форму, далеко не так просто.
Впрочем, у различных композиторов бывают от природы различные склонности. Одним художественные каноны даются легко, другим же приходится много работать, чтобы добиться художественности и естественности мелодии, лежащей в основе канона. У нас, в классе Соловьева, каноны, как я уже упоминал, особенно удавались Леокадии Кашперовой.
* * *
У меня больше склонности было к сочинению фуг.
Я займу еще ваше внимание общим объяснением, что такое фуга и чем она отличается от канона, с которым находится в некотором родстве.
Фуга, как и канон, является многоголосным («полифоническим») контрапунктическим сочинением.
Другое сходство с каноном состоит в том, что в фуге также одна и та же мелодия проводится последовательно по всем голосам.
В чем же отличие фуги от канона и каковы особенности фуги?
В канонах проводимая по голосам мелодия сравнительно большого протяжения. В фугах же мелодия эта значительно короче и скорее может быть названа «мотивом», а этот технически короткий мотив носит название «темы» фуги.
Вторая особенность фуги состоит в том, что тема фуги во втором голосе (также после некоторой паузы) проводится не с той же ноты, с которой начинается она в первом голосе, а всегда с квинты, т. е. с пятой ноты от первой.
Если в фуге больше двух голосов, то в третьем голосе она опять начинается с первой ноты, в четвертом же голосе вновь начинается с квинты.
Тема, начинающаяся с первой ноты, технически называется «вождем», начинающаяся же с квинты (с пятой ноты) – зовется «спутником».
Здесь я не могу входить в большие подробности построения фуг, но думаю, что сказанного достаточно, чтобы получить общее представление о фуге и ее отличии от канона.
* * *
Мне кажется, что сравнительно легкое, быстрое и успешное прохождение мною у Соловьева курсов специального контрапункта, канона и фуги объясняется тем, что до начала моих занятий по этим предметам у меня был большой запас знания живых, высокохудожественных многоголосных произведений Баха и Генделя, приобретенный в классе игры на фортепиано у Чези.
Особенно любил я писать фуги с двумя и тремя темами, так называемые «двойные» и «тройные» фуги.
* * *
На окончательном экзамене по футе всем ученикам по классу специальной фуги Соловьева была задана Римским-Корсаковым фуга на тему ВАСН (Бах).
Тема эта в нотах расшифровывается по немецким названиям нот: В – это си-бемоль, А – ля, С – до, Н – си. Получается мотив из четырех нот: си-бемоль, ля, до, си-бекар.
На эту тему собственной фамилии сам Бах написал чудесную фугу, а затем Лист – большую фантазию для фортепиано.
Тема эта довольно трудна для композиции.
Несмотря на это, мне удалось вполне удовлетворительно справиться с этой задачей, после чего я был переведен в класс свободного сочинения.
Занятия в классе свободного сочинения у Соловьева были чрезвычайно разнообразны.
На основе приобретенной нами практической техники в области гармонии, контрапункта и фуги мы должны были сочинять уже различные свободные мелкие и крупные произведения для фортепиано, хора, струнного квартета, оркестра (последние произведения к концу года, прослушавши курс инструментовки).
Большую пользу принесло мне основательное и подробное теоретическое и практическое изучение форм музыкальных произведений.
К этому изучению Соловьев подходил тремя путями.
Различные виды маленьких и больших форм мне были уже раньше знакомы по курсу энциклопедии Зике. На лекциях же Соловьева я ближе ознакомился не только с основными, но и со смешанными формами.
Второй способ изучения состоял в разборе форм живых произведений различных авторов. И тут разбор этот, который на языке музыкальных теоретиков называется «анализом форм», мы делали подробнее и основательнее, чем у Зике. Нужно было в каждой части музыкального произведения подсчитывать число тактов, устанавливать отношения числа тактов одной части к числу тактов другой, находить и выделять вводные предложения, дополнения, заключения (коды) и подробно определять архитектурную постройку формы маленьких и крупных произведений.
Но всего интереснее и полезнее было практическое изучение форм на наших собственных композициях, которое проходило через весь год занятий в классе свободного сочинения.
* * *
В чем же состояло руководство Соловьева в классе контрапункта, фуги и в классе свободного сочинения?
Все наши работы по контрапункту, канону и фуге им всегда тщательно просматривались. При этом ошибки наши не только указывались, с подробным объяснением, в чем они состояли, но и тут же на месте им самим исправлялись.
В классе свободного сочинения Соловьев, находя недостатки в форме наших композиций и объяснив, в чем именно эти недостатки заключаются, либо на словах давал указания, как нам самим их исправить, либо при нас же сам делал эти исправления.
Очень важно было еще то, что, кроме указаний на паши ошибки и кроме их исправления, Соловьев всегда подвергал еще общей критике самый материал наших композиций.
Критиковал он этот материал иногда очень едко и зло.
– Разве это композиция? – говорил он как-то одному ученику, просмотрев его произведение. – Это не композиция, а какая-то греческая кухмистерская.
Чтобы понять, что он этим хотел сказать, нужно пояснить, что в ту пору в Петербурге было много дешевых столовых под вывеской «Греческая кухмистерская».
Обеды в этих столовых изготовлялись из недоброкачественных протухших отбросов других столовых, собиравшихся где попало, включительно до помойных ям.
Я помню еще, как при просмотре одного большого моего фортепианного произведения он после каждой части вслух выражал свое одобрение: «Отлично! Хорошо! Превосходно!» И вдруг, просмотрев уже всю композицию до конца, сказал:
– А все вместе никуда не годится!
Когда я выразил ему свое удивление, как это может быть, чтобы целое было негодно, когда все его части хороши, он мне ответил:
– Представьте себе любителя художественных предметов, который бы в одну комнату повесил картину хорошего художника, возле нее поместил красивую статую, на столе разложил изящные мелкие ювелирные вещицы, красивые кружева, да еще в ту же комнату поставил бы прекрасную живую арабскую лошадь. Каждая вещь, взятая отдельно, хороша, а все вместе произведет на вас безобразное впечатление. У вас в композиции то же самое. Нет совершенно общей цельности, и, как ни хороша каждая часть ее в отдельности, одна часть к другой не имеет никакого отношения.
* * *
Несмотря на строгую критику, которой Соловьев подвергал мои работы, композиции мои ему, видимо, очень нравились.
Иногда он открыто высказывал им свое одобрение, иногда же заставлял меня два-три раза повторять на рояле то же сочинение, внимательно вслушиваясь в него.
Когда я впервые по его заданию написал часть струнного квартета и принес ее в класс, он взглянул в партитуру и, бегло перелистав ее, сказал:
– Сразу, по общим рисункам, видно, что это хорошо!
Затем, подробно ознакомившись с этой композицией, Соловьев выразил свое удовольствие, что мне удался с первого раза стиль квартетного письма. Я объясняю это тем, что много слышал квартетной музыки в хороших концертах и много знал квартетов по четырехручным переложениям для фортепиано, которые в большом количестве и помногу раз играл со своей сестрой еще до поступления в консерваторию.
В другой раз, прослушивая мое произведение для оркестра, он заставил меня три раза подряд проиграть ему среднюю часть этой композиции, в которой я поместил широкую мелодию.
По окончании прослушивания он сказал:
– У вас большой мелодический дар!
Но сейчас же, спохватившись, не сказал ли он слишком много, прибавил:
– Ну, не то чтобы уж очень большой, а так, хороший мелодический дар.
С большим интересом и удовольствием я работал над хоровыми произведениями на задававшиеся Соловьевым тексты. Чем больше я писал для хора, тем яснее стал внутренне слышать и общую хоровую звучность, и отдельные выделявшиеся в этой звучности голоса.
С Соловьевым я не раз встречался после окончания консерватории. И почему-то внешность его осталась у меня в памяти больше по последним нашим встречам, чем по времени моих занятий с ним.
* * *
Николай Феопемптович был маленького роста, но хорошо сложен и с очень правильными чертами лица. Коренастый старичок с очень звучным не по росту голосом, особенно сильным в моменты, когда он сердился; в такие минуты он умел распекать вовсю. Смеялся он тоже громко и раскатисто. Всегда аккуратно одетый, с седыми тщательно остриженными усами и бородкой – таким я себе его представляю каждый раз, когда думаю о нем.
Как преподаватель теории композиции Соловьев обладал большим опытом и большими знаниями в области гармонии, контрапункта и формы свободных сочинений, более слабым местом был его курс инструментовки, в котором так необычайно силен был другой наш профессор композиции – Николай Андреевич Римский-Корсаков.
Во всяком случае, несмотря на этот недостаток, я должен сказать, что своей композиторской подготовкой и своей композиторской техникой я обязан Соловьеву.
Ему же я обязан выработавшимся у меня уменьем критиковать свои композиции и исправлять их недостатки.
* * *
Еще несколько слов об окончательном экзамене, который я сдавал по теории композиции.
У нас в консерватории было две программы окончания курса специальной теории, одна для получения диплома, другая – на аттестат.
Для получения диплома нужно было написать большую кантату для хора, солистов-певцов и оркестра на заданный текст.
К сдаче экзамена по этой программе допускались только лица, пробывшие не меньше двух лет в классе свободного сочинения.
Эти кантаты исполнялись публично силами учащихся консерватории; дирижировали сами авторы.
Я пробыл в классе свободного сочинения только один год, почему и оканчивал по программе, требовавшейся для получения не диплома, а аттестата об окончании курса теории композиции.
В конце учебного года, весной, мне были сообщены задания, которые я за лето должен был по этой программе выполнить. Сдать эти работы нужно было в самом начале следующего учебного года.
Таким образом, в моем распоряжении для работы был весь июнь, июль и половина августа – два с половиной месяца.
Заданы были мне: первая часть сонаты для фортепиано, хор на слова стихотворения Голенищева-Кутузова «Не плачьте над трупами павших бойцов» и инструментовка для большого симфонического оркестра первой части одной из фортепианных сонат Шуберта.
* * *
Проводя это лето в Крыму, в Феодосии, я случайно попал в самые лучшие условия для композиторской работы.
Через несколько дней после приезда в этот город встретил на улице одну знакомую, которая тут же любезно предоставила мне для работы прекрасный рояль Бехштейна, стоявший у нее в квартире. На мое счастье, сама она и вся ее семья уезжали на все лето.
Полное уединение, абсолютная тишина и отличный инструмент – вот те благоприятные для композиторской работы условия, которыми я мог пользоваться все лето.
* * *
С большим увлечением работал я над композицией хора на героическое стихотворение Голенищева-Кутузова.
Чтобы дать вам представление об этом стихотворении, я приведу из него два следующих четверостишия:
Не плачьте над трупами павших бойцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!
В отношении освещения содержания текста этого стихотворения хор мне удался.
К сожалению, на экзамене профессор Иогансен, который один экзаменовал меня, был вполне прав, когда, отметив это положительное качество композиции, указал на ритмическое ее однообразие: слишком часто встречается в ней ритм четверти с двумя последующими восьмыми. Я не мог не согласиться с ним, и поэтому хор этот так и остался у меня в рукописи и не был напечатан.
С инструментовкой шубертовской сонаты я справился удовлетворительно, хотя ничего особенного я тут, конечно, не мог сделать за недостатком большого опыта в инструментовке.
Лучше всего оказалась моя работа по композиции первой части фортепианной сонаты.
Произведение это настолько понравилось Иогансену, что по окончании прослушивания моего исполнения он сказал мне, что хочет позвать Римского-Корсакова, которому я должен буду ее сыграть вторично. Помню, как через несколько минут он привел меня в класс Николая Андреевича, который, прослушавши внимательно мою композицию, так же одобрительно отозвался о ней.
После того как Римский-Корсаков ушел, Иогансен обратился ко мне со следующими словами:
– Советую вам дописать остальные части сонаты. Первая часть заслуживает этого. Когда у вас будут готовы все части, принесите их мне, и я их просмотрю.
В заключение он сообщил мне, что экзамен на аттестат об окончании курса специальной композиции мною выдержан.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































