Текст книги "Годы учения. Учебное пособие для СПО"
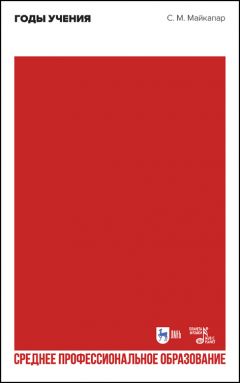
Автор книги: Самуил Майкапар
Жанр: Учебная литература, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Глава пятая
Профессор Теодор Лешетицкий и время моих занятий у него
Из предыдущего вы знаете, что несмотря на успешное окончание консерватории и несмотря на то, что еще за два года до этого Рубинштейн говорил мне, что я уже законченный пианист, я чувствовал, что многого еще не хватает моей игре, и именно такого, чего я сам не смогу добиться.
Я не мог тогда дать себе ясного отчета, чего не хватало моей игре. Я знал только одно, что, слушая многих больших пианистов, испытывал всегда неудовлетворенность из-за отсутствия в моей игре богатства фортепианных красок, а также силы звучности, часто приближавшейся у других пианистов к звучности целого оркестра.
Когда через несколько месяцев после сдачи последнего моего экзамена по композиции я приехал в Вену и в первый раз был у Лешетицкого, я сыграл ему прелюдию и фугу Баха и 1-е «Скерцо» Шопена.
Прослушавши меня, он дал следующий отзыв о моей игре:
«Вы играете хорошо и с полной законченностью. Но игра ваша похожа на хорошую гравюру. Современная же фортепианная игра – это картина, написанная масляными красками. Вот этого не хватает вашей игре».
«Вам нужно переработать вашу технику, – добавил он. – Но я этим теперь не занимаюсь. Идите к моему ассистенту Марии Прентнер и, когда закончите работу с ней, приходите ко мне на первый урок».
Кроме Марии Прентнер у Лешетицкого тогда была еще одна ассистентка – Мальвина Бре, у которой в детстве занимался известный пианист Артур Шнабель.
К этим двум ассистентам он посылал многих приезжавших к нему из различных стран пианистов и пианисток для предварительной переработки их техники.
Нужно вам сказать, что Лешетицкий отличался очень горячим и вспыльчивым характером. На уроках он часто впадал в состояние такого раздражения, что, выйдя из себя, не помнил, что говорил ученику, исполнение которого его не удовлетворяло.
Зная это, некоторые из приезжавших к нему заниматься, проработав у его ассистентов иногда не один, а два, три сезона не решались идти к нему на первый урок и так и уезжали обратно к себе домой, не взяв у него ни одного урока.
На первом же уроке Лешетицкий сообщал ученикам, что регулярных уроков он не дает: «Когда вы почувствуете надобность в следующем уроке, позвоните моей жене, и она вам его назначит», – говорил он. Поэтому многие, достаточно подготовленные для самостоятельной работы брали у него уроки с промежутками иногда больше месяца.
Всем этим объясняется огромное число (около ста человек) числившихся тогда учениками Лешетицкого. Некоторых из них он даже плохо знал в лицо. Случалось, что, встретившись с ним на ученических вечерах, устраивавшихся им у себя дома раз в две недели, он спрашивал: «Кто вы такой?»
Состав учеников был в полном смысле интернациональный. Много было среди них русских, поляков, англичан и американцев. Сравнительно мало представлены были немцы и австрийцы. Из числа последних выделялись двое талантливейших вундеркиндов – Артур Шнабель и Берта Ян, к сожалению, очень рано скончавшаяся.
Так как Лешетицкий буквально горел на уроках и был уже в возрасте больше шестидесяти лет, он очень берег свои силы и больше четырех уроков в день не давал. Быть может, благодаря такому режиму он всегда был свеж, бодр и энергичен. Его физическая выносливость была поразительна. Я помню, например, как после первого выступления Иосифа Гофмана в Вене он предложил нескольким своим ученикам, в том числе и мне, пешком пойти с концерта домой (все мы жили близко от его виллы, на окраине Вены). Без всякой усталости он прошел тогда больше восьми километров.
За уроки он брал сравнительно недорого, особенно если принять во внимание мировое имя, которым он как педагог пользовался: десять гульденов – около восьми рублей.
Американцы и американки имели обыкновение платить ему за уроки не наличными деньгами, а чеками на какой-нибудь банк, на что он не раз с большим юмором жаловался:
– Подумайте – я еще должен сам ходить в банк получать по этим чекам или посылать кого-нибудь!
* * *
Вилла, в которой жил и давал уроки Лешетицкий, представляла собой небольшой двухэтажный особняк с мезонином и с вполне сухим и жилым полуподвальным этажом.
В первом этаже помещался настоящий миниатюрный концертный зал с двумя рядом стоявшими в нем роялями. Зал этот вмещал около ста слушателей, в присутствии которых, как в настоящих концертах, выступали на ученических вечерах наиболее подготовленные из его учеников. В этом же зале профессор давал уроки. Второй этаж занимал он сам со своей женой, а в маленьком мезонине жил известный композитор, старичок Минкус, балеты которого еще сейчас ставятся в наших советских театрах. В подвальном этаже устроена была биллиардная комната, комфортабельно обставленная, с мягкими диванами во всю длину стен. Тут же были различные службы и жилые комнаты обслуживавшего персонала.
* * *
На ученических вечерах Лешетицкого бывало очень много слушателей. Не только концертный зал первого этажа, но и примыкавший к нему коридор были переполнены. Кроме учеников присутствовали многие видные венские музыканты, знакомые и друзья профессора.
На этих вечерах Лешетицкий сидел за роялем, стоявшим с левой стороны, ученики же играли на другом, рядом стоявшем инструменте. Когда ученики играли концерты, партию оркестра на втором рояле всегда исполнял сам Лешетицкий.
По окончании ученического вечера Лешетицкий имел обыкновение нескольких более близких к нему учеников приглашать к ужину. За ужином шла оживленная беседа, в которой он принимал самое деятельное участие. Часто ужины эти затягивались до двух часов ночи. Несмотря на такое позднее время, Лешетицкий не довольствовался этим и некоторым из приглашенных учеников предлагал еще после ужина сыграть с ним на бильярде. Часа через два мы уже начинали чувствовать большую усталость и с трудом боролись с желанием спать; после каждого удара кием мы садились отдыхать на диваны у стены. Сам же профессор иногда до шести-семи утра играл, ни разу не присаживаясь, и укоризненно говорил нам:
– Молодые люди! Как вам не стыдно! Давайте, сыграем еще партию!
Теодор Лешетицкий как пианист был крупнейшим художником-виртоузом. Как и Лист, он был учеником знаменитого Черни, автора общеизвестных, до сих пор широко распространенных технических этюдов. Чрезмерная нервность, к сожалению, заставила его рано прекратить концертную деятельность и всецело отдаться педагогике.
Как педагог он без всякого преувеличения может быть назван гениальным. Уроки его представляли собой лучшие образцы настоящего педагогического творчества. Чем талантливее был ученик, тем выше поднималось это творчество. Недаром кто-то о нем сказал, что как педагог Лешетицкий растет вместе с учеником.
Этим объясняется то, что о его преподавании у учеников складывались самые различные мнения. Вполне оценить его уроки могли только наиболее одаренные и подвинутые ученики. На уроках же с малоспособными и малоразвитыми учениками Лешетицкий превращался в настоящего педанта – школьного учителя. Взявши у него несколько уроков, такие ученики жаловались и высказывали свое разочарование: они ожидали от него высших художественных указаний, а он только и делал, что исправлял элементарные их ритмические ошибки, делал технические замечания, словом, занимался одной только элементарной стороной исполнения. Впрочем, такие ученики долго не удерживались у Лешетицкого: либо сами они переставали заниматься у него, либо, дав им несколько уроков, Лешетицкий отказывался от дальнейших занятий с ними.

Теодор Лешетицкий
Сообщаю следующие биографические данные о Лешетицком:
Лешетицкий Теодор (Федор Осипович) – выдающийся пианист и профессор фортепианной игры, композитор. Родился в 1831 г. в Ланцуте, близ Кракова. Изучал фортепианную игру под руководством Черни. Двадцати одного года переселился в Петербург, где скоро выдвинулся в качестве пианиста и преподавателя. Был в числе первых профессоров в Петербургской консерватории, где работал около двадцати лет.
В 1878 г. переселился в Вену, где занимался исключительно частным преподаванием. Сюда стекались к нему пианисты и пианистки разных стран для завершения музыкального образования.
Основные начала «Школы Лешетицкого» – большая свобода индивидуальных технических приемов, с целью добиться возможно большего богатства звуковых красок. Художественная отделка производится больше обдумыванием без инструмента, чем многократным повторением одними пальцами. Всегда имеется в виду концертная эстрада и аудитория.
Лешетицкий известен также как автор ряда изящных фортепианных пьес. Опера его «Die erste Falte» («Первая морщина») с успехом шла в 1807 г. в Праге в 1881 г. – в Висбадене.
К числу петербургских его учеников относятся Есипова, Фан-Арк, Боровка, Климов, Бенуа (впоследствии профессора Петербургской консерватории), Пухальский, Ходоровский (профессора Киевской консерватории) и др.
Приведенный в конце моей выписки список выдающихся пианистов и педагогов, учеников Лешетицкого, в настоящее время может быть пополнен следующими именами: Игнац Падеревский, Артур Шнабель, Осип Габрилович, Готфрид Гальстон, Игнац Фридман, Марк Гамбург. К школе же Лешетицкого нужно отнести и учеников его бывшей ученицы, профессора Есиповой: выдающегося пианиста-педагога и музыкального писателя Леонида Крейцера, композитора и пианиста Сергея Прокофьева, пианиста Александра Зейлигера и педагога профессора Ольги Калантаровой, пианиста Лялевича и др.
Особенно велики заслуги Лешетицкого перед нашей русской педагогикой. Он дал столько крупных педагогов нашим консерваториям, что по справедливости может быть назван отцом высшей нашей русской фортепианной педагогики.
1. Подготовительный период
Четыре месяца технической работы у ассистентки Лешетицкого Марии Прентнер
Я не помню в своей жизни более тяжелого и мрачного периода, связанного с музыкальной работой, чем эти четыре месяца, в течение которых я перерабатывал свою фортепианную технику под руководством ассистентки Лешетицкого.
За эти четыре месяца я кроме целой серии сухих технических упражнений, трех этюдов Черни и одной пьесы – Арии из первой фа-диез-минорной сонаты Шумана – ничего не играл. Мне было на первом же уроке запрещено играть что бы то ни было, кроме заданных упражнений, так как это мешало бы усвоению новых технических приемов.
В самом начале этой книги, в прологе, я изложил причины, побудившие меня избрать своей специальностью музыкальное искусство.
Лишенный в течение долгого срока четырех месяцев занятий с Марией Прентнер привычного для меня «питания» собственной активной музыкой, я чем дальше, тем больше впадал в мрачное настроение.
Я стал избегать общества, даже близких друзей, и в конце концов дошел до полной уверенности, что скоро умру.
Однажды, думая рассеять это настроение и одолевавшие меня тяжелые предчувствия, я решил ходить по комнате и читать имеющуюся у меня драму Ибсена «Брандт», так как сидя я читать не был в состоянии.
К ужасу своему я при этом чтении наткнулся на одно место, где говорится о том, что у норвежского народа существует поверье: кто мысленно увидит самого себя, должен скоро умереть.
Бывают же в жизни такие странные совпадения! Как раз, накануне вечером, одержимый такими же мрачными мыслями, я в полной темноте прилег на своей кровати и вдруг увидел прямо против себя собственное лицо, упорно глядевшее на меня. Это совпадение не только усилило мое ожидание смерти, но и вызвало уверенность, что умру я этой же ночью.
Под влиянием этого я сел за стол и написал отцу длинное предсмертное письмо, в котором изложил свои пожелания и просил его эти пожелания исполнить. Запечатав письмо в конверт и надписав на конверте точный адрес отца, я положил письмо под подушку и лег спать.
Проснувшись на другое утро и отлично проспавши ночь, я достал из-под подушки письмо и разорвал его.
* * *
Я не знаю, как работала с учениками другая ассистентка Лешетицкого – Мальвина Брё, но думаю, что Мария Прентнер сильно утрировала технические приемы Лешетицкого. На уроках она вставляла мне какие-то катушки между пальцами, вызывала большое напряжение в мускулах пальцев и всей руки, и в результате я с трудом справлялся с самыми простыми техническими оборотами.
Долго выдерживала она меня на простых гаммах и арпеджио, пока мы, наконец, перешли к работе над тремя этюдами Черни.
В этюдах Черни она требовала большого разнообразия в оттенках силы и на моих нотах педантично расставляла знаки forte, piano, crescendo, diminuendo, причем требовалось в точности исполнять эти оттенки от вполне определенной ноты до определенной же ноты, которой оттенок заканчивался.
Когда мы перешли работать над Арией из сонаты Шумана, она вперед с той же педантической точностью определяла, какие ноты мелодии нужно было играть сильнее, какие слабее и насколько именно.
К концу четвертого месяца Мария Прентнер объявила мне, что я уже готов и могу идти к профессору на первый урок.
На мое несчастье я заболел тяжелой желтухой. Врач, которого мне порекомендовал Лешетицкий, однако, не мог справиться с моей болезнью и, отказавшись дальше лечить меня, посоветовал уехать к себе домой.
Таким образом, первый сезон моих занятий по усовершенствованию фортепианной игры ограничился этими четырьмя месяцами технической работы у ассистентки Лешетицкого.
* * *
В течение всего времени этих занятий я строго придерживался запрета играть что-нибудь кроме того, над чем работал с Прентнер.
Прошло много времени, пока я постепенно, под влиянием занятий с самим Лешетицким, отделался от напряжения мускулов, приобретенного в период технической переработки.
Однако я должен все же сказать, что за этот тяжелый для меня период я ознакомился со многими раньше мне незнакомыми техническими приемами, благодаря которым игра моя обогатилась звучностью и красками.
2. Первый период моих занятий с самим Лешетицким
Первые пять уроков, пока налаживалась моя работа с Лешетицким, я называю первым периодом занятий у него.
Это было тяжелым испытанием для меня.
Выбитый из привычной для меня раньше почти исключительно пальцевой техники и не освоившись еще с новыми приемами игры при участии кисти и всей руки с минимальными подъемами пальцев, ко всему этому, не умея пока отделаться от напряжения мускулатуры, я никак не мог удовлетворить художественным и техническим требованиям Лешетицкого и на своем рояле сделать то, что он мне показывал на другом инструменте.
Такое положение дел усугублялось еще тем, что в начале своих занятий со мной Лешетицкий давал мне для работы исключительно салонную музыку. «На этих вещах, – говорил он мне, – вы научитесь владеть различными фортепианными красками, не отвлекаясь внутренним содержанием музыки».
На первом же уроке он задал мне «Пиччикато-вальс» («Pizzicato-Valse») Шютта, свою «Сицилиану» и свой же этюд «Jeu des ondes» («Игра волн»). За следующие три урока я еще приготовил и проработал с ним его же «Мандолинату», этюды «Волчок» («La toupie») и «La piccola» («Малютка»), «Маленький карнавал» («Carnaval mignon») Шютта, этюд Мошковского «Искры» («Etincelles»), а также большую фантазию Годара в си-бемоль-миноре.
Хотя почти все эти вещи нужно отнести к числу салонных произведений хорошего вкуса (в них нет ни пошлостей, ни банальности), но мне такая музыка все же была чужда.
Вначале я совершенно не умел работать над ней и на уроках у Лешетицкого плохо справлялся с новой для меня задачей.
На пятом уроке, после того как я тщетно старался добыть на своем рояле ту краску, которой требовал от меня Лешетицкий, он вдруг вышел из себя и с раздражением сказал мне:
– У вас нет никакого таланта!
Эта фраза его не осталась, однако, без ответа с моей стороны, и между нами произошел следующий диалог:
– Мне очень странно, профессор, что вы это находите. До сих пор все, кто слышал мою игру, говорили обратное, – возразил я ему.
– Значит, ваши слушатели ничего в музыке не понимали!
– Простите, профессор, в числе слушателей часто бывал Антон Григорьевич Рубинштейн, который при моих выступлениях в консерватории не раз громко выражал одобрение моему исполнению.
Лешетицкий, однако, все еще не унимался и привел последний свой довод:
– В таком случае с тех пор с вами что-нибудь произошло: либо вы заболели, либо с ума сошли!
– Знаете, профессор, – сказал я спокойно, – вы не волнуйтесь, а давайте сговоримся с вами. Дайте мне еще четыре урока и, если у нас ничего не выйдет, я уеду обратно к себе домой, в Россию.
До сих пор помню, как на это Лешетицкий громко крикнул мне:
– Почему не выйдет? Должно выйти!
С этого момента он сразу переложил гнев на милость, и мы спокойно продолжали урок.
Никогда больше на уроках со мной Лешетицкий не раздражался и в дальнейшем всегда был хорошо расположен ко мне.
Позднее я узнал, что Лешетицкий терпеть не мог, когда ученик терялся от тех неприятных вещей, которые он говорил ему в минуты раздражения. Если ученик при этом оставался безответным, Лешетицкий все больше входил в раж и способен был наговорить ему кучу дерзостей и грубостей.
Наоборот, когда ученик умел защитить себя от его нападок, он сразу менял свое отношение к нему и продолжал заниматься дальше уже в хорошем настроении.
Ученики говорили, что он таким образом испытывал индивидуальность ученика. Я, однако, не думаю, чтобы он делал это сознательно, и объясняю скорее горячим его темпераментом.
Нужно сказать еще, что дальнейшая перемена в его отношении ко мне зависела еще много от того, что на пятому уроке он задал мне сонату Шуберта в ля-миноре, над которой я с наслаждением стал работать.
Моим исполнением этой сонаты на шестом уроке он остался чрезвычайно доволен.
С этого шестого урока я и считаю второй период моих более спокойных занятий у профессора Лешетицкого.
3. Второй период занятий с Лешетицким
Я с самого начала занятий с Лешетицким и до конца этих занятий высоко ценил его замечания и указания. Я сразу же увидел, что имею дело с большим художником и педагогом. Чем больше я работал у него, тем больше убеждался в неисчерпаемости его знаний и его педагогического творчества. На своих уроках он буквально горел этим творчеством.
Что это было именно творчество, я утверждаю потому, что никогда в его указаниях не было предвзятости и шаблона.
Этим объясняется то, что часто одно и то же произведение он на различных уроках показывал различно.
Малоразвитые ученики нередко жаловались на это:
– Что ж это такое? – говорили они, – на прошлом уроке он показал, как нужно исполнять это место, а сегодня на уроке он всё это переделал и показывал совершенно иначе!
Чтобы не упустить и не забыть чего-нибудь из того, что на уроках говорил мне Лешетицкий по поводу технического и художественного исполнения произведений, которые я проходил с ним, я с первого же урока завел следующий порядок.
Придя после урока домой, я в тот же день записывал на полях нот все его указания, отмечая на самых нотах и на полях значками в точности все места, к которым они относились.
До сих пор еще я сохраняю эти исписанные мною на полях экземпляры нот.
* * *
На шестом уроке, когда я сыграл все четыре части шубертовской сонаты, Лешетицкий начал самым подробным образом работать со мной над дальнейшей художественной отделкой каждого места этой сонаты.
Тут я узнал много нового, чего совершенно не знал раньше.
Основная идея преподавания Лешетицкого состояла в следующем.
Концертное исполнение требует совершенно другого подхода к исполнению музыкальных произведений, чем исполнение домашнее. Оратор, выступающий перед массой, говорит иначе, чем у себя дома за чаем. Готовясь к выступлению на публичном собрании, он все время должен иметь в виду слушателей. Его заботу составляет: непрерывно в течение своей речи сосредоточить внимание слушателей на своих словах, говорить убедительно и ясно, так, чтобы смысл его слов действительно доходил до слушателей.
Когда Лешетицкий видел, что исполнение ученика неинтересно и не дойдет до аудитории, он часто применял любимое свое выражение: «Das ist fur die Katz’» («Это для кошки», т. е. это никому не нужно).
Такой отправной точкой зрения объясняется то, что Лешетицкий в сонате Шуберта, а впоследствии и во многих других композициях, переделывал даже выставленные самими композиторами оттенки. Однако никогда не делал он этого без убедительной мотивировки.
Начало четвертой части шубертовской сонаты он предложил мне вместо предписанного Шубертом pianissimo играть mezzo-forte: «Слишком много будет дальше pianissimo при повторении того же отрывка; кроме того, слушая его в первый раз, слушатели не воспримут всех его мелодических контуров, если не играть это начало более рельефным оттенком, каким является mezzo-forte».
У Шопена в его крупных сильно драматических произведениях («Скерцо», «Фантазия») нередко повторения тех же частей снабжены совершенно одинаковыми оттенками. Все большая накаленность драматического движения к концу служила также для Лешетицкого основанием к изменению этих оттенков в сторону все большего их усиления при повторении одинаковых отрывков.
Однако Лешетицкий всегда был против произвольного изменения композиторских указаний без достаточных оснований.
«Вы должны сначала внимательно прорабатывать оттенки, предписанные композитором, и только после этого, имея определенные убедительные доводы, вы можете их изменять», – говорил он нам на уроках.
Изумительным художественным богатством отличались ритмические указания Лешетицкого. Школьно-метрономный ритм нередко заменялся им настоящим свободным высокохудожественным ритмом.
Небольшие, едва заметные ускорения и замедления в музыке носят название «агогических» оттенков. Часто музыкальные фразы не выносят математически равного движения. Без агогических оттенков они остаются безжизненными. Уместны и в известной мере внесенные в них чуть заметные ускорения и замедления сразу придают им художественную жизнь и выразительность.
Лешетицкий и тут также был против немотивированных и преувеличенных агогических оттенков, особенно в местах, требующих неуклонно и точно ровного движения, так как злоупотребление агогикой, по его справедливому мнению, делало исполнение нездоровым и неестественным.
«Испробуйте и проработайте сначала каждое место в строго ровном движении, и только когда вы убедитесь, что, несмотря ни на какие оттенки силы и внесенную фразировку, место это при таком движении остается безжизненным и неестественным – вносите в него небольшие ускорения или замедления».
Лешетицкий придерживался еще одного принципа в отношении агогических оттенков: всякое агогическое ускорение требует после себя определенного замедления, так чтобы в сумме они занимали столько же времени, сколько заняло бы вполне ровное исполнение.
Уже при работе над сонатой Шуберта я ознакомился со всеми этими сторонами высшего художественного исполнения.
Дальше я приведу еще много данных, освещающих различные стороны художественного исполнения так, как их понимал Лешетицкий и как это выяснилось для меня на протяжении дальнейших занятий.
На седьмом уроке мне удалось настолько удовлетворить требованиям профессора, что по окончании урока он назначил меня к участию на ближайшем его ученическом вечере, на котором я и исполнил сонату Шуберта.
* * *
За время моих занятий под руководством Лешетицкого я, кроме перечисленных выше салонных, прошел еще следующие произведения:
• Глюк-Сгамбатти – Мелодия;
• Скарлатти (в концертном переложении Таузига) – «Pastorale»;
• Шопен – Три этюда;
• Бах-Гесслер – «Сицилиана»;
• Бах – Токката до минор (в оригинале);
• Бах-Таузиг – Органная токката и фуга ре минор;
• Моцарт – Жига;
• Бетховен – Сонаты: 3-я в до мажоре и 24-я в фа-диез мажоре;
• Шопен – «Фантазия»;
• Шуман – «Арабески» и «Papillons» («Бабочки»);
• Лист – 8-я рапсодия.
Из фортепианных концертов мною были проработаны с ним:
• концерт Грига в ля миноре;
• концерт Шютта в фа миноре;
• концерт Листа в ми-бемоль мажоре (1-й);
• концерт Шопена в фа миноре (2-й).
Количество этих вещей, пройденных мною с Лешетицким, правда, не очень велико, но польза от занятий с Лешетицким для меня была огромная.
Нужно сказать, что под влиянием указаний Лешетицкого я часто перерабатывал не только одно заданное им произведение, но и весь мой предыдущий репертуар.
Так, например, когда на одном из уроков он показал мне, как нужно работать над художественной отделкой быстрых пассажей, я полтора месяца не испытывал надобности в следующем уроке, так как с совершенно новой точки зрения совершенствовал свое исполнение пассажей во всех раньше выученных еще в консерватории вещах.
Прием, которым он советовал работать над быстрыми пассажами, состоял в следующем.
«Вы слыхали, – говорил мне на одном из уроков профессор, – как поют в опере итальянские певцы? Они поют совершенно свободно в ритме. Если какая-нибудь нота им особенно хорошо удается – они тянут ее сколько им захочется (делают на ней большую фермату), чрезмерно затягивают концы фраз, чтобы получить красивое diminuendo, делают большие crescendo, то ускоряют, то замедляют темп, тоже сколько им в данном месте вздумается. Все вместе часто производит впечатление преувеличенное, утрированное в своей выразительности. Я называю это способом широкой, даже преувеличенной итальянской фразировки. Работайте над пассажами таким именно образом. Берите в основу очень медленный темп и постарайтесь каждый мельчайший отрывок пассажа прочувствовать до конца, как если бы вы исполняли широкую медленную мелодию».
«Когда же вы после этого начнете играть пассаж в его настоящем быстром темпе, от всех этих преувеличенных оттенков останется только маленький налет, и весь пассаж получит не только художественную, но и техническую законченность».
Лешетицкий не только на словах объяснил мне этот прием, но и показал на рояле, как это нужно делать.
По отношению к фразировке мелодических контуров вообще Лешетицкий требовал предварительного сознательного обдумывания и обоснования. Нужно было отчетливо знать, какие ноты должны быть по звучности самыми сильными, какие нужно играть слабо и т. д.
Когда в первое время мне это не удавалось, исполнение мое делалось неестественным и не удовлетворяло ни его, ни меня, я вздумал оправдать себя тем, что не привык так работать над фразировкой и всегда фразировал бессознательно.
На это он мне ответил со свойственными ему остроумием и юмором:
– Что вы мне говорите такую бессмыслицу? Ведь это все равно как если бы человека, который прекрасно умеет объезжать в степи диких лошадей, посадили на дрессированную цирковую лошадь, а он, сев на нее, перекинулся бы, свалился на землю и при этом сказал: «Я привык ездить только на диких лошадях, а на дрессированной я ездить не умею!»
Наряду с требованием такого сознательного обдумывания фразировки, Лешетицкий давал нам еще крайне полезный для пианистов общий совет: «Слушайте возможно больше хорошее пение в опере и в концертах, особенно пение первоклассных певцов. Все это улучшит художественность вашей фразировки на рояле».
Таким образом, Лешетицкий советовал подходить к культуре фразировки двумя путями: сознательным обдумыванием соотношений силы звуков в музыкальных фразах, с одной стороны, с другой же – путем обогащения своего общего художественного багажа впитыванием образцов исполнения первоклассных певцов.
* * *
На изучаемых под руководством Лешетицкого произведениях я усваивал различные, мне раньше незнакомые фортепианные краски. Большое их разнообразие зависело от разнообразия технических приемов извлечения звука из инструмента. «Поставьте здесь пятый палец, стоя высоко на нем, и вы получите ту силу и ту окраску звука, которых требует это место». «Мягко положите на черную клавишу вытянутый четвертый палец, и вы извлечете требуемое предельно нежное pianissimo».
«Чем сильнее должен звучать аккорд, тем крепче должна быть мускулатура руки в момент удара. Сила сопротивления должна быть в соответствии с силой удара. Самый плохой и нехудожественный звук аккордов получается на рояле при сильном ударе мягкой, дряблой рукой».
Когда я с ним проходил «Papillons» («Бабочки») Шумана, он в одном из номеров этого произведения показал мне необыкновенно интересную и своеобразную краску, которую он называл «bourlesque» («бурлеск»), – особый технический прием удара, при котором к музыкальному звуку струн примешивается стук дерева клавиш.
Я привел здесь только несколько примеров, чтобы дать некоторое понятие о том огромном разнообразии и богатстве красок, извлекать которые я научился благодаря руководству Лешетицкого.
* * *
Перейду теперь к технической стороне исполнения.
Над общей техникой Лешетицкий с учениками тогда не работал. Художественные же технические приемы, которые при работе над произведениями усваивались нами по его указаниям, обогащали технику новыми ресурсами и развивали ее.
Особенно поразительны, кроме того, были его указания, как преодолеть технически трудные, не удававшиеся ученикам места в этих произведениях. Его изобретательность в этом отношении не знала пределов. Часто на уроках я поражался, как технические трудности, над которыми я долгое время безуспешно бился, под влиянием его указаний с легкостью тут же на месте сразу преодолевались. Не всегда это были технические приемы; нередко делу помогал теоретический анализ конструкции данного места.
Очень интересен совет, который давал Лешетицкий ученикам в отношении дальнейшего обогащения их техники в будущем:
«В концертах больших выдающихся пианистов садитесь в первые ряды с левой стороны от эстрады и, слушая исполнение, следите за движениями их пальцев и рук. Фортепианная техника в лице таких пианистов будет постоянно развиваться и обогащаться. И вот, если вы подметите какой-нибудь новый, вам раньше незнакомый прием, старайтесь его запомнить и, придя домой, испробовать и усвоить. Я многого достиг в технике фортепианной игры, но не сомневаюсь, что после меня фортепианная техника будет развиваться дальше, вам же нельзя будет отставать от времени».
Я вспоминаю по этому поводу, как в одном из концертов Бузони меня привело в восхищение необычайной красоты pianissimo в ряде длинных аккордов. Я подметил технический прием, которым он при этом пользовался, усвоил этот прием сам и показывал его своим ученикам. Немало технических и художественных приобретений удалось мне, таким образом, сделать благодаря приведенному совету Лешетицкого.
* * *
Еще один общий совет давал нам Лешетицкий:
«Как можно больше ходить слушать концерты, и не только хороших, но и плохих пианистов. У первых вы будете учиться, как нужно играть, а у вторых – как не нужно играть».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































