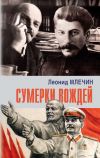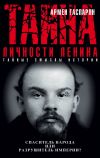Текст книги "Не суди"

Автор книги: Сергей Броун
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Приложения к главе № 8
Приложение № 28. Послужной» список Броун (Ровинской) Б.А.



Приложение № 29. Продолжение рассказа Карла Броун.

Глава 9. Дышите глубже, если сможете
В начале 1954 года отец, предчувствуя изменение политического климата в стране (роль сыграли арест и расстрел Л. Берии 23 декабря 1953 года), ходатайствует перед МВД Красноярского края о разрешении ему (как инвалиду второй группы) выехать с женой на иждивение старшего сына в город Орск.

Разрешение получено, и в июне родители прибывают в Орск со справкой вместо паспорта, на которой в правом верхнем углу напечатано: – «Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется». Не успеваем счастливым семейством прожить и несколько дней, как отец велит нам «собирать манатки», и мы стремительно, не имея на то права, выезжаем в Москву. В утро приезда отец идёт на Старую площадь в ЦК и добивается приёма (как быстро меняются времена!) у Председателя Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС Комарова П.Т., бывшего своего товарища. Тот принимает его, буквально, с распростёртыми объятиями, и с ходу начинает жаловаться отцу, как им тут было тяжело. На десятой минуте встречи, к изумлению молчавшего отца, Комаров даже прослезился. Зато, через два часа в кабинет внесли новенькую красную книжицу – партбилет на имя И.Г. Броуна, члена партии с августа 1917 года. А ещё через полчаса в кабинет внесли ордер за подписью зам. председателя Мосисполкома Промыслова на большую двухкомнатную квартиру в новом доме по адресу: Краснопресненская набережная, дом ½, кв.132. Пишу, ставлю себя на место любого читающего и говорю: – «Ерунда, так бывает только в детских сказках, плохих». Но всё – истинная правда. Можно проверить по дате нашего въезда в новую квартиру и по датам на письмах Хрущеву и вспомнить, каково было получить большую новую квартиру возле нынешнего Белого Дома в Москве. Чудеса случаются. Зато далее чудес больше не было.

Отец стучался во многие двери, пытаясь получить достойную работу. Не помогло даже личное указание Никиты Хрущева, с которым отец был не просто знаком, но в течение одного года они были коллегами-партсекретарями: Никита – в Промакадемии, отец – в Плановой академии в начале тридцатых годов и сходились на заседаниях одного райкома партии. Вот три письма отца Генсеку. Представляю, как тяжело они дались отцу.
№ 1. СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу ХРУЩОВУ Н.С.
БРОУНА Ионы Григорьевича Члена КПСС с августа 1917 г.
Уважаемый Никита Сергеевич,
Прошу Вас дать указание о направлении меня на работу.
Я полностью реабилитирован, подлечился, считаю себя обязанным и чувствую в себе еще силы, чтобы трудиться для дела нашей партии.
Работа в прошлом:
1917 г. – боец Красной Гвардии.
1918–1921 гг. Красная армия, на фронтах – Комиссар отдельной бригады, Нач. политотдела бригады.
1922–1930 гг. Красная армия – Комиссар военно-учебных курсов, Прокурор дивизии, Нач. полевого контроля Особой Дальне-Восточной армии.
1930–1932 гг. Слушатель Плановой Академии, секретарь парторганизации Академии.
1932–1937 гг. На работе в аппарате ЦК ВКП/б/ – Пом. Зав. распредотдела, Зав. Сектором внешней торговли и отв. Секретарь комиссии Политбюро по выездам за границу.
25/12 – 54 г. /И. БРОУН/
Адрес: Москва, Краснопресненская набер., д. № ½, кв. 132
№ 2. СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу ХРУЩОВУ Н.С.
Дорогой Никита Сергеевич,
25.12.1954 г. Я обратился к Вам с просьбой дать указание о направлении меня на работу.
13.1.1955 г. меня вызвал т. Шишкин, который заявил мне, что я стар, устарел, физически негоден и потому на партийно-политическую работу не подхожу.
25.2.1955 г. я был по вызову в МГК, где т. Афанасенко заявил, что он получил записку т. Шишкина с Вашим указанием предоставить мне работу, и направил меня в отдел кадров Моссовета. Там мне предложили должности, на которые я действительно не подхожу (напр., администратора гостиницы, зам. зав. райсобесом).
Как выяснилось, в записке на Ваше имя т. Шишкин указал, что я, якобы, дал согласие пойти на административно-хозяйственную работу.
Не могу пройти мимо следующего:
1. Т. Шишкин исходил из регистрационного бланка, а не из ознакомления с живым человеком. Он не спросил меня, что я делал в прошлом и какую жизнь провел в последние 17 лет. Поинтересовавшись, он бы узнал, что в прошлом, до 1937 года, я имел большой опыт организационно-политической работы в Красной Армии и пятилетний опыт работы в аппарате ЦК ВКП/б/. Он также узнал бы, что последние 17 лет я работал рабочим на лесозаготовках, бригадиром, десятником, нормировщиком, начальником котельного цеха Красноярского паровозо-строительного завода (где мне удалось впервые в Советском Союзе в 1947 году внедрить автоматическую сварку котлов по методу академика Патона), начальником цеха завода металлоконструкций в Норильске, механиком на специальном строительстве в Енисейске. Сочетание многолетней организационно-политической работы и практической низовой производственной работы имело то значение, что я еще больше сформировался как партийный работник, которому присуще чувство нового-передового.
2. Тов. Шишкин неправильно указал в записке на Ваше имя, что я дал согласие пойти на административно-хозяйственную работу. Я такого согласия не давал, да и не мог бы дать, так как не считаю себя подходящим для этой работы.
НЕ скрою, что от т. Шишкина я ушел с чувством острой моральной обиды, как после полученной пощечины.
Т. Шишкин исходил из позиции «трудоустройства» меня, а я исхожу из позиции использования меня как члена партии, обязанного отдать партии весь свой жизненный и деловой опыт.
Безрезультатно мое полугодовое хождение по вопросу о работе и в Министерство Оборонной промышленности, где я раньше работал и.о. Начальника главка.
Прошу Вас, Никита Сергеевич, дать вторично указание об использовании меня на партийной работе в промышленности, где я буду полезен для дела нашей партии.
Броун И.Г.
19 апреля 1955 г.
Член КПСС с 8-1917 г.
№ 3. СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу ХРУЩОВУ Н.С.
От БРОУНА И.Г.
чл. КПСС с 8-1917 г.
б. работн. аппар. ЦК ВКП/б/
Уважаемый Никита Сергеевич,
После полной реабилитации меня (в советском и партийном порядке), столкнувшись в партийном и хозяйственном аппарате с явным нежеланием предоставить мне работу, я 25.12.1954 г. обратился к Вам с письмом. Вы дали указание об использовании меня. Однако аппарат, имея свою логику и свой взгляд на старых коммунистов, подвергавшихся незаконной репрессии, оказался верен себе. Тогда 19.4.1955 г. я обратился со вторым письмом к Вам, и Вы вторично дали указание предоставить мне работу. В аппарате снова повели со мной длительный, ласково-предупредительный разговор и, наконец, послали меня работать в гараж завода Министерства авиационной промышленности (с 25-ю машинами). Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться (на «номенклатурном» языке это называется – согласиться). Должен, кстати, сказать, что такого рода карликовые, нерентабельные гаражи, несомненно, следует ликвидировать.
Я работаю в этом гараже, но все время ощущаю, что ко мне отнеслись и относятся как к коммунисту второго сорта, числя в графе «бывших репрессированных». Это угнетало и угнетает меня поныне. В таком положении находятся и другие товарищи, испытавшие на себе преступную руку врагов партии, уничтожавших честных коммунистов.
Мой долг старого члена партии заявить Центральному Комитету:
Я встречался со многими сотнями людей в лагерях и в ссылке, и утверждаю, что эта категория старых коммунистов – участников борьбы за революцию, за Советскую власть, воспитанных на ленинских революционных традициях, стойко пронесла через все испытания свою глубокую идейность, веру в коммунизм, преданность коммунистической партии. В корне неправильна распространенная в аппарате «теория» о неполноценности и обиженности старых коммунистов (речь идет не только о подвергавшихся репрессиям, но и о той массе старых коммунистов, которые не арестовывались, а были отодвинуты и выключены из партийно-политической работы). Старые коммунисты, аккумулирующие большой опыт революционной работы и борьбы с врагами партии, были всегда раньше и, я не сомневаюсь, будут всегда и впредь верной, надежной опорой Центрального Комитета в восстановлении и утверждении ленинских норм партийной жизни. Они, старые коммунисты, достаточно надежно представляли себе (за очень небольшим исключением) обстановку, при которой они подверглись репрессиям, и считать, будто они «обижены» на партию – смешное и нелепое мнение. Они ясно сознавали и сознают, что не партия применила к ним меры репрессии, а враги партии. Именно старые коммунисты, собранные по крупице, смогут объединить вокруг себя молодых партийцев и сцементировать их на идейных позициях марксизма-ленинизма.
Таково мое глубокое убеждение, которое я и хотел высказать Центральному Комитету партии.
И. БРОУН
13 марта 1956 г.
Москва, Краснопресненская наб. д.½, кв.132
Власть «пришла в себя» и стала бояться возвращенцев. А вот другая пара писем, уже по поводу официальной реабилитации и восстановления в партии, хотя «корочки» (партбилет) отец уже имел от Комарова.
№ 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
Товарищу СЕРОВУ
ЗАЯВЛЕНИЕ
19/7 – 1954 г. Товарищ КОМАРОВ* /зам. председателя Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС/ просил Вас по телефону ускорить рассмотрение моего дела.
Работники аппарата Комитета дважды (к 26/7 и к 1/8 с.г.) обещали дать заключение.
До сих пор оно не дано. Что и где заедает? Почему до сих пор не дано заключение?
Утверждаю /готов сесть в тюрьму, подвергнуться следствию и это доказать/, что мое дело можно разобрать и меня реабилитировать в течение одного дня.
Я, правда, не знаю, что сфабриковано в моем деле, так как за 2 года и 4 месяца следствия я ни разу не видел своего дела.
Знаю одно, что:
1. По моему делу есть решение ОБ ЦК ВКП/б/ от января 1941 года о пересмотре его.
2. Ответ за подписью Берия с отказом его пересмотреть.
3. Решение ЦК ВКП/б/ от начала 1937 года за подписью Шкирятова «Считать заявление Фридмана о тов. Броуне клеветническим». (16/7-54 г. Мне это решение впервые зачёл Ст. Контролер КПК тов. Колесников).
Фридман – это вражеская креатура Логановского и Розенгольца, руками которого они хотели скомпрометировать преданного партии человека.
Я прошу Вас, учитывая ряд партийных поручений, ускорить дачу заключения по моему делу.
Главное же, я прошу Вас, если появится хоть малейшее сомнение в моей невиновности, меня допросить, а также допросить бывших и настоящих работников ЦК КПСС членов партии с 35-40-летним стажем товарищей ФРОЛОВА, ХАНЬКОВСКОГО, ИНГБЕРМАНА, КУЗНЕЦОВА А.Н., ЦЫБУЛЬНИКА, КАБАШКИНА, СКРЫПНИКОВА и др.
Также убедительно прошу Вас учесть, что я очень больной человек (перенес инфаркт миокарда).
6/8 – 54 г. /И.БРОУН/
№ 2. СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС товарищу ХРУЩЕВУ Н.С.
от БРОУНА Ионы Григорьевича
Я – член партии с 1917 года, бывший работник аппарата ЦК, в котором работал с 1932 г. по 1937 год пом. Зав. отделом и зав. Сектором.
27 июня 1937 года я был арестован и после двадцативосьмимесячного, так называемого, «следствия» был осужден Особым Совещанием на 8 лет якобы за участие в к.-р. работе.
Все мое, так называемое, «дело» – плод чудовищной фальсификации, гнусное антисоветское злодеяние, грубо сколоченное с помощью пыток и неслыханно грязных методов провокации, произвола и мошенничества.
Для меня никогда не было сомнений в том, что люди, которые учинили надо мной расправу, были злейшими врагами нашей партии.
В 1945 году я отбыл срок, а через 4 года я снова был арестован и снова «осужден» по тому же делу и тем же Особым Совещанием на …. поселение в Красноярский край.
За последние годы после освобождения из лагеря я работал в качестве начальника котельного цеха Красноярского паровозостроительного з-да, нач-ка цеха завода в Норильске и др. Теперь я уже инвалид второй группы.
Мне не приходится краснеть и стыдиться ни за период своей деятельности с 1917 по 1937 год, когда я активно участвовал в строительстве социализма и служил партии душой и телом, ни за период с 1937 года, когда я оказался в лапах злейших врагов партии и был объектом неслыханных физических и моральных издевательств.
Меня не сломили все ужасные перипетии моей судьбы. Я был и остался идейным коммунистом. Знамени коммунизма я служил не только в Красной Гвардии, Красной Армии, в ЦК ВКП/б/, но и в лагерях, и в ссылке. Об этом говорят многочисленные отзывы, поощрения, премии и т. п.
Ссылка с меня уже снята. В настоящее время Комитет Государственной безопасности и Военная Прокуратура занимаются вопросом моей реабилитации, но занимаются медленно, так медленно, что я думаю – а доживу ли я до долгожданного конца.
Для того, чтобы удостовериться, что мое, так называемое «дело» – плод политического бандитизма, требуется только один день, тем более, что в моем деле имеется преступно невыполненное решение Оргбюро ЦК ВКП/б/ от января 1941 года, принятое по докладу тов. А.А. ЖДАНОВА, в котором было предложено МВД пересмотреть это вопиющее дело. Вместе с тем, тут же имеется ответ… Берия, в котором он отверг решение Оргбюро ЦК о пересмотре этого грязного дела.
До момента ареста у меня никогда не было никаких партийных взысканий; партийный билет у меня был отобран при аресте.
Я прошу:
1. Поручить КПК восстановить меня в рядах партии.
2. Предложить Главной Военной Прокуратуре срочно пересмотреть мое дело и реабилитировать меня.
9/7-54 г. /И. Броун/
Реабилитировали отца 23 октября 1954 года, так что несколько месяцев человек, не имевший права проживать в Москве, ссыльно-поселенец Красноярского края, жил легально в столице и ходил с партбилетом в кармане. Однако официальное восстановление в партии произошло 5 ноября 54 года. Говорили, что отец был одним из первых, если не первый, получивший статус «вольного». Повторюсь, но я никак не могу додумать, всерьёз осознать, что руководит людьми в их слепой вере в явно неочевидное: в вождя, в партию, в неправедных людей? Да и слепая ли это вера? Не потребность ли это самообмана ради чего-то невидимого? Когда смотришь со стороны, как я сейчас на современную Россию, – только диву даёшься, настолько тебе кажутся «прозрачными» современные вожди и их деяния, а поговоришь с активными участниками тамошних событий, и начинаешь верить в искренность поступков отца, его друзей, брата. Положи, Серёжа, руку на сердце и признай нелживость собственных пионерских, комсомольских и партийных поступков и свяжи их со своей биографией. То-то же!! Есть заразительность в любой идее, главное – как подать.

Быстро приходит школьная пора, и я иду в 10 класс. Школа недалеко от дома, напротив знаменитой Трёхгорки – ткацкой фабрики, бывшая «Трехгорная Мануфактура». Школа мужская, с будущего года все школы переведут на смешанные. А пока – это школа почти сплошных оболтусов, но не дураков. Учителя, как на подбор, хорошие. Один Фёдор Михайлович Амфитеатров, учитель литературы, он же завуч школы, чего стоит. Невысокий, коренастый, суровый и немногословный. Орлы-десятиклассники его боятся до дрожи в коленях. Первые же его уроки меня потрясают: вызывает к доске отвечать урок одного за одним человек пять. Каждый пытается отвечать в меру страха и знания наизусть текста учебника. Реакция учителя в любом случае одинакова: – «Садись, болван, – два!». Меня, почему-то, пока не трогает. Моя очередь приходит, как оказалось – к моему счастью, на Маяковском. Меня вызывают читать стихи о Советском Паспорте. Расправляю плечи и начинаю:
Я волком бы выгрыз бюрократизм,
К мандатам почтения нету!
К любым чертям с матерями катись
Любая бумажка! Но эту!
Учитель резко поднимает голову, смотрит на меня, стоящего сбоку, и говорит: – «Стой!». Он поворачивает стул на 90 градусов, садится на него боком к классу и спиной ко мне, закрывает от класса лицо рукой, ставя локоть на стол, и командует: – «С начала!». Под замерший класс начинаю сначала. Создаётся впечатление, что учитель плачет. Минуты две по окончании он молчит, потом машет мне рукой: – «Садись, пять!». В течение трёх месяцев я получаю шесть пятёрок, весь класс за это время – две. Я читаю для той же позы дорогого учителя внепрограммного Маяковского, но в стихотворении «Шесть монахинь» строчки:
Вместо известных симметричных мест,
Где у женщин выпуклость, у этих – выем:
В одной выемке – серебряный крест,
В другой – медали со Львом и с Пием
он мне декламировать не разрешает. «Болваны» на меня просто «молятся»: когда я читаю, то в этот день Фёдор Михайлович никого не спрашивает! Моя мама считала, что он – тот самый, знаменитый предреволюционных годов Амфитеатров, только конспиративно сменивший имя. Сомневаюсь – возраст, пожалуй, не дотягивал.
В разгар хорошего ко мне отношения Фёдор Михайлович сказал, что будет «тянуть» меня на серебряную медаль. Но не состоялось, да я особенно и не тянулся – вживление в необычную московскую жизнь проходило довольно сложно. Один из тяжёлых инцидентов произошёл около школы весной, в период призывов в Советскую армию. Мы стояли втроём, одноклассники: мой сосед по дому Киселёв (хороший сильный парень, пловец-разрядник), я и начинающий поэт Ковалёв, который ради скуки предложил мне предыдущей осенью спрыгнуть с третьего этажа школы на асфальт; первым, правда, прыгнул он, а мне ничего не оставалось, как последовать за ним, чтобы зарекомендовать себя в классе как «свой в доску»! Итак, стоим. Подходят двое хорошо «поддатых» призывников, явно знакомых с моими коллегами (видимо учились в предыдущих классах нашей школы). С ними поздоровались, и, перекосив морды, двинулись на меня. Один толкнул меня, второй прорычал: – «Что, жид, пойдёшь в армию служить?!». Я видел перед собой всех четверых. Меня потрясло не столько необычное обращение двух пьяных придурков, сколько реакция моих товарищей – они отвернулись. И я побежал – в первый и в последний раз в моей жизни. Позор мучает меня до сих пор.
Перед окончанием школы советуюсь с Фёдором Михайловичем – куда пойти учиться: может в медицину? Он отвечает: – «У тебя половина души – литературная. В медицину не иди, там два года будешь чужие горшки таскать. Для материальной обеспеченности и достойной жизни иди в технику». Так я и сделал. Варианты были заманчивые: случайно встретил отец бывшего своего старого приятеля, тогдашнего проректора МГУ – главного университета страны. Тот напрямую ему сказал, что возьмёт Серёжу на любой факультет без вступительных экзаменов. Не оценив прелести предложения, я успешно сдал экзамены в МНИ им. Губкина, впоследствии прозванный «Керосинка». Во вступительном сочинении я описал прелесть и героизм разведчиков недр.
А в обустроенной квартире с приобретённым пианино мама начинает «приёмы», особенно тогда, когда подтягиваются в Москву первые реабилитированные друзья: Елизавета Яковлевна Драбкина, Екатерина Михайловна Ямпольская, Илья Данилович Россман, Сергей Петрович Белько, Валентина Григорьевна Вагрина, её муж Николай Иванович Осенев (не из «бывших»), Пётр Аронович (Жак) Золотусский, Яков Моисеевич Фишман, Берта Борисовна Граве, Сергей Митрофанович Дубровский.

(На снимке: слева отец, рядом с ним Николай Иванович Осенев у нас в гостях. Рядом с НИ. -Екатерина Михайловна Ямпольская).
У каждого из них уникальная история жизни. Начну с «чужака»: Николай Иванович Осенев. Не «подлежал», не «привлекался», не Чист, «как стёклышко». Как попал в компанию «бывших», «контриков»? По большой любви к вышеупомянутой Валентине Григорьевне Вагриной. Он – известный художник, ученик знаменитых С. Герасимова, И. Грабаря, А. Дейнеки. Он хороший пейзажист, жанрист, но прославляли его за малую толику (не более 10–15) работ «правильно направленных»: «Октябрь в Смольном», «Первый номер газеты «Правда»», «Первое слово Советской власти». Николай Иванович – заслуженный деятель искусств РСФСР, в первые годы нашего знакомства – Секретарь Союза художников СССР В застольных беседах он с наслаждением внимает своей жене Вавочке и моему отцу, с удовольствием слушает остальных; сам говорит мало. Чем-то я ему поглянулся – он предлагал мне позировать ему в качестве итальянского мальчика. По выходе его книги «Ирак. Путевые заметки и рисунки Н. Осенева» он сделал дарственную подпись: «Дорогим друзьям Берте Абрамовне и Леониду Григорьевичу с чувством глубокого уважения. 22 марта 1963». Далее на снимке: отец и Валентина Григорьевна Вагрина у нас в гостях на Краснопресненской набережной.

Валентина Григорьевна Вагрина – актриса всем существом своим. Как говорит энциклопедия, она «родилась 3 ноября 1906 года в Москве в еврейской семье». Её первый муж Давид Колмановский (дядя композитора Эдуарда Колмановского) был «высокопоставлен», занимая пост председателя «Союзпромэкспорта» – главной внешнеторговой организации СССР. В 1937 году он стал «врагом народа» и был расстрелян. Он был другом моего отца, и семьями они дружили. Был он человеком весёлым и отчаянным. Мама вспоминала, как он катал их на роскошной американской машине с открытым верхом по Арбату, и стоя принимал приветствия прохожих. Вавочку, одну из ведущих актрис Вахтанговского театра, арестовали тогда же как «члена семьи врага народа» (была такая «милая» статья в Уголовном кодексе) и дали известные 8 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). Как-то из проходящего мимо этапа отец услышал крик – «Лёнечка». Это была Вавочка – в поношенной, подпоясанной верёвкой, каракулевой шубке. Не могу удержаться и не привести отрывок из воспоминаний актрисы театра Вахтангова Анны Масс. «За все годы не удалось отстоять только Валентину Григорьевну Вагрину – Вавочку, как её называли в театре. Когда в 1937 году арестовали, а потом расстреляли, её мужа, крупного работника торгпредства, её тоже взяли как жену «врага народа». В эти годы театр уже не был так всесилен, как прежде: многие из его влиятельных поклонников распрощались с жизнью в лубянских застенках. Но всё равно театр пытался вызволить Вавочку. «Вышли» на следователя. Тот сказал: «Освободим, если она откажется от мужа»…. Вавочка от мужа не отказалась. Её отправили в лагерь. В 1946 году её освободили. Какая радость прошла волной по нашему дому, по театру: – Вавочка вернулась!! Она вернулась поблекшая, постаревшая, о прежней её легендарной красоте можно было лишь догадываться. В Москве её не прописывали, да и негде ей тут было жить. Но театр остался верен себе: добился прописки, Шихматовы уступили ей комнату в своей квартире. Её снова приняли в труппу и сразу дали роль – Джесси в пьесе Симонова «Русский вопрос». На репетициях, слегка лукавя, горячо убеждали, что у неё получается «в тысячу раз лучше, чем у Серовой в Ленкоме». После премьеры шумно поздравляли, а ещё через некоторое время пересказывали друг другу хвалебные отзывы прессы о её игре. Хотя сами и организовали эти отзывы». В этом отрывке, и вправду, есть кое-что «от лукавого». До ареста Вавочка была примой театра, играла в 1932 году Офелию в знаменитой скандальной постановке Акимова «Гамлет», а по-приходе в театр из лагеря ей конечно нужны были роли трагические, не симоновские. Но времена были ещё «не те». Мы с родителями в конце пятидесятых годов были, по её приглашению, на спектакле, где она играла «не свою» роль. На современном официальном сайте «Кинематограф СССР» о Вагриной написано: «Яркая, точная, умная актриса». За все её муки ей, наконец, здорово повезло «по жизни»: она встретила любящего и любимого человека. Из разговора родителей я понял, что Николай Иванович делал наброски своей любимой актрисы ещё до её ареста. Один из набросков отразился в его знаменитой картине 1952 года «Первое слово Советской власти» (на снимке: на переднем плане слева стоит вполоборота к зрителю молодая очаровательная Вавочка). Мне казалось, что в нашем доме, среди «своих», Валентина Григорьевна приобретала «естество». На одном из сайтов интернета я нашёл глупую фразу о её смерти «в нужде и безвестности». Находящиеся в нужде не дарят дорогие коллекции картин своего покойного мужа в фонд российской культуры (ныне в Пензенской картинной галерее). Мама до самой смерти в 1980 году перезванивалась с Вавочкой, я говорил с ней незадолго до её кончины в 1987 году, предлагал помощь (она давно не вставала с постели) – отказалась. До конца дней при ней была служанка.

(На снимке: Елизавета Яковлевна Драбкина с мужем Бабинец Александром Ивановичем у нас в гостях).
Драбкина Елизавета Яковлевна. Человек боевой судьбы, могучей воли и сложного характера. Почти ровесница 20 века. Дочь героических родителей-революционеров: отец – знаменитый Гусев Сергей Иванович (урождённый Яков Давидович Драбкин), соратник Ленина ещё с Женевы (1903 год), участник революции 1905 года, в революцию 1917 года возглавлял секретариат Петроградского военно-революционного комитета, был ближайшим помощником Г. Зиновьева, в 1920 году – военком Полевого штаба реввоенсовета Республики и т. д. Как ни кощунственно это может звучать, ему «повезло умереть» в 1933 году, иначе его, наверняка, ожидала бы судьба вышеупомянутого Г. Зиновьева. Мама Елизаветы Феодосия Ильинична Драбкина (урождённая Фейга Ильинична Копелевич) свою героическую подпольную жизнь прошла под партийными кличками Наташа (прообраз революционерки в романе М. Горького «Мать») и Марианна. Не стоит удивляться, что неоднократно побывав малышкой на коленях у Ленина в Женеве и проехав немало стран с родителями – искателями революций, Елизавета пошла в Октябрьскую революцию самым активным участником в Петербурге. Она более года была секретарем Я. Свердлова до его кончины, затем на Южном фронте была пулемётчицей, санитаркой участвовала в подавлении Кронштадского восстания и т. д… Ну, и конечно, славный путь революционной деятельности закончила, практически, в 1929 году ссылкой на 3 года, а по возвращении, через несколько лет была арестована «всерьёз»: в конце 1936 года, получила 5 лет тюрьмы, затем по знаменитому «пересмотру» -15 лет ИТЛ. Били её, как и всех, нещадно, сделав почти глухой. Она прошла Норильск, где пыталась среди лагерников создать кружок по изучению марксизма-ленинизма, работала на угольной шахте, потом переводчиком, корректором, участвовала в литературном кружке. С колен Любимого Владимира Ильича она до конца жизни так и не «сошла»: почти всё, что она написала (весьма немало), пронизано Лениным, ленинизмом, революцией и верой в «светлое будущее». И, опять-таки, всё это несмотря на «весёлую жизнь», устроенную ей вышепоименованными.

(На снимке: это Елизавета выглядывает из-за плеча Свердлова, а Ильич – «сбоку-с припёку»)
Она бывала у нас с мужем (Бабинец А.И.), согласие встречала не у всех присутствовавших из-за неумения (нежелания?) менять своё мнение. Железный человек! Вот что написал в своём дневнике Корней Иванович Чуковский в 1933 году, встретив её в санатории: «…приключения Е.Я… поразительны. Рассказывала она о них с юмором, хотя все они залиты человеческой кровью, и чувствуется, что повторись это дело сейчас, она снова пошла бы в эту страшную бойню с примесью дикой нечаевщины». Правда, в дальнейшем, она говорила, что в своей судьбе она сожалеет только об участии в подавлении Кронштадского мятежа. В такой компании у меня появился «писательский зуд» (помните характеристику, данную мне моим учителем – любителем Маяковского, и таланты моей мамы?), и я послал Елизавете Яковлевне один из моих рассказиков. Привожу его в абсолютно том виде, каким он был написан изначально, и реакцию Елизаветы Яковлевны.
ТЁТЯ РОЗА С. Броун
Тёте Розе просто повезло. Дом, в котором она жила был последним. Дальше неоглядно шла степь. Дорога выскакивала из города, с километр шла прямо, а потом раздваивалась: правая направлялась к старому кладбищу, левая уходила к кладбищу новому.
Сенька не знал, какую должность занимала тётя Роза, но в её обязанности входило направлять процессии только на новое кладбище. Вот почему тёте Розе и повезло: с верхнего балкона единственного в городе пятиэтажного дома она ухитрялась, как говорила Сенькина мама, «быть и дома, и замужем». Стоило появиться процессии, как тётя Роза пулей вылетала на балкон:
– Ой, товарищи! – кричала она. – А куда вы пойдёте?
Как правило, родственники словоохотливости не проявляли.
– Я вас спрашиваю: налево или направо? – не унималась тётя Роза.
Главный музыкант, давно знавший административный пыл тёти Розы, давал команду, и её вопли тонули в торжественных и тягучих звуках оркестра.
– Ах, чтоб тебе! – кричала тётя Роза. – Бандит, он не даст тихо похоронить человека, ему надо звенеть в свои тарелки!
Последние вопли тёти Розы слышал уже только выскакивавший на балкон Сенька – всё заглушал оркестр.
– Черти б его так колотили – мгновенно успокаивалась тётя Роза и, не делая никаких попыток догнать процессию, уводила Сеньку к себе в комнату.
С тех пор, как открыли новое кладбище, ещё никто не ошибался и не сворачивал к старому. Однако тётя Роза всегда во-время оказывалась на балконе – она чувствовала себя «при деле».
– Мы ещё поговорим с этим байстрюком на рынке! – это был последний аккорд, но и самая большая угроза строптивому музыканту.
Послевоенный рынок! Он запомнился Сеньке солнцем и пылью, трёхсотрублёвыми буханками хлеба и ломтиками сушёной дыни.
Тётя Роза царствовала в своём уголке – на «барахолке».
– Баришня, – говорила она – есть юбка из чистой хак, но так, что закачаешься! Такая юбка может выдержать ещё не одну войну, дай бог её врагам нашим!
Если было совсем голодно, Сенька посещал тётю Розу. Ломоть хлеба всегда бывал результатом похода.
– Мальчик, скажи своей мама, пусть она займёт у меня денег, даже иногда без отдачи. Неужели это ей так уж трудно?!
На рынке тётю Розу навещает хромой Вениамин. Он числит себя драматическим талантом при заводском клубе и на рынок является, как он говорит, «собирать тип».
– Дело, Роза, происходит в тюрьме. Это надо видеть, Роза, как я падаю тогда перед ней на колено, весь обвитый цЕпочкой, и восклицаю: – Они пИтали мене, мать, но я им не сказал ни слова – лучше умереть! – Быть камнем, Роза, чтобы не зарыдать!
А вообще, Сеньке, постоянно полуголодному, жаль тётю Розу. Ютится она с дочкой в бывшей ванной комнате, никогда не знает покоя. И только её светлый оптимизм помогает ей бороться с военной вдовьей долей и скрашивать трудную жизнь окружающим».
Это был, конечно, опрометчивый поступок – послать Елизавете Яковлевне рассказ подобной тематики и стиля. Драбкиной, не признающей «лёгкого» писания, отдавшей всю жизнь, в том числе и лагерную, весь талант писателя Ленину и революции! Ну, и получил я, сын старого большевика, за это сполна! Вот её ответ «на ноту Чемберлена»: