Текст книги "Лорд Малквист и мистер Мун"
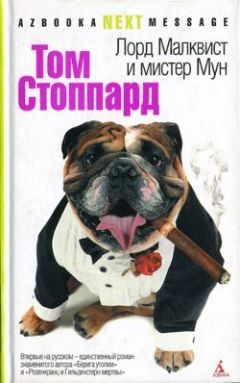
Автор книги: Том Стоппард
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
II
Мун улыбнулся Воскресшему Христу. Воскресший Христос покачал головой вверх-вниз, ухмыляясь в бороду. Они сидели на нижней ступеньке.
– Ты всегда был Воскресшим Христом? – спросил Мун. – Или… стал им?
– Понимаете, сэр, наверно, я был им еще до того, как сам это понял.
– А что заставило тебя думать, будто ты – это он? Как это началось?
– Понимаете, сэр, я всегда хотел им быть, всегда чувствовал, что могу им быть. Конечно, это было до того, как я узнал о физическом сходстве, понимаете.
– О физическом сходстве?
– О да. Его картинки в книжках – сплошная надуваловка. Да вы их сами видели – здоровый крепкий парень с голубыми глазищами и соломенными волосами. Чепуха все это.
– Ну, разные расы видят Спасителя по своему подобию, – сказал Мун. – Иногда – чернокожим.
– Возможно, возможно. Но я вам вот что скажу. Только один человек описал его тогда, понимаете, русский по имени Иосиф, и этот Иосиф написал, на кого он похож: низкорослый смуглый парень ростом пять футов четыре дюйма, с крючковатым носом и сросшимися бровями. Как вам это нравится?
Мун изумленно рассматривал Воскресшего Христа.
– Ну что, вылитый он?
– Чем ты занимаешься? – спросил Мун.
– Словом, понимаете, Словом. Проповедую, говорю с людьми. Завтра вот читаю проповедь в соборе Святого Павла.
– По приглашению?
– Конечно, меня позвали.
– О чем проповедь?
Воскресший Христос собрал глаза в кучку.
– Ну, понимаете… о том, что этот мир лишь тень жизни и всякое такое, то есть мир и все в нем переоценивают, понимаете, из-за того, что это лишь промежуточный этап на пути к Вечной Жизни, понимаете?
– Весьма успокаивает, – сказал Мун. – Если можешь на это так смотреть.
Он попытался посмотреть на это так, но тут же ощутил, что в его сознание боком вторгается какое-то старое наваждение. Чтобы защититься, он резко сменил ход мысли.
– Если ты – Воскресший Христос, – сказал он, – чему у меня нет причин верить и причин сомневаться, значит ли это, что ты – кто-то другой, кого наделили теми же полномочиями, или же тот самый человек, который вернулся? Есть у тебя, к примеру, стигматы?
Мун взял правую руку Воскресшего Христа и осмотрел ладонь. Ничего. Он надавил большим пальцем в центр ладони. Воскресший Христос ойкнул и выдернул руку.
– Конечно, ты можешь быть просто одним из воров, – сказал Мун. – Или еще каким-нибудь вором, неизвестным. Распинали, знаешь ли, тысячами. Об этом не распространяются, позволяя думать, будто распятие изобрели специально по такому случаю. И опять-таки, это может быть фиброз.
Воскресший Христос сидел, засунув правую руку под левую подмышку и упорно бормоча.
– К тому же, – сказал Мун, – завтра ты не сможешь там проповедовать из-за похорон.
– Могу проповедовать где захочу. Мне нужны только толпы.
Толпы – и он почувствовал, что они вновь наводняют его; полости внутри его сжались, пока их края не соприкоснулись, рассылая волны смутных опасений. Барьеры, которые защищали его, пока он их не признавал, сносили друг друга, и его разум, опять застигнутый врасплох, переполнился. Он попытался разделить страхи и разделаться с ними поодиночке, разумно, но не смог. Они были одним и тем же страхом, и он не мог даже разделить причины. Он знал только, что источником всего было множество, ощущение множащихся и ширящихся вещей, людей, автобусов, зданий, денег, взаимосвязанных и распространяющихся, – безжалостный, бесконтрольный, неуправляемый нарост раздувался вокруг него, отказывающийся взорваться и все же не обладающий успокаивающим влиянием бесконечности. В конце концов ему придется взорваться, и Мун годами напряженно этого ждал. Он научился с грехом пополам отстраняться, но потом произнесенное слово, или цифра в газете, или улица с припаркованными по обеим сторонам машинами опять наваливались на него.
– У вас, часом, не сыщется краюшки хлеба для странника? Я, сэр, три дня ничего не ел.
Мун встал и вместе с Воскресшим Христом прошел через прихожую на кухню. На столе высилась неряшливая пирамида банок с одинаковыми этикетками: ковбой, держащий банку с этикеткой ковбоя, держащего банку с этикеткой ковбоя, и надпись: «Свинина с бобами по-ковбойски». Их было около двадцати.
– Свинины с бобами?
– Ну, я… э-э… это у свиней раздвоенное копыто?
– Не знаю.
– Видите ли, сэр, над этим надобно помозговать. Тебе нельзя есть животных с раздвоенным копытом или наоборот? – спросил Мун.
– Вот тут я малость запутался, сэр. Но думаю, что от свинины надобно держаться подальше.
– Нет, это мусульмане, – сказал Мун. – Ничего с тобой не случится.
Все начиналось заново, и он попытался сосредоточиться на банках, но не смог. Свинья, мясники, ножи (кто сделал ножи? мясницкий фартук?), фасовочная фабрика, фасующая миллионы банок, типография для этикеток, печатающая миллионы этикеток, рабочие и прорабы, которые все живут в домах и ездят на автобусах и велосипедах, сделанных другими людьми (а кто следит за кули на плантациях каучука, из которого делают шины?), и все они получают деньги и имеют детей (а кто делает кирпичи для школ, а если никого не смогут найти и все это просто остановится?). Он опять стал потеть и порезал палец.
– Ваша честь, этого вполне хватит для пирушки.
Он вскрыл пять банок, вывалил содержимое на сковородку, включил и зажег газ, стараясь не думать о большой электростанции на той стороне реки, которая, может, и вырабатывала электричество, но постоянно угрожала его душевному спокойствию, поскольку стояла на реке, чудовищная и ненасытная, потребляя нечто – кокс, или уголь, или нефть, или еще что-то, – потребляя в невообразимых количествах, и все это оставлено на милость миллиона переменных, каждая из которых может как-то подвести, – забастовки, силикоз, шторм на море, нарушенный масштаб, арабский государственный переворот, падение предложения, рост спроса, крушение в Слау, оплошность, допущенная на вечеринке с коктейлями в Британском совете, зуб, заболевший не у того человека не в то время, а люди в любое время без всякой причины (если бы причина имелась, что-то можно было бы сделать) могут решить больше не становиться зубными врачами (с чего, в конце концов, людям хотеть становиться зубными врачами?), и некому будет утихомирить страшную боль в зубах шахтеров с черной блестящей кожей, которые добывают уголь, который грузят на поезд, который терпит крушение в Слау (да, а кто пообещает и дальше доить коров для детей тех, кто делает рельсы для поездов метро, набитых клерками, которые считают зубных врачей чем-то само собой разумеющимся?).
Мун плотно закрыл глаза, противясь возвращению усилившегося страха, который он не мог разделить на подвластные ему волокна. Он знал только, что от вида электростанции, или дорожной пробки, или небоскреба, или от мысли о воспоминании об их виде ему сводило кишки. Техническая и человеческая сложность махины балансировала на грани распада и удерживалась лишь благодаря тому, что никто этого не осознавал. Это же очевидно, и Мун не понимал, почему он должен в одиночку нести это бремя. Он понимал только, что это так. Когда в мультике кто-нибудь бежит и срывается с края скалы, то продолжает бежать в воздухе еще несколько ярдов; он падает, лишь посмотрев вниз и осознав это. Мун посмотрел вниз и узрел бездну.
Он открыл глаза и узрел лишь пар и дым, пахший подгорелыми бобами.
– Сэр, по-моему, они горят. Вы не беспокойтесь, ради меня не надо шибко стараться.
Мун снял сковородку с огня, нашел вилку, воткнул ее в бобы и плюхнул сковородку на стол. Воскресший Христос трижды потер руки (видимо, какая-то его личная укороченная версия молитвы) и принялся за еду.
– У вас, часом, не сыщется куска хлеба?
Мун разыскал хлеб, отломил горбушку и положил ее на стол. Он заметил, что в белый мякиш впиталась кровь. Он забрал кусок хлеба и понес его к раковине, собираясь вырвать запятнанную сердцевину, но, пока он это делал, кровь заляпала корку. Он открыл кран, намереваясь подержать под ним порезанную руку, но понял, что моет хлеб. Он швырнул его в ведро под раковиной и безнадежно уставился в точку, окаймленную в пространстве оконной рамой.
Снаружи находилась терраса. В нескольких ярдах от него поле зрения пересекала мраморная балюстрада, ступеньки террасы спускались между каменных урн к длинной зеленой лужайке, уходившей к озеру с островом и беседкой, за которыми высились зеленые холмы. Стиснувшее его напряжение ослабло, отхлынуло и исчезло, равномерно распределившись вокруг его тела. Он отвернулся от окна и сообразил, что его глаза открыты.
Мун лизнул руку и посмотрел, как кровь очерчивает порез. Лизнул еще раз, достал платок и перевязал им ладонь. Сделать узелок он не смог, поэтому плотно прижал конец большим пальцем.
Воскресший Христос покачал набитой бобами башкой:
– А вы тут, стало быть, работаете?
– Работаю?
Воскресший Христос взмахнул вилкой, словно дирижерской палочкой, и, уложив в один аккорд плиту, раковину, холодильник и шкафчики, повторил:
– Работаете.
– А, да нет. Я тут живу.
– Вы друг.
– Вовсе нет, – не поняв, учтиво ответил Мун.
Воскресший Христос добродушно ему улыбнулся. Некоторое время он ел в молчании, точнее, в словесном молчании. Наблюдая за ним, Мун понял, что электростанция опять вторгается в его разум.
– Стало быть, эта дама – миссис Босуэлл?
– Мун.
– Странный парень этот Босуэлл, вы не находите?
– То есть?
– Ну, этот, расфуфыренный, странный он парень.
– Его зовут Малквист. Граф Малквист. Понимаете, он лорд. Я на него работаю.
– Ваш начальник.
– Клиент.
Воскресший Христос отпихнул пустую сковородку, вытер одеянием рот, лукаво покосился на Муна и скинул со счетов почти две тысячи лет догм апостола Павла одним наблюдением:
– Уж я бы ее повалял по постели, эту дамочку, как ее там…
«Это никакая не дамочка, это моя…»
– Вообще-то она моя жена, – беззлобно сообщил Мун.
– Ваша жена?
– Да.
Мун наблюдал, как Воскресший Христос пытается уложить эти сведения в свое видение вещей.
– Надеюсь, я не обидел вашу светлость?
– Ничего страшного.
– Это во мне говорил диавол. Искушение, понимаете. Меня все время искушают.
– Я не лорд, – сказал Мун. – Меня зовут Мун. Тут его поразила одна мысль.
– Как тебя зовут?
– Иисус.
«Один – ноль в пользу Воскресшего Христа». Славный неудачник Мун улыбнулся ему. Это версия анекдота про «тук-тук».
Тук-тук!
Кто там?
Иисус.
Какой Иисус?
КАКОЙ Иисус?!
Мун любил рассказывать себе анекдоты. Особенно диалогом.
– Какой Иисус?
– Какой Иисус?!
Интонация уязвленного недоверчивостью Воскресшего Христа попала в точку. Но Мун больше любил играть обе роли.
– О чем там мелют эти ковбои? – спросил Воскресший Христос.
– А что такое?
– Странновато это, вы так не считаете?
– Неужели?
«Конечно-конечно, и ты это знаешь».
– Да ты и сам хорош, – парировал он, – разъезжать на осле в таком виде.
– А что такое? – спросил Воскресший Христос.
– Странновато это.
– Не для меня.
Возможно, это ответ. Он возьмет его на заметку. «Вся моя жизнь ждет вопросов, на которые я заготовил ответы, и поиск ответа на величайший вопрос… О, не спрашивайте, что это за вопрос, нам пора нанести визит».
Мун вышел из кухни, пересек прихожую и открыл дверь в гостиную. В комнате стемнело, но свет был выключен. Джейн раскинулась на диване, поддернув до груди платье, а лорд Малквист склонился над ней, изучая ее живот. Джейн приложила палец к губам, но Муну нечего было сказать. Девятый граф, сообразил Мун, исследовал ее пупок.
– Не думаю, что вы – книжный червь, – бормотал девятый граф. – Я бы скорее сказал, что вы экстраверт.
– Правда-правда, – согласилась Джейн.
– Не думаю, что у вас было слишком счастливое детство, – продолжил девятый граф. – Братьев и сестер я не вижу, но могу ошибаться. – («У меня был старший брат, но он умер», – призналась Джейн.) – Вы бывали за границей и, думаю, побываете еще.
– Ну разве он не прелесть? – спросила Джейн.
Девятый граф достал тонкий золотой карандашик и вставил заточенный кончик в ее пупок, разглаживая одну из складок.
– Да-да… Здесь я вижу некоторую неудовлетворенность – вы считаете, что ваши женские качества недооценивают… Вы щедры, но за свои деньги любите получать сполна… Вы чувствуете, что можете быть настоящим другом для многих, но подозреваете, что большинство ваших друзей мнимы, и бережете себя для нескольких избранных… Я предвижу долгую и насыщенную жизнь.
Он выпрямился и вернул карандашик в карман.
Джейн подпрыгнула на диване:
– Дорогой, это было чудесно. А теперь давайте я изучу ваш.
– Дорогая, мне чрезвычайно жаль, но для вас это будет просто еще один пупок.
– Я не совсем понимаю, что вы под этим подразумеваете, – надулась Джейн.
– Я не совсем понимаю, что я подразумеваю под чем бы то ни было. А, милый мальчик. Записная книжка у вас при себе? Принесите же ее, вы упускаете столько всего интересного.
«Мне плевать, мне просто плевать».
Джейн встала и одернула платье.
– Хорошо, лорд Малквист, – подчинился Мун.
Его записная книжка осталась в карете. Он вышел, закрыв дверь, но не успел убрать руку с фарфоровой ручки, как понял, почему его мозг подал сигнал незавершенности. Он вернулся в комнату.
– Конечно же нет, миледи, – говорил девятый граф, – без них я буду выглядеть как любой другой.
Они вопросительно взглянули на него. Мун не обратил на них внимания. Он опустился на ковер, приник щекой к ворсу и заговорил в темноту под диваном.
– Мари.
Он видел, что она лежит там.
– Все в порядке. Можешь вылезать.
Мун поднялся на ноги.
– Она очень робкая, – объяснил он.
Лорд Малквист похлопал его по плечу тростью черного дерева:
– Вы хотите сказать, что это трепетное, похожее на птичку создание до сих пор прячется в подлеске? Мамзель! Вылезайте, враг бежал!
Они прислушались. Муну показалось, что он слышит ее дыхание.
– Ну же! Маленькая сучка! – сурово сказала Джейн. Она схватила ближайший предмет – фарфоровую овчарку, явно намереваясь швырнуть ее в стену. – Я знала, что в глубине души она вуайеристка, у нее не было никакого права.
– Моя дорогая Джейн, мы сидели прямо над ней. Она не могла видеть ничего, что доставило бы ей удовольствие, если только она не любительница ног.
– Она подслушивала, – сказала Джейн.
– Écouteuse![6]6
Любительница подслушивать (фр.).
[Закрыть] Какая восхитительно изысканная утонченность! – Он сделал шаг назад, взял трость наперевес и элегантно обратился к дивану. – Моя дорогая мадемуазель, позвольте мне поселить вас на Сент-Джонс-Вуд за высокими самшитовыми изгородями с личной прислугой и десятью тысячами фунтов в год. Я буду анонимно навещать вас в запряженной двумя лошадьми карете цвета солнца и под зонтиком катать на лодке по Серпентину, пытаясь мельком увидеть вашу подвязку, о да, у нас с вами будет ложа в театре, и в сливовой тьме плюша и страсти я буду кормить вас засахаренным миндалем, увлекая вас в самые укромные уголки и комкая вашу гардению…
Овчарка разлетелась о стену над камином, и Мун вышел из комнаты.
Передняя дверь все еще была распахнута, снаружи быстро наступал вечер, лишая карету ее окраски.
– О'Хара?
– Здравствуйте!
– Здравствуй. Серые превратились в тени друг друга на стене.
– Все в порядке, – сказал Мун.
– Что именно?
«Вот тут он меня поймал».
Мун открыл дверцу кареты и забрался внутрь. Ощупал сиденье, а затем выбрался наружу и попросил у О'Хары огоньку. О'Хара склонился набок.
Мун видел его как нечто плотное, размытое на фоне кареты, затененное тенями, – шляпа и плащ, ниспадающий с высоких козел. И тут зажглись уличные фонари, издав слишком высокое для человеческого слуха свиристение. Розовая нить накаливания наполнила их восковую холодность обещанием света. Нога О'Хары коснулась земли, и, когда он повернулся на ней, Мун увидел его лицо, широкое, негроидное, черное.
– О'Хара…
– Держите.
Мун посмотрел на него и восстановил равновесие. Он пытался вспомнить, когда в последний раз видел О'Хару, видел ли он его вообще. У него откуда-то взялся умственный образ лица О'Хары – ирландского, пьяного и жирного. Придумал ли он его сам? В сотый раз его короткая память сыграла над ним еще одну шутку.
Его раздражение вылилось в замечание:
– Да что ты в этом понимаешь, О'Хара?
– Позвольте о растяпе вам поведать.
– Что?
– О'Хара, спрашиваю я себя, чего ей надо?
– Кому?
– Видел ли я ее бегущей?… Нет!
Мун увидел ее лежащей на Пэлл-Мэлл, скорчившейся, безрукой-безногой, недвижной (Дама не шевелится). Он понял, почему ощутил облегчение. Попытайся она корчиться, и он нес бы ее корчи в своем разуме, пока их не сменят новые демоны.
– Не понимаю, – сказал Мун.
– И я себя спрашиваю. Может, лунатичка.
Возможно, к кому бы это ни относилось. Безумие было основным объяснением личной точки зрения. Он попытался приложить его к дневным предательствам, но они были слишком разными.
– Долгий выдался денек, – сказал Мун.
– Наверно.
О'Хара чиркнул спичкой. Она вспыхнула на фоне черной луны его лица, усталые тигриные глаза сощурились на дымно-желтое пламя.
– Спасибо, я не курю.
Спичка погасла. Они нерешительно постояли рядом в холодной полутьме.
«Искусство вести беседу оставило меня. Я реакционер. Долгий выдался денек. Наверно».
– Как тебя зовут, О'Хара, какое у тебя имя?
– Абендиго.
– Ты новообращенный?
– С самого рождения.
Мун почувствовал, что попался в сплетение сложных уловок – произнесенных слов, сделанных предложений, совершенных поступков, – которые никуда его не вели. У него отняли инициативу и подталкивали в сторону паники – такое чувство в бесчисленных вариациях появлялось у него и раньше, оно походило… да, когда он был мальчишкой, зимой, в игровой комнате, после футбола, – руки и торс находились внутри толстого вязаного свитера, который был ему слишком мал, и он пытался выбраться из него, но не мог найти рукавов, и куда бы он ни ткнул кулаком, тот упирался в шерсть, и он уставал и не мог найти горло, и он умрет в нем, если не проделает свое собственное, не уничтожит…
– О'Хара, и давно ты негр?
О'Хара ухмыльнулся, низко опустил голову, словно довольный пианист-виртуоз, и двинулся прочь.
– Хитрый ублюдок, ты ведь не сказал мне, что ты негр?… Ты дал мне увидеть свою рожу пьянчужки-ирландца и ничего не сказал. Давно это началось, О'Хара? Знает ли лорд Малквист, что ты чернокожий, а? Почему ты явил мне себя чернокожим, О'Хара? – крикнул Мун.
О'Хара принялся взбираться на козлы.
– Но ты и не иудей! – опрометчиво крикнул Мун.
– Я вам уже сказал.
Мун сместился на менее зыбкую почву:
– Держись себе подобных, О'Хара, возвращайся в джунгли и оставь наших женщин в покое! Я тебя знаю, знаю, что ты замышляешь! Ты держишь цыплят в сарае для угля и мочишься на лестницах, ты громко говоришь в автобусах, не так ли, О'Хара? О да, я тебя насквозь вижу – ты занимаешь наши рабочие места, распространяешь в школах венерические болезни и торгуешь наркотиками, которые покупаешь на свои бесчестные заработки – о да, меня, знаешь ли, не проведешь, – я слышал ваши рабские песни, О'Хара, все это я слышал и не обманываюсь, и вот что я тебе скажу – потому что не думаю, что ты такой уж смелый, это лишь миф, О'Хара, и если хочешь знать мое мнение, то оно таково, что чувство ритма у вас ни к черту, так что убирайся и перестань меня преследовать, ты здесь лишь благодаря службе здравоохранения!
Мун в слезах забрался в пахнущую кожей тьму кареты и скорчился на полу.
«Я цепляюсь за соломинки, но какой прок утопающему от кирпича?»
Вскоре он перестал плакать. Под собой он обнаружил записную книжку. Он положил ее в карман и выбрался на свежий воздух. Когда он попытался заговорить, его голос звучал хрипло. Он вытер рукавом глаза и посмотрел на кучера, который пятном выделялся на грязно-сером просторе неба.
– Послушай, О'Хара, – раскаянно сказал он.
– Ну?… – О'Хара сидел на козлах и дымил.
– Прости, я не хотел… ты застал меня врасплох.
– Все в порядке.
– Видишь ли, я еще не до конца сформулировал свое мнение по расовому вопросу. Если бы у меня было время подготовить речь, я рассмотрел бы и другую сторону тоже. Я вижу обе стороны… Наверное, я боюсь негров, – безнадежно заключил он.
«А кто их не боится? Они могут взбунтоваться, как овчарки, и наброситься на тебя».
С другой стороны, так он относился почти ко всем. К лошадям в том числе. Дело не просто в цвете, все куда глубже. Негры и овчарки – то, чего он боялся больше всего, но лошадь может покусать, и он знал, что все лошади в той или иной степени убивают время, ожидая момент, когда им удастся его покусать. Всех он боялся иногда, а некоторых – всегда.
– Думаю, дело в том, – осторожно сказал Мун, – что я не смелый, понимаешь, я непостоянен в своей трусости. А что тут поделаешь? Как можно быть постоянным в чем-либо, коль скоро все абсолютное опровергает друг друга? – Он умолк, надеясь получить поддержку, и обрел ее во внезапном клубе дыма из трубки О'Хары. – Я не верю в движения, – продолжил он, – потому что они присваивают себе всю истину и заявляют себя абсолютными. По той же причине я не доверяю и противоположному движению. О'Хара?… Понимаешь, когда кто-нибудь не соглашается с тобой по части морали, ты считаешь, что он на шаг от тебя отстал, а он – что на шаг тебя опередил. Но я принимаю обе стороны, О'Хара, играя в чехарду великими моральными вопросами, сам себя опровергаю и не оставляю от опровержения камня на камне, приближаясь к правде, которая должна состоять из двух противоположных полуправд. И ее никогда не достигнешь, потому что всегда найдется, что еще сказать. Но я не могу с этим покончить, понимаешь, О'Хара? Я не могу просто принять ту точку зрения, которая одобрена моралью. На самом деле я не против чернокожих, просто меня отпугивает то, как просто занять добродетельную позицию в их поддержку, невзирая на последствия. Нет ничего проще добродетели, а я не доверяю простоте. Впрочем, – сбивчиво добавил он, – я твердо верю в равенство и разумную порядочность всего человечества, независимо от расы или цвета кожи. Но я бы не хотел, чтобы моя сестра вышла замуж за чернокожего. Или китайца, или алжирца. Или австралийца, или родезийца, или испанца. Или мексиканца, или тюремного надзирателя, или коммуниста, хотя я довольно часто думаю, что в защиту коммунизма многое можно сказать… По правде говоря, я ничего не имею против кого бы то ни было. Кроме, возможно, ирландцев. Ненавижу ирландцев.
– Я-то сам из Дублина, – признался О'Хара и старчески захихикал.
– Проблема людей в том, – сказал Мун, – что почти никто больше не ведет себя естественно, все ведут себя так, как от них того ждут, как если бы они прочитали о себе или увидели себя в кино. Вся жизнь сейчас такая. Нельзя даже думать естественно, потому что для тебя уже выбрано мнение, которое ты должен выражать. Оригинальность растрачена. И все-таки тяжело отказаться от веры в неповторимость человека.
Когда он учился в интернате, его лучшего друга звали Смит. Смит развлекал себя и Муна тем, что делал из телефонных будок неприличные звонки. Одна из его жертв умело прикинулась, будто заинтересована неким непристойным предложением, и спросила имя говорящего, на что Смит гаркнул: «Меня зовут Браун». В этом было нечто, что Мун пытался уловить годами.
– Я не могу принять какую-либо сторону, – сказал Мун. – Потому что, если займешь ту или иную сторону, ты в ней растворишься. Я даже не могу соблюсти моральный баланс, потому что не знаю, что такое мораль – инстинкт или просто обман.
Мун чувствовал, что вот-вот заявит нечто, за что сможет поручиться и к чему будет возвращаться снова и снова. Когда он попытался ухватиться за это, единственное, что пришло ему в голову, – когда-то услышанный анекдот об актере.
Он в отчаянии посмотрел на О'Хару, который сидел сгорбившись и отгородившись шляпой и плащом. Казалось, ответ невозможен.
– Был один актер, – молил его Мун. Он уперся в карету, раскачивая ее. – Актер… я еще не нашел себе места, О'Хара! – крикнул он. – Понимаешь, я себя еще не вычислил. Поэтому у меня нет направления, нет импульса, и все приходит ко мне немного не под тем углом. – Он встряхнул карету, и серые вздрогнули. – О'Хара! Скажи мне, ты всегда был чернокожим, а? Я ведь раньше не видел твоего лица, так?
– Чернокожий-шмернокожий, какая разница?
– И почему ты так говоришь, это не по-настоящему, это нереально, О'Хара, почему ты так неубедителен?
– Дублинский негр должен говорить, как жиденок?
– Лорд Малквист сказал, что ты кокни.
– Вы меня в краску вогнали, – сказал О'Хара и затрясся от хохота.
Мун оттолкнулся ладонями от кареты. К нему тихо подошел осел и посмотрел на него. Уличные фонари бледнели на фоне кроваво-оранжевого мироздания, и фасад дома подхватывал тени на уступы и подоконники, выявляя подробность, которую скрывал закат. Медная табличка на камне вновь ожила, возвещая:
БОСУЭЛЛ ИНК.
Зарегистрированная компания
Мун вернулся в дом и через прихожую прошел на кухню. Включил свет. Воскресший Христос спал сидя, уронив голову на стол. Мун встряхнул его:
– Послушай, ты не заметил, какого цвета О'Хара?
Воскресший Христос таращился на Муна, пытаясь его узнать, затем его взгляд прояснился.
– Славное утречко, ваша честь.
– О'Хара, кучер.
– Негр-то? А что такое?
Мун сел за стол. Воскресший Христос потянулся, встал и подошел к окну.
– Чудесный вид.
Мун не открывал глаз.
– Пора отчаливать.
Он услышал, как Воскресший Христос открывает кран и сморкается.
– Пища в брюхе и место, чтоб преклонить голову, – сказал Воскресший Христос. – Я вас еще увижу, когда придет время, – пообещал он.
Мун слепо кивнул.
– Ну так я вас благословляю. Только вот возьму этот ломоть хлебца своему ослу.
Мун подождал, пока Воскресший Христос не уйдет, а затем, не открывая глаз, на ощупь отыскал дорогу к задней двери, открыл ее и вышел на холод. Успокоенный запахом гниющих овощей, он открыл глаза и оказался в темном огражденном дворике.
Окно кухни было заделано заподлицо с кирпичами большой прямоугольной доской. На ней белела бумажка, и Мун, приблизив к ней лицо, смог ее разобрать. Она гласила: «Петфинч-корт, южный сад» и «Панахромные фрески преобразят ваш вид из окна».
Мун почувствовал огромную благодарность. Возможно, это все объясняло. Когда он вернулся на кухню, там стоял ошарашенный Воскресший Христос.
– Ночь на дворе, – сказал он. – Меня ж гусиным перышком можно было сбить с ног.
Мун повернулся к окну и изучил вид. Теперь, когда на кухне горел свет, он выглядел не столь эффектно, но, пронизав взглядом свое отражение, он наконец смог уловить перспективу. В сумерках высились далекие серые холмы.
Когда-нибудь все это будет твоим, сын мой. В Петфинче всегда был Мун, и я знаю, что ты будешь нести наше имя с честью. Скачи во весь опор и преодолевай препятствия как мужнина. Итон будет тебе в новинку после академии мисс Бленкиншоу, но принимай удары судьбы так, как их принимал я, и играй, играй. Старина, и я хочу, чтобы ты пообещал мне: что бы ни случилось, ты позаботишься о своей матери.
Воскресший Христос тронул его руку:
– Мистер Босуэлл?
– Мун, – поправил Мун. – Босуэлл – это компания.
– Ага. И чем же вы занимаетесь?
– Последующими поколениями, – ответил Мун. – Я занимаюсь последующими поколениями.
– Последующими поколениями?
– Это побочное занятие. Я историк.
– Правда?
– Да, это, черт подери, правда, – отрезал Мун, прошел мимо Воскресшего Христа – тот двинулся следом – и вошел в пустую гостиную.
На письменном столе стояла лампа. Он включил ее и откинул столешницу, открыв нечистые, аккуратно сложенные стопки бумаги, одна из которых была много больше остальных и не такая аккуратная. Все верхние страницы были неравномерно заполнены заметками, сделанными убористым почерком.
– А у вас тут много чего, ваша честь.
– Это для книги, – объяснил Мун. – Я пишу книгу.
Он взял один лист и прочел на нем два слова:
ГРЕКИ
Греки
Еще один лист гласил: История есть продвижение Человека в Мире, и начало истории есть начало Человека. Посему
Мун скомкал оба листа и швырнул их в мусорную корзину. Пошарил в ящике, пока не нашел коробочку, почти доверху заполненную белыми карточками. Он протянул одну Воскресшему Христу, положил коробочку на место и закрыл ящик. Воскресший Христос поднес карточку к лицу и насупился на нее.
БОСУЭЛЛ ИНК.
Если вы просыпаетесь в остроумном настроении, если вы готовы поделиться с миром своей мудростью – не рассчитывайте на устное слово, не теряйте веры. Пошлите за Нашим Человеком Босуэллом, летописцем, – он проследит ваши шаги и запишет ваши слова. Последующие поколения обеспечены. Соблюдение авторских прав. Организация публикации. Две копии прилагаются.
«Я почти мертв, а никто не знает, что я когда-либо жил» – Анон.
Десять гиней в день. Работа понедельная.
– И что это?
– Тут написано, – пояснил Мун, – что я предлагаю нечто вроде жизни после смерти. Мы занимаемся одним и тем же.
– Так это вы?
– Сзади стоит мое имя. И адрес. Вот здесь, видишь? Вот чем я занимаюсь.
– Матерь Божья, прошу прощения, ваша честь.
– Не за что.
– А я думал, у вас тут бордель.
– С чего ты это взял?
Воскресший Христос задумался.
– Ей-ей, и сам не знаю.
Муну нечего было сказать. Он чувствовал себя в комнате как в ловушке, без малейшего понятия или благовидного предлога к каким-нибудь словам или действию. Он наугад двинулся к двери, проводя пальцем по предметам меблировки, пытаясь рассеять чувство, будто он изображает движение, и вышел в прихожую. Там он тоже почувствовал себя заблудившимся. Помедлив, он поднялся наверх и постучал в дверь спальни.
– Кто там?
– Я, – ответил Мун.
– Тогда входи.
Джейн и девятый граф сидели на кровати. Она разделась до пояса, а лорд Малквист держал ее правую грудь, нажимая тут и там с видом отстраненной заинтересованности, как будто пытался извлечь из нее какой-нибудь звук. Бездвижное платье Джейн распласталось на ковре: павлин, которого переехал автобус. На Муна они не взглянули. Джейн рассеянно поигрывала волосами лорда Малквиста.
Наконец девятый граф выпрямился.
– Похоже, сердце в порядке, – заключил он.
– Это не сердце, – сказала Джейн, – это грудь.
Говорила она очень серьезно.
– Я ничего не чувствую.
– Вы уверены?
– О да, знаете, не стоит носиться с такими идеями. В наши дни слишком много всего читают, вот что всему причиной.
Джейн встала, опоясала себя лифчиком, как ремнем, и повернула его задом наперед. Мун еще раз изучил ее ниспадающие волосы, лопатки, расцвеченные сине-белыми цветами груди, ягодицы, ноги и ступни. Груди скользнули вокруг тела и встали на место.
Джейн была готова расплакаться.
– У меня рак груди, – пожаловалась она Myну.
– Которой?
– Вот этой. Я чувствую уплотнение.
– Чепуха, – сказал девятый граф.
– Ее придется ампутировать, – прорыдала она.
– Куда одна, туда и вторая, – сказал девятый граф. – Асимметричное тело вульгарно и как тело, и как произведение искусства.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































