Текст книги "Маркиз де Сад"
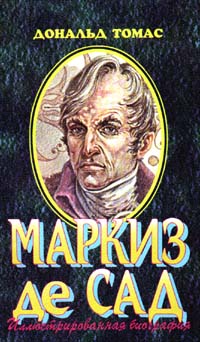
Автор книги: Томас Дональд
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Роман изображает английскую садистку по имени Клара, с которой рассказчик встречается во время путешествия на Дальний Восток, предпринятого после провала на всеобщих выборах Третьей Республики. Именно она знакомит его со сценами восточных пыток и казней, смерти от сексуальных ласк или от крысы, выедающей внутренности жертвы. Однако эти ужасы относятся скорее к сфере музея восковых фигур. В отличие от Сада, и несмотря на собственное участие в анархическом движении, Мирабо пишет, словно дилетант, каким по существу и являлся.
Среди других литературных наследников Сада был современник Мирабо Жорж, Жозеф Грассаль, представитель правого крыла, сочувствовавший Шарлю Морра и делу Франции, ярый поклонник Ницше. Он творил под именем Хьюго Ребелл. Писатель плодотворно трудился в девяностые годы прошлого столетия и прославился как поэт, романист, эссеист, переводчик Оскара Уайлда. Его книги, написанные под влиянием маркиза, включали такие сочинения, как «Наказанные женщины», «Женщина и ее учитель». Последняя, изданная под псевдонимом, повествует о судьбе европейских женщин, попавших в плен в Хартуме и подвергшихся сексуальным надругательствам. К этому же ряду произведений относится роман «В Вирджинии», рассказывающий о рабах, работающих на плантации. Ребелл также не удержался от публичных нападок на английское правосудие и «мелочную кальвинистскую мораль» их судей. Причиной его яростной атаки стало тюремное заключение Оскара Уайлда. Следующей мишенью для выражения своего презрения он выбрал садистские наклонности Англии, скрываемые под моральной личиной наказания. Но карьера самого Ребелла оказалась еще короче, чем Уайлда. Преследуемый кредиторами и судебными приставами, он вынужден был оставить свое убогое жилище в Батиньоле и спать на полу комнаты в Марэ в то время, как ее обитательница со своим любовником-солдатом занимали кровать, стоявшую в нескольких футах от него. Умер он в 1905 году в возрасте тридцати семи лет.
Писатели типа Барби д'Оревили, Мирбо, Ребелла, даже Д'Аннунцио и Пеладана, соответствовали утверждению Сент-Бева относительно влияния Сада на постромантическое направление, которое он определил как «скрытое, но не слишком». Хотя Суинберн не скрывал своего неравнодушного отношения к маркизу, то же самое можно сказать и о его пробе пера в прозе. Речь идет о «Потоках перекрестка любви» (1905) и о незаконченной «Лесбии Брэндон». В этой точке подводное течение литературы и наиболее престижные из европейских романов сходились.
Время сыграло на руку, и больше не требовалось скрывать присутствие идей Сада. Никто из европейских романистов не дал более четкого определения садизма как морального феномена, чем Марсель Пруст в произведении «В сторону Сванна» (1913). Рассказчик через незавешенное окно наблюдает за парой лесбиянок, находящихся в освещенной светом комнате. Мадемуазель Вентей – дочь покойного композитора и музыканта. Непосредственно перед тем, как заняться любовью, она сидит на диване на коленях своей приятельницы. Фотография ее покойного отца на столе поставлена словно специально, чтобы он имел возможность наблюдать за происходящим. Хотя мадемуазель Вентей оказывается соблазненной невинной девушкой, она все-таки наставляет свою партнершу, давая ей услышанные где-то рекомендации. Так вторая женщина предлагает плюнуть на фотографию «безобразной старой обезьяны». Подобное «ежедневное осквернение» тщательно готовится. В сцене нет физического насилия, даже на фотографию никто не плюет. Все же в мадемуазель Вентей Пруст видит правду того, «что сегодня называется садизмом».
«Возможно, девушка, не будучи ни в малейшей степени предрасположенной к „садизму“, могла бы проявить столько же вызывающей жестокости, как и мадемуазель Вентей в оскорблении памяти и попрании воли покойного отца, но она не стала бы это намеренно выражать в действии, столь грубом по своему символическому значению, без всякой утонченности. Преступный элемент в ее поведении стал бы менее заметен постороннему взгляду и даже ей самой, поскольку она бы не решила бы про себя, что поступает дурно. Но, отбросив внешнюю сторону, в душе мадемуазель Вентей, по крайней мере, на раннем этапе, порочный элемент, вероятно, существовал не без примесей. „Садист“ ее типа – это мастер зла, в то время как человек, с головы до ног безнравственный, таким быть не мог бы, ибо в таком случае порок не являлся бы внешним, зло было бы свойственно ей и неотделимо от ее природы. Что касается добродетели, уважения к мертвым, дочернего послушания, поскольку она никогда не исповедовала эти вещи, то и не может испытывать неблагочестивой радости при их осквернении. „Садисты“ типа мадемуазель Вентей – создания столь сентиментальные, столь добродетельные по натуре, что даже чувственное наслаждение представляется им чем-то скверным, уделом порочных».
Анализ, данный Прустом, является классическим и наиболее точным по сути исследованием наследия, оставленного Садом. Садизм в этом смысле столь же губителен и сардоничен, как сатира. Это же касается произведений Джонатана Свифта и Ивлина Во. Сексуальное насилие над личностью в этом случае не является садистским. Садизм – это физическое насилие, сопровождающееся насмешкой и издевательством над жертвой. Мадемуазель Вентей на самом деле садистка, в то время как пьяный мужлан, избивающий жену, – нет. Садизм требует также наличия определенной пристойности, «добродетельного» сознания, в том смысле, как это понимает Пруст, или того, что Жорж Батай называл «чувством трансгрессии», что отличает удовольствие от инстинктивного совокупления.
– 2 —
Определение, данное садизму Прустом, в двадцатом веке, ввиду расхожего применения термина и его сочетания с другими понятиями, как-то забылось. Вместе с тем, другой, более точной, формулировки так и не появилось. Самые злостные преступники в концентрационных лагерях или трудовых лагерях авторитарных режимов не являлись садистами в истинном значении слова, так как считали свои действия правомерными.
Наибольшее осложнение вызвало сочетание таких двух понятий, как «садо-мазохизм». В то время, когда сам Сад сочетал в своем поведении оба элемента, неологизм означал соединение двух различных типов. В литературе по психопатологии, пациентка Хевлока Эллиса, к примеру, «Флорри», суфражистка и литератор, пишущая на темы искусства, представительница эмансипированного женского населения, испытывала регулярную необходимость уединения в гостиничном номере с почти незнакомым мужчиной, с тем, чтобы там он высек ее. Это, в свою очередь, позволило бы ей написать письма в прессу с описанием того, как оказались избиты суфражистки, попортившие чью-то собственность. Из этого описания, данного Эллисом, явствует только одно: к Саду ее поведение никакого отношения не имеет. Как не следует и то, что садовские типажи и подобные Флорри слеплены из одного и того же теста. Несмотря на свою репутацию, точка зрения современного женского романа, вроде «Истории О» Доменика Ори – это точка зрения мазохиста. Сочетание садизма и мазохизма оказалось потенциально роковым, как показало убийство Марджери Гарднер Невиллом Хитом летом 1946 года.
Девятнадцатый век еще не закончился, а слово «садизм» уже приобрело терминологическое значение.
Более того, в новой науке – сексопатологии этот термин стал основополагающим. Словом, понятие это из сферы литературной перекочевало в науку. До тех пор, пока существует этот термин, будет сохраняться репутация человека, имя которого он увековечивает. После публикации «Сексопсихопатологии» Краффта-Эбинга в 1886 году он обозначил границы нового немецкого исследования сексопатологии. По шкале бессмертия Саду не пришлось ждать долго. Несмотря на современность Краффта-Эбинга, родился он всего двадцать шесть лет спустя после смерти маркиза. Его ранняя работа, предшествующая «Сексопсихопатологии» с широкой доступностью ее ссылок, в значительной степени предвосхитила поэзию Теннисона и прозу Мэтью Арнольда, и даже такой роман, как «Даниель Диронда» Джорджа Эллиота.
Использование имени Сада с такой целью, с одной стороны, обеспечило ему бессмертие, с другой приуменьшила его значение. Его роль в «садомазохизме» оказалась втиснута в строгие рамки. Лишенный политического и философского значения, он существует в детских эмоциях работ типа «Ребенка избили» Фрейда (1919). Вместе со своими коллегам и-заключенными Эдипом и Захером-Мазохом он трудился на благо развития теорий детских переживаний. Если он стал заключенным Фрейда, как тридцатью годами ранее – Краффта-Эбинга, он также являлся пленником гуманного сумасшедшего дома Хевлока Эллиса. В «Любви и боли» Эллис оставил миру образ сумасшедшего Сада, каким его помнил по Шарантону один из его современников.
«Он рассказывал, что одним из развлечений маркиза было добывать откуда-то корзины наиболее красивых и дорогих роз. Потом Сад сидел на скамеечке для ног у грязного ручья, протекавшего по двору, один за другим вытаскивал из корзины цветы, любовался ими и с томным выражением лица вдыхал их аромат, после чего макал розы в мутную воду и со смехом расшвыривал их».
Несмотря на раннюю дурную славу работы Эллиса, его представление о Саде как о человеке, помешавшемся ввиду сексуального невоздержания, имеет больше общего с предрассудками девятнадцатого века, чем с предположениями двадцатого. Все это получило резкое опровержение со стороны многих литераторов, начиная от Гийома Аполлинера в 1913 году до Питера Вейса в «Марат-Саде», появившегося полвека спустя. Этому же способствовала и публикация садовского литературного наследия, созданного в Шарантоне.
С большей проницательностью к Саду и садизму относились не психиатры и критики, а прозаики и поэты. Против упрощенного использования имени маркиза в психопатологии послужила публикация «120 дней Содома» и его многочисленных коротких произведений, обнаруженных в новом веке. Это же способствовало объективной переоценке репутации Сада. Он обязан психопатологии, но не как науке, а как предлогу, обеспечившему публикацию этих рукописей. Двадцатый век начался с ряда комментариев о маркизе и его книгах, возглавляемого Альбертом Эйленбергом, Огустеном Кабане и Евгением Дюреном. Последнее имя являлось псевдонимом Ивана Блоха, движущей силы, стоявшей за первым изданием «120 дней Содома», увидевшим свет в Берлине в 1904 году.
Сад полагал, что пятнадцать из его бастильских тетрадей погибли, и их потерю, по его собственному выражению, он оплакал кровавыми слезами. Но в новый век развития психиатрической науки наиболее крайние сексуальные отклонения маркиза стали легальными объектами научных исследований. Тексты его неопубликованных произведений стали доступны врачам, ученым, юристам и интеллигентным людям. При этом основная часть простых людей, сжигаемая любопытством, мечтала хоть одним глазком взглянуть на запретные писания, так долго скрываемые.
– 3 —
Какой бы интерес к Саду не демонстрировали медики, он ничто по сравнению с интересом, проявляемым к нему литературой андеграунда. Об этом свидетельствуют многие книги: «Удовольствия жестокости» как продолжение чтения «Жюстины» и «Жюльетты» (1898) и «Садопедия, или Переживания Сесила Прендергаста, студента последнего курса Оксфордского университета, показывающие, как приятными тропами мазохизма он следовал к высшим радостям садизма» (1907).
Параллельно с течением андеграунда в литературе наблюдалось возрождение влияния маркиза, происходившее из более плодотворных источников, чем открытие его рукописей или подражаний ему в эротической прозе. В 1909 году Гийом – художник, поэт и непосредственный предшественник сюрреализма, выпустил собрание сочинений Сада и провозгласил его обладателем «самого свободного ума», какой был когда-либо известен миру. Поэт предложил также и свой собственный вклад в форме романа-фарса «Les Milles Verges» (1907)[28]28
Один из вариантов перевода – «Одиннадцатимильные розги».
[Закрыть], частично развенчивающий военную мораль на примере русско-японской войны.
Как и в предыдущем веке, Сад стал символом новой революции в искусстве и литературе. За последние пятьдесят лет он коснулся постромантизма Флобера и Бодлера, Суинберна и Д'Аннунцио. В годы после первой мировой войны его взял на вооружение сюрреализм. Такие его лидеры, как Андре Бретон, признавали в маркизе великого иконоборца и, естественно, считали своим союзником. Тот факт, что в свое время Сада отвергли, сам по себе сделал его более приемлемым для нового движения. Сюрреализм включал веру в революцию в сочетании с ненавистью к классическим политическим догмам правых и левых, что произошло после того, как стало ясно, что революционный режим в СССР отверг предложение править на сюрреалистических принципах. Сюрреализм считал своим долгом нарушать наиболее священные догмы буржуазного общества, в этом плане он, как будто, тоже следовал Саду. Выполнять этот долг не составляло труда. Много шума вызвало появление фильма Луи Бунюеля «Золотой век» (1930), в котором садовский герцог де Бланжи выходит из оргий «120 дней Содома» в платье Христа, принятом в традиционной иконографии.
Сюрреализм, подобно любому современному движению, в большей степени интересовался самим собой, чем своими предшественниками. Таким образом, идеи маркиза понадобились для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Даже являясь мифической фигурой, он, похоже, в равной степени подходил амбициям и фашизма, и коммунизма. Подобно Ницше, им можно прикрыться для оправдания выживания за счет расового господства в войне природы, использования женщин как объектов авторитарной жестокости, в то время как его герои были всего лишь суперменами, возвысившимися над жалкими ограничениями закона и морали. Более чем прозрачна притягательность идей Сада для коммунизма и его сторонников. Разве маркиз не радовался свержению буржуазии и ее меркантильных ценностей? Разве он, подобно Ленину и Сталину, не показал, что убийство и пытки могут стать средством очищения политического органа? Разве, в свете всего этого, он не стал чистейшим и непреклоннейшим из ангелов социальной справедливости, аристократ, ставший революционером?
Для критиков роль Сада в политике тоталитаризма его последователей сводилась к спасению тирании от превращения в устаревший инструмент реакции, к преобразованию ее в законное оружие мощной революции.
На основании литературного наследия и пережитого опыта маркиза можно сказать, что Сад с презрением относился бы к учрежденной политике, все равно – левой или правой. Так же и строгость его стиля и мысли едва ли подошла бы тому, что представлял собой сюрреализм. Куда больший интерес представляет та дань, которую ему платило это движение, в частности, работами своих художников. В отдельных случаях эта дань приняла форму иллюстраций к его романам, выполненных Гансом Беллмером, или рисунков Леонор Фини к «Жюльетте» (1944) и «Жюстине» (1950). Иллюстрации Фини имеют выраженную женскую эмфазу. В ее работах ярко представлена ярость садовских героинь и жестокость, с которой они подвергались физическому надругательству. Яростная сила подобных иллюстрация также характерна для других современных художников, например, Андре Массону и Гансу Беллмеру.
Другую крайность представляют работы Клови Труия, с почти фотографической точностью воспроизводящие эротические и юмористические стороны творчества Сада. Не являясь иллюстрациями, они представляют попытку связать работы Сада с двадцатым веком. Современность точно схваченной в них иронии не вызывает сомнения. Картина «Подглядывающая» изображает фойе кинотеатра, украшенное плетьми и плакатами с полуобнаженными девицами. На кадре из кинокартины «Загадки де Садома» застыл дворянин восемнадцатого века, опирающийся на череп, с плетью в руке, и выбирающий, кого из нескольких нагих девушек выбрать в качестве очередной жертвы. «Вход тем, кому до пятидесяти лет, запрещен» – гласит надпись в фойе, и молодая девушка с любопытством заглядывает за отодвинутый бархатный занавес над дверью, ведущей в кинозал. Застывший кинокадр на самом деле является второй картиной Труия «Похоть», где садовский аристократ с вожделением созерцает связанных женщин, на которых нет никакой одежды, кроме современных шелковых чулок. На заднем плане видны узнаваемые развалины замка Ла-Кост.
Подобный элемент юмора, хотя и без прямого указания на Сада, присутствует и в фигурках Аллена Джонса, выполненных из стекловолокна и изображающих девушек в виде мебели. «Стол», «Вешалка для шляп» и «Стул» – три работы 1969 года. Первая представляет собой натурщицу в перчатках, сапогах и трусиках, стоящую на четвереньках, со стеклянным листом на спине. Вторая фигурка в чулках и повязкой на чреслах протягивает руки, чтобы на них можно было вешать шляпы. Последняя изображает девушку в положении на спине с поднятыми вверх ногами, таким образом ее тело поддерживает сиденье и спинку стула. Подобные художественные творение, возможно, менее отталкивающие, чем живая мебель на обеде у Минского в «Жюльетте», но сходство поразительно. Действительно, тема женских форм, представленных в виде мебели, уже нашла отражение в сюрреализме еще в тридцатые годы, в том числе и на картинах Дали, включая розовый диван в форме губ Мей Уэст.
Имеется и другое, противоположное, восприятие Сада в искусстве в виде фигуры героического сопротивления, трагического героя, сражающегося с силами репрессии. Среди ряда подобных портретов наибольшее впечатление производят работы Капулетти и Мэна Рея. У Капулетти Сад представлен готовым к сражению заключенным; у Рея Сад предстает в качестве живого монумента, возведенного из того же камня, что и тюремное здание, в котором он содержится. Созданный художником образ подчеркивал для современников посмертную репутацию маркиза как человека беспримерного мужества и неукротимого ума.
В 1939 году, включив отрывок из «Жюльетты» в «Антологию черного юмора», Андре Бретон сделал наблюдение, которое уже не кажется противоречивым. «Только в двадцатом веке, – писал он, – были определены действительные горизонты творчества Сада». В последующие годы опыт тотальной войны и ужасы, заставившие померкнуть жестокости «120 дней Содома», эта оценка получила дальнейшее подтверждение. За это время выяснилось, что маркиз дал ужасающий и точный анализ человеческой психологии. Если Сад и вправду был глашатаем экстремального католицизма, как думал Флобер, то он с беспримерной силой предсказал падение современного человека. Современный взгляд на маркиза как на писателя, который лишь носил маску атеиста, высказал Пьер Клоссовски в своем «Мой ближний Сад». Более пессимистически настроенный Альбер Камю заметил: «… история и трагедия современного мира началась с Сада». Это соответствует истине в том плане, что осознание современной ситуации своими корнями уходит в его литературное наследие.
Опыт Второй мировой войны открыл путь для интенсивного академического изучения Сада. Это была бледная, но честная попытка, по сравнению с яркостью красок и воображения сюрреалистов. Но стопятидесятилетняя история Франции и французской литературы практически начисто вычеркнула его из своих анналов, за исключением коротких ссылок. Упущенное наверстывалось в послевоенной академической науке. Созидательный дух литературы тоже отдавал дань должного, включая таких поэтов, как Рене Шара, романистов типа Жоржа Батая, Реймона Кено и Симона де Бовуар, таких критиков, как Эдмонд Уилсон и Пьер Клоссовски, и академиков уровня Жана Полена.
Все же Сад больше всех обязан своему почитателю Морису Гейне, бывшему в свое время коммунистом, пацифистом и борцом против варварского убийства быков на корриде. Гейне, умерший в 1940 году во время оккупации Германией Парижа, спас от забвения многие рукописи маркиза, опубликовав их в период между войнами. Уйдя из жизни преждевременно, он успел лишь вкратце набросать план биографии Сада, одновременно изучая такие события, как скандал с Роз Келлер и дело о марсельском отравлении. Опубликовать первый систематизированный отчет о жизни маркиза выпало на долю его младшего друга, Жильбера Лели, сделавшего это поколение спустя.
По мере того как ручеек академических исследований, посвященных Саду, разросся в полноводный поток, выяснилось, что многие из ранних работ оказались более зрелыми. Марио Праз в «Романтической агонии» (1933), литературоведческой работе, показал огромное скрытое влияние идей маркиза на европейскую литературу девятнадцатого века. Поставленные после войны на широкую ногу академические исследования жизни Сада, вызывающего неувядаемый интерес, позволяли журналам целые номера посвящать обсуждению его сочинений. Наконец фигура человека, «имя которого не могло произноситься», из анекдота Генри Джеймса стала темой большого филологического коллоквиума в Экс-Марсельском университете. Несмотря на тот факт, что издатель произведений маркиза в 1959 году привлекался к уголовной ответственности, настало время, когда мир мог познакомиться с полным собранием сочинений Сада, причем, без купюр. Даже романы, вызвавшие в середине века различные легальные затруднения, находились теперь в свободной продаже, их экземпляры в бумажных обложках можно было купить на массовом рынке без всяких ограничений. Неужели и в самом деле его творчество имело такое значение для широкой общественности, что даже моральными издержками пришлось пренебрегать? Или отныне это не имело значения?
Рост популярности Сада в массовой культуре шестидесятых годов нынешнего столетия оказался вызванным не только грамотной критикой и университетскими коллоквиумами. Маркиз являлся суровым, скептическим философом из пьесы Питера Вейса «Марат-Сад», полное название которой включает пояснение: «Преследование и убийство Марата, исполненное заключенными лечебницы для душевнобольных в Шарантоне при режиссуре маркиза де Сада». Ее поставили и сыграли с большим мастерством в то время, когда были в моде дискуссии на политические темы, в то время как само содержание драмы – конфликт между политическим идеализмом Марата и более проницательным цинизмом Сада – вызывало интерес в среде театралов среднего класса.
Не обошли вниманием и тех, кто относился к маркизу с меньшей требовательностью. Для них в 1969 году «Американ Интернешнл Филмз» выпустила ленту «Де Сад», яркое вызывающее полотно, демонстрирующее достаточно много обнаженной плоти, но почти ничего общего не имеющего с действительной жизнью маркиза. «Де Сад, этот длинноволосый хлыщ с плетью, стал теперь киномаркизом в картине, в основе которой лежит эротоман восемнадцатого века и его замысловатые развлечения», – комментировал обозреватель «Плейбоя».
Экранизация романов Сада представляла трудности как в плане цензуры, так и в плане правдоподобия, добиться которого было еще труднее. «Жюстина» Джесса Франко 1968 года с Клаусом Кински в роли Сада, Роминой Пауэр в роли Жюстины и Джеком Палансом в роли Антонена, почти ничего общего не имела с духом романа.
«Философия в будуаре» Жака Скандалари (1970) снята, как утверждали ее создатели, по мотивам садовской книги. Однако чрезмерное увлечение раскрашенными телами, плетьми и девочками в кожаных штанах создало атмосферу, характерную исключительно для двадцатого века. Наиболее значимой попыткой отдать дань должного Саду стала картина Пазолини «Сало: 120 дней», в которой сюжет романа маркиза развивается в недолговечной марионеточной республике Муссолини в Сало, на берегу озера Гарда в 1944 году. Жестокости фашизма сочетались с фрагментами из садовского повествования. Следует сказать, фильм мог бы спокойно обойтись и без ссылок на маркиза, а некоторые наиболее эксцентричные сексуальные сцены, вместо чувство драматизма, просто вызывали у зрителей смех.
Сколько-нибудь серьезные попытки перенести дух Сада на экран как будто прекратились. Его слава опустилась до уровня серийной видеопродукции «Де Сад» и одиночных лент типа «Господин Сад», составляющих предмет торговли парижских секс-шопов и простой эксплуатации его имени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































