Текст книги "Батюшки мои"
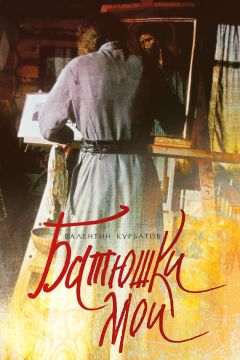
Автор книги: Валентин Курбатов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
…Он знает античную и европейскую мысль, знает, что Евангелия написаны после Платона и Сократа, после «Лисистраты» и «Лягушек», после Сафо и Катулла, но сердцем и духом так же знает, что все Евангелия – «до», ибо написаны в вечности, и теперь уже навсегда все Сафо и Катуллы, все Сократы и Аристофаны будут потом, после, и Церковь усыновит их.
– Сократа и Платона не зря писали в притворах православных храмов, потому что они прообразовывали Христа, были крайним пределом, до которого может дойти мысль в самостоятельном, дохристовом смысле.
…Вы хлопочете о своем религиозно-философском обществе, другие о славянском, историческом – кто о чем. А по мне, надо бы объединяться только в литургическую полноту, а уж она своим великим единством скажет больше хотя бы и очень правильных слов и светских объединений, ибо содержит все. Вот и думаю, что, может, ваше общество и хорошо, а все-таки разумнее истратить силы на то, чтобы вызволить еще один храм и постараться вдохнуть в него настоящую первоначальную жизнь без тщеславий и честолюбий владык. И ненароком, почти шутя, но с настоящей горечью: «Господи, как я не люблю попов и монахов. Да – и монахов!»
5 мая 1989
Приехали в восемь утра. Зашли в Успенский храм. Отошла ранняя. Пахнет нечистой бедностью, старым тряпьем. Клирос бедно, как-то изношенно поет праздничное «Христос воскресе» к Причастию вместо будничного «Тело Христово приимите». Ребятишки идут от Причастия. Самый малый сует ковшик ладоней под благословение служившему батюшке и, поцеловав крест, бежит за просфорой. Тут они садятся под Богородичный образ и уминают эти просфоры, не замечая, что их задевают, поталкивают прикладывающиеся к образу и не замечающие детей старухи. Но, Господи, как скудны лица этих старух! Совсем другое христианство, чем где-нибудь в московском Воскресении Словущем, и им действительно не нужны заставленные киотами фрески XVI столетия. Старухи стояли тут всегда, отражаясь в стекле привычно темных образов, и «новшество», хотя бы такое старое, как фрески XVI века, только ожесточает их душу.
Когда я сказал об этих «разных верах», Владимир (из бывших вгиковцев) вспомнил, как один питерский батюшка говорил, что «платочницы» всегда не любили «шляпниц» (бабушки, которые носят на службе платочки, – бабушек, которые носят шляпки) и считали, что «платочная» вера «крепше шляпошной», хотя питерские «шляпницы» свою веру вы́носили в блокаду и по лагерям и ссылкам, часто устремляясь туда за сосланными архиереями.
Вечером мы собираемся в Тарарыгиной башне. Приходит игумен Таврион и ворчит: «Подлинно – спускаясь в преисподняя земли», потому что лестница срублена вертикально в наше узилище без окон с трехметровыми стенами.
Я вспоминаю желание Валентина Григорьевича Распутина приехать причаститься без исповеди – трудно ему пока преодолеть этот порог, как и всем нам в первые лета. Батюшки затевают короткий совет: возможно ли? Таврион вспоминает, как часто на исповедях особенно женщины говорят, что не грешны ни единой мыслью. Вот его родная сестра в Костроме долго не могла понять, что унесло его в монастырь. А он и не объяснял, пока беда не довела ее до понимания самостоятельно.
– Все, говорит, заглядывала в Евангелие, которое ты оставил, но все откладывала – чужое все и непонятное. Пока не случилась операция у дочки и не заболел муж. Открыла после беготни по больницам, и как огнем ожгло: это же про меня. Поглядела, как надо молиться. «Отче наш» выучила, и, что ни попрошу, все мне дается. И, помнишь, ты меня раньше спрашивал про грехи, а я говорила: да откуда, что вот, мол, я и в автобусе никого локтем не отодвигала, а все, мол, только меня? А теперь только начни перечислять – и на день хватит, и назавтра останется…Так что, может, и у Распутина не сразу.
А отец Зинон вспомнил из своих знакомых владыку Серапиона, который сравнивал исповедь с омовением, а причастие – с трапезой. Бывает, говорил, когда крестьянин придет с поля и если не поест, то и умыться не сможет. Вот, может, и у Распутина так: причастится, и, глядишь, душа откроется покаянию, потому что без него ни в отдельной душе, ни в стране ничего не переменится.
Скоро своротили на свое – как возвратить красоту в Церковь и что есть полнота красоты.
Отец Зинон:
– Все эти смешанные хоры, эти боги отцы на иконах, эти картины вместо образов так всё и будут оставлять на своих местах.
Отец Таврион:
– А как же вот, например, с отцом Иоанном? У него своя красота – умилительная, с цветочками. Да и другие ведь молятся и радуются.
Отец Зинон:
– Да чему молятся-то? Вон наш благочинный Александр каждый вечер прикладывается к какому-то толстому младенцу на стене. Для него это Спаситель. И Богородицы – как девки в деревне. Какая это вера и во что? И чему она научит? Поэтому у нас все так и съехало, что каждый сам себе Типикон, каждый выбирает, что ему по сердцу. Александр мне говорит: ты как благословляешь? Я показываю – вот, двоеперстием. Он прямо в крик: когда бы я знал, я бы епитрахиль скинул и бежал из алтаря. Ну ладно. Я для него переучился. А показываю ему в соборных постановлениях запрещение изображать Бога Отца – не глядит и слушать не хочет. «Народ привык». Так мало ли к чему народ привык!
Отец Таврион:
– Не согласен. Надо ведь по немощи человека помогать ему, попонятнее делать догматы-то, апостольское слово проще переводить, чтобы к каждому шло. Так и в изображениях – так человеку роднее.
Отец Зинон:
– Так вот и дошли: человеку, человеку, а надо бы наоборот – Богу! Богу! Не вниз надо, а вверх, а это труда требует. От всех. И от меня, и от бабушек. А мы – себе одно христианство, им другое. Без требования ничего путного не вырастет.
Тут же вспоминает мальчишек в церкви, всех знает по именам: это Пашка, это Ванька следом за дьяконом «Верую» дирижирует, ко мне десять раз на дню бегает, а вырастет – и в храм не затащишь.
Игумен Таврион рассказывает, как приезжал кандидат перед выборами голоса набирать.
– Горбунов, кажется. Поговорил, волнуется, спрашивает нас – чего надо. Ну, мы ему все: и про то, как детей воспитывать, и как храмы открывать. Потом спрашиваем: сам-то крещеный? Крещеный, говорит, и крестик золотой есть. А детей не крестил. Нельзя, член партии. Да и почитать негде про это. Библии нет. Тут Евлампий к нему подошел, дергает его за рукав: «В храм надо ходить! В храм! И детей водить. И людей звать. А то не выберем тебя, и делай что хочешь». Потом подарили ему Библию и проводили. Он уходил и все удивлялся, что мы говорим совсем как люди и у нас все понятнее и проще, чем было на его собраниях. Беда с людьми – до чего довели кандидата.
Когда архимандрит и игумен уходят, из тьмы возникают два Георгия, потом Владимир, Кликуша кричит сверху «Христос Воскресе!» – и спор о вере кипит еще жестче, и он тут, во тьме (свечи нагорели и меркнут), кажется удивительно уместен и подлинен. И Кликуша все сетует, что ему трудно канонарить на шестой глас и хорошо, если бы его на Светлой седмице пропустили, потому что все равно ведь надо один глас пропустить – гласов на седмицу восемь. А ему шестой низок, и Тихон нарочно дает ему низкий, чтобы его, Кликушу, оконфузить. (Тихон был упомянут и отцом Таврионом: «Такие выбирает песнопения – опера, да и только, и не знаешь, куда глаза девать, как в дискотеке. Я хоть в знаменном пении и не понимаю, но когда пономарь один ведет «Да исправится молитва моя», то я стою как на небе. Он ведь и должен вести один, а у нас смешанным хором заведут, и это как-то во вред и не по правилу.)
6 мая 1989
С утра прохладно, но прислонишься к стене кельи и уже чувствуешь, что она потеплела от поднимающегося солнца. Заря алеет сильно и чуть глухо, сипловато, как наш плачущий по великому игумену Корнилию надтреснутый колокол, но без тревоги. Зяблики поют, скворцы, черемуха облаком встает в овраге, сквозь набирающие силу клены. Бабушки уже сходятся к Успенскому храму, зябко и мелко крестятся – и скорее в тепло. Еще особенно тихо, и очень слышны шаги, покашливания, словно двор собирает звуки. Подходит батюшка, посмеивается над моей бессонницей в Тарарыгиной башне – «туда раньше на исправление и покаяние посылали».
– Ну, мне это как раз и надо.
Ударяют к литургии, и кажется, вишня в саду именно от звона медленно роняет цвет. Галки было взнимаются, но потом садятся и спокойно слушают радостный трезвон. У нас уже умолкли и уже отец Иоанн возглашает «Благословенно Царство!», а за оградой у Сорока мучеников еще звонят – весело, переливчато, по-народному, как частушки отрывают. Часы у них отстали или хотят порадоваться своему звону без помехи монастырского.
Отец Иоанн служит высоко и отчетливо, с какой-то любовной каллиграфией. Недавний послушник отца Зинона Алеша – теперь уже отец Амвросий – дьяконствует первые разы и на «Верую» и на «Отче наш» еще не смеет поднять глаз на молящихся, дирижируя невпопад, сбивая общее пение. Выходит иеродьякон Стефан, подправляет уверенно, и храм разом собирается. И как хорошо уже перед крестом весь собор запел «Воскресения день, и просветимся торжеством!». Какие молодые чистые голоса, а ведь больше старухи поют. И невозможной любовью мгновенно вспыхивает сердце, когда слышишь «и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением…». Так чудесно легко на душе, как давно не было. Всего миг, но как ясно слышна в этот миг вечность радости, догадка, что, может быть, ТАМ, если душа светла, – всегда так.
Днем уж как-то и не по-весеннему тепло. Весело посвистывает на солнышке самовар. Батюшка разливает чай. Отец Иоанн пришел, Саша, Володя, Ваня из близких и первых помощников. Сверстники, они всегда посмеиваются над балагуром Кликушей, а он рад и подыгрывает всем, пугая, что вот затеет свой скит, запрется там, замолчит и они еще настоятся на коленях: «Скажи хоть словечко, а я ни гу-гу». Отец Зинон только качает головой и улыбается и тоже радуется дню: «Отца Серафима вывозил вчера, по солнышку поездили, а то уж у него и коляска заржавела. Колокола послушал, поплакал. Я ему пластинки со службой принес. Послушал, сетует: «Это уж очень… Мне бы попроще, наше бы, братское…»
Батюшка задумывается, забывает стол, и это ушедшее лицо кажется таинственно наполненным, будто душа его видит в этот час что-то неведомо значительное. Он, может быть, просто отдыхал до вечерней службы, и как раз и мыслей особенных не было, но именно оставленное без определенной заботы лицо и сказало свое главное содержание. Мы-то без присмотра себя оставим, так там такое начертится, что и в зеркале себя не узнаешь – пустыня.
20 мая 1989
Собрался в монастырь Всеволод Петрович Смирнов (архитектор, реставратор, кузнец, восстанавливавший монастырь вместе с покойным настоятелем архимандритом Алипием). Ну и я не утерпел.
Батюшка выносит в корзине совенка.
– Мать поди выбросила – не прокормить. Знает, что у нас не пропадет. Когда Амвросий поднимал его, так мать, говорит, глядела.
Совенок глядит с человеческой терпеливой внимательностью, как дети, – прямо и спокойно.
Говорили в саду о том и о сем – о будущих кованых паникадилах и лампадофорах, о «карманах» над сёмочкинскими закомарами (поставил уже Александр Сёмочкин на Святой горе храм Всех Печерских святых, до крыши довел), куда будет набиваться снег, о водостоках, которые надо бы выносить подальше. А яблони доцветали и от порывов ветра летели молодым снегом. Напоминала вдруг о себе криком сова, которую я не слышал тут и ночью, – то ли звала своего совенка, то ли нам говорила, чтобы не забывали ее дитя.
21 мая 1989
А сегодня я приехал в монастырь с писателем Володей Личутиным. Говорят, он уже пишет свой «Раскол». Естественно, что на службе вечером ему все интересно, и он вертится, стараясь понять все сразу.
А я, забыв о нем, был внезапно потрясен, когда отец Иоанн Крестьянкин вывел на литии весь строй русских молитвенников со всею интонационной каллиграфией его, Иоаннова, служения: «…всея России чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов Радонежских, святых благоверных князей Александра Невскаго, Димитрия Донскаго, Серафима Саровскаго, Нила Сорскаго, Никандра Псковскаго…» – и с каждым новым именем они незримо и явственно вставали вокруг. И я вдруг почувствовал близкие слезы, но обрадовался им до того, как они пролились, и, по обыкновению, погубил чувство удовольствием размышления. Но это краткое восстание российских святых раздвигало храм до пределов России, и опять можно было забыть значение слов «одиночество» и «сиротство». Опять это было из тех дорогих крох, которые, слава Богу, собираются понемногу в моем бедном духовном опыте.
К вечеру потянулся откуда-то дым, все засинело, воздух стал горчить. Солнце садилось медленно и зеленую крышу батюшкиной мастерской наливало той же красной медью, что и храм Сёмочкина, словно они ревниво переглядывались и оспаривали старшинство. Заснул поздно и проспал начало ранней.
22 мая 1989
Пришел уж на Апостола. Храм и так тесный, а сегодня Никола. В этот день и в просторных-то соборах яблоку негде упасть, а тут уже и на паперти не протолкнуться! Чуть дотянулся до порога. Батюшка служит с удивительной мистической полнотой, и иногда я остро чувствую, что мы стоим в разных храмах и мне в его двери пока нет, а он в мой позабыл дорогу (да и бывал ли в моем-то?) и, может быть, и не видит меня здесь. Но он-то открыт, его-то храм сияет, и мне путь ясен, и самому надо выбирать, идти или не идти, – на таких порогах уже не спускаются, чтобы вести за руку, – тут час последней свободы выбора.
В Никольском начинается акафист святителю Николаю, а в соседнем Корнильевском (дверь меж ними открыта, и в проеме толпится народ) – панихида, и «Радуйся, красото…» мешается в хорах с «Со святыми упокой…». Можно было бы сказать, «как в жизни», но вчера я прочитал у японцев: «Стократ благородней тот, кто при вспышке молнии не скажет: вот наша жизнь!» – и не скажу, а только, устыдясь ординарности мысли, все-таки подумаю.
Совсем тут не городские прихожане. Там ведь отошла служба – и домой, а тут они почти живут, удобно и основательно. И вот уж насколько я нечасто бываю здесь, а непременно застану по-хозяйски располагающуюся в храме цыганку в сверкающих обручах на плечах и таких же браслетах на обеих руках. Кофта непременно украшена всеми значками из иконной лавки, а юбка – как алое знамя, и убрана по подолу ниткой белых бус. Старая уже цыганка. Сверстницы непременно не утерпят пустить вслед: «Вырядилась, стыда нет…» А она будто и не слышит, головы не повернет, легко и упруго кладет поклоны у близких душе икон, будто с благодарностью обходит зрителей после танца. Батюшка потом: «А это Неонила, знаю – оттуда-то с Украины. Она часто тут».
Или выйдешь из храма, а тут нищий на обрубленных по колени ногах, и он на этих обрубках как-то ходит, кричит наверх старому монаху за стойкой иконной лавки: «Ладно, давай какой есть!» – «А нитку-то дать?» – «Не надо. У меня ведь свой-то крест на мне. Это я не себе, а вдруг придется ночевать в некрещеном доме – поднесу». И, веселый, радующийся утру, волочится к храму встречать выходящий народ и, как должное, принимать милостыню – с шутками и непременным сказанным кстати словцом. Тоже ведь Россия, и Россия старинно-надежная, умеющая духовно пустое время мимо ушей пропустить.
После обеда пришел отец Таврион, и Володя тотчас взял его в оборот: как монахи приветствуют друг друга, каков чин пострижения – и как-то между делом обмолвился, что не крещен. И тут уж мы взяли его в оборот. Отец Таврион тут же припомнил несколько притч к случаю, одна из которых показалась мне особенно хороша: о художнике, который в понимании красоты от портрета постепенно взошел к иконе. Чем более он глядел в лик Христа, тем отчетливее видел, что тут тайна, что он только у порога, что светит что-то в глубине, а что – не увидишь, будто старые картинки под папиросной бумагой, и бумаги этой поднять нельзя. Ну, тогда ему священник в деревне, куда они заехали со своим московским товарищем, и говорит, что дальше-то можно увидеть только после исповеди и Причастия. И точно: потом живописец этот, сияя, все благодарил священника и все возбужденно говорил, что да, да, увидел. Что уж он там увидел, улыбается отец Таврион, не знаю, но видно было, что увидел.
Но суть-то не в нем, а в его товарище, который тогда тоже пожаловался священнику, что скучно и однообразно жить, что уж перепробовал и йогу, и буддизм, и художество, и в православной церкви настоялся, а – нет. Ну и ему был тот же совет – исповедаться и причаститься. Они вместе с художником в этом деревенском храме и стояли. И утром прозревший-то художник счастливо спрашивает товарища: «Хорошо тебе?» И друг отвечает: хорошо, а сам, как потом вспоминал: не знал, куда глаза девать, потому что нехорошо ему было. И стена алтарная как стояла, так и стоит – не пробиться за нее. И главное, я, говорит, будто чувствую, что и с той стороны кто-то ко мне идет, а стена алтарная – все стена, и такая тоска. Вернулись в Москву, иду, говорит, по Калининскому проспекту по этим архитектурно безобразным «книгам беззакония», а небо синее и дымкой молочной чуть взявшееся, и вдруг как-то само собой сказалось: «Отче наш», и я, говорит, даже остановился от слез. Вдруг понял – Отец его слышит; почувствовал как-то – слышит! И Отец не мой, а именно наш, всех этих людей, которые в машинах и без машин несутся куда-то сломя голову взад и вперед. Сказал и вторую строку – «Да святится Имя Твое!» и еще сильней заплакал. Стыдно, пришлось в подземный переход сойти, чтобы люди не видели. Иду вниз, а сердце будто наверх идет с каждой строкой. Скажи кому – на Калининском проспекте…
В общем, за Володю всё решили. Вечером отец Таврион и крещальную рубаху к отцу Зинону принес, чтобы было в чем завтра в воды войти.
В библиотеке глядел рукописные книги, иллюминированные иногда чуть ли не через страницу. Что за чудо шрифты, скорописи, киноварные буквицы, орнаменты. Стало ясно, что книга должна быть рукописной, что это – молитва и труд, праздник и вера. Кажется, и слово совсем другое, хоть и знаешь наизусть. А попадались и невиданные, вроде канона Ангелу грозному (Иван Васильевич, говорят, сам сложил), где гроза и веселье рядом: «Дай, Ангеле грозный, весело встретить смерть!» И толстые, сытые немецкие Библии с гравированными на полях заказчиками, и учительные греко-латинские.
Отец Зинон отлеживался с больной головой после ранней литургии. Часов в пять встал – говорит, здоровый. Я сходил на величание Кирилла и Мефодия. Когда вернулся, говорили об Аввакуме. На вопрос Володи, как он выглядел, батюшка принес репродукцию образа Кирилла Белозерского работы Дионисия Глушицкого (святой там – малый столбик с большой головой). А потом образ того же святого с фрески Дионисия – эль-грековской, Дионисиевой длины и изящества.
– Вот вам и ответ на вопрос об Аввакуме. Оба эти образа одного святого для Церкви подлинные, а уж для литературы – не знаю, там заботы не наши, не церковные. А кельи вы такой, как в Аввакумовы времена, не найдете, у нас можете не высматривать. Монастырь не тот пошел. Теперь вон и женщин в монастырях полно, а раньше не то что женщины, а и кто из мужчин границу монастыря переступал, там и должен был оставаться. Из любопытства сюда не заглядывали.
23 мая 1989
Проспал и раннюю, и начало поздней. Ночь проворочался, уснул только в начале четвертого и уж как встал, так пустился притворяться работающим. Читал да выписывал разные чудеса из книг.
Батюшка до обеда не выходил.
– У меня гость – отец Арсений из Нового Валаама в Финляндии.
Днем мы с Володей были приглашены на чай. Отец Арсений, молодой, с порога близкий, уважительно рассказывал, как хорошо была проведена эвакуация Валаама перед Финской (все антиминсы, часть посуды, вся библиотека). Вспоминал свою поездку на Афон и смеялся, что теперь там на каждого насельника по зимней и летней келье в любом этаже, а то и весь зимний и летний этаж. В иконных мастерских умерли не только краски в пузырьках с двуглавыми орлами, а, кажется, даже книги и иконы, приготовленные к отправке в Россию.
– В Финляндии Церковь живет за счет того, что при переписи населения в графе «вероисповедание» человек ставит либо «православный», либо «протестант» и так далее. И, соответственно с этим, отчисляет процент дохода, который идет на зарплату, равную и для священника в Хельсинки (произносит имя столицы мягко и, кажется, даже нежно), и в малом деревенском приходе.
Идем в пещеры. Володя застревает в келье Лазаря – примеряет своему будущему Аввакуму вериги, тесноту, камень ложа. Потом долго разбираем в пещерах надписи на керамидах, за которыми лежат в пещерной стене Пушкины, Татищевы, Годуновы, Бутурлины.
Новое и опять сильное для меня и в открытом братском кладбище, и особенно в том закрытом – XV–XVI веков, куда надо вползать, протискиваться, обдирая бока. И там – еще вполне целые с торцов колоды XVII века, постепенно проседающие, перекашиваясь и теряя очертания, в колоды XVI века, пока постепенно все не слипается в однородную массу и наконец не делается прах и тлен – тело земли, комковатое, вздыбленное, еще не обретшее покоя, но уже видно, что совсем немного – и все станет тем же песком, в котором эти пещеры вырыты. «Земля еси и в землю отыдеши» – очень наглядно.
Сходил к вечерне. Уже к закату пришел Кликуша – неузнаваемо тихий. Оказывается, батюшка наложил епитимью – «отлучил» на год «до укрепления ума», и Саша маячит в отведенной ему границе, на сто метров не приближаясь к келье, и ждет, когда батюшка пройдет, чтобы попасть на глаза и поговорить. А батюшка все мимо и все бегом. Наконец Саша не выдерживает и, видя, что батюшка остался в келье один, вприпрыжку несется через «запретную зону» и исчезает за дверью. Возвращается минут через пятнадцать повеселевший: епитимья ограничивается Пятидесятницей, ну а раз сегодня преполовение, то остается двадцать пять дней – терпеть можно. Пострадал за язык – «тайну выдал врагам» по беспечности характера, как смеется Саша. Подходит отец Арсений. Спрашиваю о новом Валааме: сколько там теперь монахов?
– Восемь.
– А сколько было после эвакуации в тридцать девятом?
– Двести.
– Да отчего же так мало осталось?
– Умерли. Они же тогда купили дом и жили по три-четыре человека в келье. Как было думать о новых насельниках? А там умирали да умирали, и как-то уж привыкли не брать. Да и православных в стране, при том что службы по финским храмам не прерывались, делалось все меньше (расчетливый век брал свое) и сейчас – тысяч пятьдесят. И, конечно, монахов на это число надо хотя бы двадцать пять (вот вам и процент, хотя, оказывается, что и всегда-то молитвенников за мир было один на две-три тысячи).
Долго не спали. Володя писал, не думая о завтра. Я читал канон к Причащению. И так почти без сна и перешли к утру.
24 мая 1989
Утро холодное, тусклое. Но видно, что день будет хороший. Звезд уже нет, но еще и света настоящего нет. Полчетвертого выходит из кельи отец Зинон.
– Слышите? Совы сипят. Может, и наш воспитанник там. И соловьи. «Соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада и что эта отрада – в любви». Это ведь Северянин здесь написал. Только про какую это «любовь» в монастырском саду он говорил, это вы у него на Небесах узнаете – там писатели-то, поди, вместе… А вы говорили – соловьев нет. Послушайте, послушайте. Наверно, для вас и стараются. Прохладно – как они там у нас будут? Тулуп возьмите, набросите потом.
Без десяти четыре выходим. У братского корпуса присоединяется отец Таврион. Привратник у нижней башни долго гремит ключом. «Ну, со Христом!»
Поднялись наверх. Луна низкая, огромная, красная. Отец Зинон вспоминает из японцев, что кто-то из них уподоблял ее спилу дерева – похоже. От реки по низине тянется туман. Нигде по избам ни огонька. Коровы лениво провожают нас глазами, не вставая. Соловьи, словно и правда в укор мне, показывают все, что могут.
Отец Таврион счастливо вздыхает:
– «Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил. Блаженни живущии в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя…» – Наклоняется, ведет рукой по траве: – Какая роса холодная. Как они будут…
Приходим на место. Машина питерская уже стоит. Окна в ней запотели, и нас не видят. Иду звать. Приехали Алеша Кузьмин, хороший столяр и плотник, много работавший по монастырям, и те, кто будут креститься с Володей, – Александр и девочка Ксения. Ставим на этюдник, прихваченный вместо престола, свечи, и возжигаем свечи в руках. Лица сразу преображаются от теплого света. Крещаемые босыми становятся на холстинное полотенце.
Батюшка обращается к алтарю неба, леса, зари, которая уже наливается алостью, и высоко, как к заре, поднимая книгу, чтобы лучше было видно мелкий текст последования, начинает чин. Отец Таврион по требнику не то следит, не то укрепляет молитвы своим молчаливым молением. Потом, когда обращают крещаемых к западу для вызова дьяволу («Отрицаешися ли сатаны?»), отец Таврион отдает отцу Зинону свой требник с вставными страницами от руки написанного старого наставления, и отец Зинон читает о том, что сейчас они с воздетыми руками стоят, словно обыскиваемые Ангелами, чтобы не осталось ни единого тайного помысла, и памятуют, что в этот час они составляют «завещание», умирая для старой жизни, и «завещание» это зачтется в День Судный.
Все раздеваются и после освящения воды по одному идут в реку и троекратно погружаются. Девочке страшно, но она хоть и посопротивлявшись немного, но без писка погружается с головой. Потом стоят с гусиной кожей, уже в крещальных рубахах, на холстине и трясутся до самого препоясания и возложения крестов.
Вода шумит под мостом, и все мнится разговор, но, слава Богу, хоть все и идет, сокрытое от деревни только прибрежными кустами, никто не выходит, и обходится без зевак.
Одеваются все торопясь, путаясь в одеждах, возбужденные и веселые, но еще не чувствуют от холода всей полноты совершившегося. Пока все собираются, я раздеваюсь и лезу в реку. Вода так холодна, что я только охаю и скорее на берег – догонять ушедших.
Нагоняю Володю и отцов на подъеме к монастырю. Луны уже нет, и с другой стороны встает такое же низкое алое солнце. Прошу благословения снять всех, и отцы становятся на фоне обители, серьезно и бережно по сторонам от Володи, как Христова стража. Спешим «домой». Подол мантии у отца Зинона намок и грязнится о пашню. Отец Таврион подхватывает край своей одежды и семенит аккуратнее.
Через полчаса идем в Лазаревский храм на службу. Батюшка просит меня попономарить. Вздуваю кадило, выношу свечу, готовлю запивку к Причастию и в волнении сбиваюсь в исповеди, не успеваю как следует пережить свое Причащение. Раздаю просфоры и артос, несу больным отцам. Воздух в палате тяжелый. Один сидит в кровати, другой и головы не может поднять. Помогаю запить обоим, и они радуются: «Артосик!» Пьют мелкими неторопливыми глоточками, чтобы потянуть подольше: «Спаси, Господи!»
Перед отъездом пьем чай с отцами Зиноном и Арсением, и я узнаю от отца Арсения, отчего не приехал к нам на тысячелетие Крещения Вселенский Патриарх Димитрий. Оказывается, был нарушен порядок мест в приглашении: первым был, естественно, Вселенский Патриарх, вторым – Иерусалимский и далее Антиохийский, Александрийский, Московский. А потом наши поставили Грузинского, тогда как по иерархии должен был следовать Сербский. И отказались менять этот местнический порядок, ссылаясь на то, что Грузинский Патриархат старше Сербского. На что резонно было замечено, что он старше и Московского, но Москва остается на пятом месте. Так и не сошлись. И вот, чтобы не поощрять своеволие в дальнейшем, Вселенский Патриарх не приехал, как не приехал и Сербский.
– Сейчас, – закончил отец Арсений, – речь идет о новом Вселенском Соборе. И как там будут решаться живые, мучительные и действительно важные догматические вопросы, если не договорились в малом, – трудно предполагать.
Рассказывает и о порядке богослужения – как они в Финляндии постепенно ушли от одного славянского языка к славянскому и финскому, а теперь уж и к одному финскому. Всего в нескольких приходах по разу в месяц богослужение ведется по-славянски и по разу в месяц – по-гречески.
Володя идет послушать последние батюшкины наставления. И скоро мы, благословившись, уже по полной жаре покидаем монастырь, проходим мимо цепких и уже привычных нищих. Они пропускают нас, потому что уже не по разу взяли и теперь отводят глаза, чтобы нам не чувствовать неловкости…
21 июня 1989
Вчера с Валерием Ивановичем (из старост Троицкого собора он скоро станет старостой нашего, Ивановского собора – Рождества Иоанна Предтечи, за который мы пока бьемся с разным большим и малым светским советским начальством) заглянули в храм Константина и Елены. Еще вчера он был молодежным клубом «Сталкер» со всей символикой таких мест, а сегодня, слава Богу, возвращается понемногу церковная жизнь. Служит отец Владимир Рубчихин (он будет метаться потом в поисках «настоящей строгости» и заглядывать к катакомбникам и «истинно православным», пока не уйдет в Зарубежную Церковь, а в Константине и Елене будет служить брат Валерия Ивановича иеромонах Пантелеимон). Кажется, даже и кладбище обрадовалось и тоже стало потеснее к храму, чтобы слышать молитву.
Пока домой шли, повстречали отца Павла Адельгейма. Он долго с безнадежной светлой улыбкой (бывают и такие) говорил, что стоит на пороге того, чтобы отказаться от недавно переданной Мироносицкой церкви, потому что силы истощаются (батюшка после лагеря «за клевету на советский строй» на протезе, а в церкви не присядешь – служба-то не зря зовется предстоянием), второго священника владыка не дает. Служить почаще нет никакой возможности, а другого способа заработать нет, и, значит, нечего надеяться и на то, что удастся собрать достаточное число денег хотя бы на обустройство отопления к зиме, не говоря уже о необходимости ремонта в обезображенном без службы храме…
…Решили ехать в Печоры поездом, и вроде только уснули, а уж в половине третьего надо вставать. Оказывается, я успел набаловаться – давно не ездил «третьим классом» и забыл, что может быть такая затхлость, бедность, отчего сразу начинает казаться, что не спал уже недели две и время воротилось назад к послевоенной тесноте и общему чувству, что все снялись с мест и едут куда-то, где никто никого не ждет.
В Печорах, пока шли к монастырю, все туман, туман, парна́я мгла. Дорога идет через «тридцатые годы», время эстонской архитектуры (город с двадцать второго года до окончания войны принадлежал Эстонии), и все отдает «буржуазным прошлым» – опрятность и чистота.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































