Текст книги "Батюшки мои"
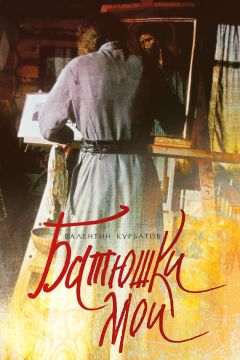
Автор книги: Валентин Курбатов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Лазаревская церковь, где надеялся найти батюшку, закрыта. Пошел в Успенскую. Братия служит молебен Корнилию, потом поет «Царице моя Преблагая» у главного монастырского образа «Успения» и идет прикладываться – по двое сразу с двух сторон: три поклона, ступень к образу, касание губ, поклон образу, поклон братии, поклон друг другу и – к раке Корнилия, уступая новой паре. Потом за бабушками подымаюсь к образу и я и тотчас вспоминаю, что, кажется, в тысяча девятьсот третьем году к нему прикладывался последний царь. Короткий укол этого поцелуя и невнятное, как запотевшее от дыхания облачко на стекле иконы, переживание ускользает, не закрепившись. И образ, и рака тонко пахнут кипарисом, какой-то розовой чистотой – не благоухание, а как будто след его.
Батюшка очень нездоров («в такие погоды вообще не могу встать»), но тут же (седьмой час) идет «пономарить» в Лазаревский храм. Я прихожу в начале девятого сразу к исповеди. Батюшка выслушивает мои недуги и только вздыхает. И едва он читает разрешительную молитву, как я тотчас (именно тотчас!) ободряюсь, словно и не было бессонной ночи, поезда и как будто окончательной усталости. На службе отмечаю чуть подражательную «каллиграфию» отца Ионы (хочет служить, как батюшка) и вижу батюшкину досаду на головную боль, на то, что надо думать и о кадиле, и о свече, и о чтении, и об артосе. Вижу, что его смущает наше слишком веселое пение «Верую», после которого «Отче наш» он просто читает со скрытым укором. По строгости его чтения за всех нас этого «Отче наш» я и улавливаю стыд нашего веселого, смутившего его «Верую». И хоть отмечаю все это, а свет и освобождение в сердце держу и причащаюсь спокойно, не взвинчивая себя, и радуюсь этой простоте, запивая за схимонахами Николаем и Корнилием, за монахом Ананией, которые запивает Причастие, как в хорошее утро с морозу чаек – понемногу и в удовольствие прихлебывая горячее. Служащая при них старуха санитарка бесцеремонно поталкивает их, как детей, чтобы не мешали другим («я вам потом еще принесу»).
Потом, вспомнив Зиноново на наши грехи «Да, да, это уж так… всё одно и тоже, сто раз про одно», я улыбнусь, что прежние-то грехи старых людей разве были грехи? А нынешний прихожанин из своего высшего образования, поди, натащит в исповеди такого интеллектуального добра, что не будешь знать, что сказать, – требники на эти тонкости не рассчитаны.
– Ну, не гордитесь. А каково было в Оптиной Амвросию, когда Леонтьев привернет к обители, или Лев Николаевич у порога станет ноги вытирать, или Достоевский. А вот хватало простого ума на всех, потому что не умом, а любовью все разрешалось, и вперед ею будет разрешаться.
…У звонницы издалека улыбается веселый прощеный Саша: «Еще и до Троицы простил».
В келье ждут американцы из Джорданвилля, наспех рассказывают страшные вещи о сатанистах, масонских храмах и вперемешку – о Германе Аляскинском, о Серафиме Роузе. Саша и отец Иона в меру сил поддерживают разговор, но общим он не становится. Отец Зинон сидит через силу и не слышит вопросов. Видно, ему действительно очень плохо.
Мы с Валерием Ивановичем определяемся на ночлег в Благовещенской башне, и скоро уже поднимается к нам отец Амвросий: «Батюшка обедом благословил». К вечеру спускаемся под пенье, теньканье, трескотню, карканье, пересвист всего монастырского птичьего мира.
Батюшка пьет чай с дьяконом Романом из Троице-Сергиевой обители, извлекает «утешение» имени Всеволода Петровича Смирнова.
Я сетую на Палладия и его «Лавсаик», на то, как соперничали отцы в благочестии.
– Нет, то были не соревнователи в дурном смысле, как вам показалось, а богатыри духа, герои, которых мы уже и представить не можем. Помните этого бегущего от дракона монаха? Он бежит не потому, что страшно, а потому, что бежит его собеседник. Монаху-то не страшно, а бесстрашие может оказаться ловушкой тщеславия, и это он не от дракона, а от этой ловушки бежит. А мы? Одни немощи. Вон смеются на крыльце. И так с приездом отца Романа весь день. Молодые! А мне бы покой, но как прогонишь? Не поверят моему гневу. Я уже пытался – смотришь, обратно потихоньку тянутся. Ну, вот скажите, этому что надо? Как ему скажешь? (В проеме двери бритый мальчик, собирающийся в армию.) Занят я! Занят! Завтра приходи. Вот горе-то! Ну вот смотрите – стоит! Ты что, не слышал?
А со двора действительно смех, голоса, хотя ворота монастыря уже закрыты, и иеромонах Аристарх туча тучей ходит по дорожке сада. Ему тяжело все происходящее, и нет сил остановить, и нет сил собраться с душой.
22 июня 1989
Окна в башне светлеют, и их беспереплетный простор вызывает в воображении корабль. Небо зыбко, как толща океана за иллюминатором нашего косо рубленного «наутилуса», у которого два угла сносны, а третий откровенно тупой, при четвертом – отчетливо остром. Звезд нет, и мне приходится увидеть их во сне – такие близкие и ясные, что хоть Валерия Ивановича буди, но я уже догадываюсь, что они во сне.
Не слышал часов звонницы только в час и два. Остальные провожал, дивясь, как долго от одного до другого. Спустились. Утро уже жаркое. Из кельи отца Зинона вышел дьякон Роман с ограждающим лицом: «Кто такие?» Скоро с таким же лицом будет выходить на всякий шорох на крыльце Валерий Иванович, ограждая покой батюшки.
А сейчас нам уж только проститься. Выходим через хоздвор. Мужики кладут поленницы, косуля (откуда?) нетерпеливо высовывается из своей загородки, глядя на трех играющих котят. Баба кричит на коров. Крепкие старики катят тележку с кислородными баллонами. Лица у стариков вполне литературные – откуда-нибудь из Помяловского, Писемского или Мельникова. Во всяком случае, таковы они в храме – ладные, обстоятельные, добротные, карпы сысоичи, спиридоны титычи. Одно слово – хозяева. Нам бы такие лица с летами нажить. Да уж куда…
21 июля 1989
Приехал к обеду. Встретил меня живущий тут второе лето московский мальчишка Витька. У батюшки заботы. Я заикаюсь, что мог бы помочь с почтой.
– Давайте-давайте. Только отвечать нужно по-английски.
Гляжу, а конверты-то в большинстве и правда «басурманские». Оставалось только сказать «кхм-кхм» и стушеваться.
Пошел обустраивать жилье в родной уже Благовещенской башне. Скоро и Витька прилетел звать пить чай. Сад стоит в лесу подпорок – каждая ветвь обременена каким-то уж просто пугающим урожаем. Цветы буйствуют так, что на них тревожно смотреть – как-то это все вперебор. За столом новые люди. Я только что видел их, входя в монастырь, и невольно подумал, что православные лица так родственны, что хочется поклониться, – будто где-то недавно видел или был дружен да забыл. И вот, пожалуйста, они тут, у отца Зинона.
…В начале восьмого становимся на вечерню. Часовня тесна всем, и даже от трех свечей душновато. Сначала Ваня открывает окно, потом дверь. Я уж за долгие годы в Церкви только-только сумел догадаться, что служба – это не полуневольная дань Богу, чтобы потом поскорее вернуться к своим делам, а именно главное дело и есть, именно единственно полное человеческое дело на земле, и стою без устали, и радуюсь слитности, и не могу насмотреться на отца Зинона, который в короткой мантии поверх серой рабочей рясы как-то особенно светло и легко чист, бесплотен. Вон Иван рядом стоит – литой, спело сбитый, шея колонной из воротника под черную крутую скобку волос – чистый Кирибеевич. Володя, несмотря на подрясник, насквозь москвич: очки, домашняя небрежность и даже здесь чуть ироническая свобода. Отец Иона строг, прям, чуть подчеркнуто серьезен – есть в этой опрятной ответственности что-то сродное молодым сельским учителям прошлого века. А батюшка давно где-то та-а-а-м, чего словом не обозначишь, и там у него светло и небесно. В природе этих состояний нет, в обычной жизни тоже – вот и не знаешь, чему уподобить.
Это мелькало мне в отце Николае с острова Залита, которого теперь все по Руси знают благодаря фильму «Храм». Но там еще легкая чистая старость, свет возраста и духа. А тут видно, что возраст-то и ни при чем, что они в чем-то более существенном с отцом Николаем братья и сверстники. Батюшка читает канон к Причащению, и я со страхом отступаю в себя.
Ухожу в башню, пытаюсь читать, пытаюсь уснуть – ни то ни другое не выходит. Сон наваливается за полчаса до того, как надо вставать к утрене. Бьет два, сторож Антоний стучит колотушкой (вероятно, той, что стучали еще в осьмнадцатом веке), звезда чуть рябит в правое окно, а когда встаю – в левое над лампадой глядит луна, и поле под ней таинственно и тускло – старая желтая медь хлебов и пыль дороги. Выхожу со свечой. Шорохи и трески. Свет свечи вязнет в слепой тьме башни, и снизу дышит жутью. Я боюсь и заглядывать в нижний этаж, в каменный его мешок. Но, ребячески испытывая себя, спускаюсь и, чуть коснувшись пола, пулей вылетаю обратно. Дверь гремит за мной так, что кажется, перебудит весь монастырь.
Звезды высоко, мелкие – зола золой. Пробегает в часовню батюшка. Идут Иван, Володя в своих подрясниках, черные на черном, ночью из ночи, белеет одно лицо. Витька уже горбится на скамеечке в часовне. Без четверти три начинаем утреню.
Часы бьют четыре… пять… Из двери тянет сквозняком, и в поклонах я улавливаю, что на крыльце кто-то молится с нами. В окнах проступает тусклый аквариумный свет. Я гоню от себя зрительное слушание канонов и псалмов, но ум все равно сторожит повод к восхищению: «Сии на колесницах, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем…» Колеблются тени, темный старый Деисус на одной доске поражает скорбью Спасителя и умоляющих за нас Иоанна и Марии, Гавриила и Михаила, Петра и Павла, словно им страшно просить, а Ему почти не по силам простить – великое напряжение скорби о человеке. Свечи нагорают, и иногда тянется рука Володи или Ивана – поправить. Пение собранно и покойно.
Я смотрю на спины родных в этот час людей и вдруг думаю, как странно отсюда на минуту выглянуть в мир забастовок Донбасса и Воркуты, зла Абхазии и Карабаха. Возможно ли? Этот маленький ночной дозор, бодрствующий в небесной работе, пока мир теряет голову, внезапно видится какой-то трагически сильной стороной. Ведь они так каждый день, пока мы там спим или злословим. Корабль давно потерял цель, а они здесь, в корабельной машине, держат все в чистоте и порядке, уверенные, что, пока они бодрствуют, есть надежда. И она есть, есть! Вон как они спокойно и твердо проходят ночь.
В половине шестого Володя говорит: «Ну, а остальные три песни канона к Причащению мы прочтем уже в пещерах. Батюшка уже ушел готовиться к литургии – в полседьмого он ждет».
Витька выходит в теплой куртке, в валенках с галошами. Володя раздает фуфайки, пальто. Мне отыскиваются построенные на волчьем меху сапоги прежнего наместника. Тесновато, но как в печи. Жмут немного. Я не успеваю пожаловаться Валерию Ивановичу, как он посмеивается: «Наместничьи сапоги ему тесноваты… Ну-ну… Подождите владычних». Спускаемся вниз под розанами рисованных на лестнице облаков. Из склада рам и окладов вдруг выступил парадный портрет последнего государя. Успеваю увидеть, что написан он уже в тысяча девятьсот тридцатом году живописцем с фамилией Ульянов. М-да…
В пещерах сразу в свете дальней свечи в конце пещерной улицы видишь клубом пар изо рта. Потом будет все холоднее. Мраморное «Воскресение» алтаря проступает как сон. Володя, Иван, Алеша занимают места «на клиросе» – тут же рядом, касаясь плечами и головой пещерных сводов.
Ровно в семь «Благословенно Царство…». Как и всегда, тайные молитвы на антифонах батюшка читает вслух. И здесь, в катакомбном холоде и зыбкой мгле, каждое слово полнится особенным смыслом и слышится впервые: «Прошения к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоея Истины».
Век к концу (и мой, и общий), а истина все дальше. И пока совершается Жертва, сердце восходит все выше и тревожнее. Батюшка поднимает руки, и Спаситель с так же воздетыми руками словно проступает сквозь него: «Тя убо молю… удовли мя, силою Святаго Твоего Духа, облечена благодатию священства, предстати святей Твоей сей трапезе». И всё тут, тут, перед нами: «Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове покрыв положи…» И так тревожно видеть, как он склоняется над престолом, ограждая и обнимая Пречистое Тело каким-то колыбельно бережным движением. Тут подлинно – Жертва и подлинно клятва: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое, и прибежище мое».
Я опускаюсь на колени и благодарю Бога, что Он позволил мне увидеть это таинство Вечери и Воскресения. Светлое мраморное «Воскресение» реет в кадильном дыме и паре дыхания, и на сердце спокойно и свободно. Нет никакого другого мира и другой правды. Каждое слово подлинно, каждое движение единственно, и каждое желание просто. Это полнота, ничем иным не возмещаемая, и тут еще можно ослабшим и почти омертвевшим нашим сердцем расслышать, как некогда прекрасно и свободно задуман был человек и как он безграничен.
…Выходим все с неясным возбуждением, чуть громче, чем входили, хотя, кажется, никто, да и я сам этого не замечаем. Валерий Иванович догоняет: «Ну, как настоятельские сапоги?» – «Да так и жмут». – «Ну-ну, хотите быть владычицей морскою?»
Опять под розанами рисованных облаков, мимо ульяновского портрета государя – наверх. А уж там вовсю солнце, и мы в своих валенках и фуфайках странны.
Уж собрался было домой, с наехавшим по делам отцом Владимиром Рубчихиным, но сразу не вышло. Отец Зинон сходил к отцу Серафиму. Московский Витька с замкнутым мальчиком, иконописцем Сережей нарезали ведро салата, накрыли в саду и сели за стол. Батюшка и давний его помощник из оставивших свое ремесло вгиковцев спешили в Михайловский собор на репетицию катавасии со сходом, чего обычно тут не практикуют (пока нет наместника, и пока не до того благочинному).
– А то что за наказание: в мужском монастыре девицы заливаются! Ведь в женских монастырях мужских хоров не держат. Надо потихоньку уставлять пение.
– Да уж, – подхватывает отец Владимир, – наши бабы раскричатся, своей тайной молитвы не слыхать.
Тут же отец Владимир и Владимир вгиковский меряются ремнями.
– Это на какой же дырке у тебя ремень? Ну, монасенька, – смеется над товарищем отец Владимир.
– Да это я, – оправдывается послушник, – сейчас для пения отпустил, а так-то вот – смотри! – И оба смеются.
Потом еще сидим перед отъездом в келье. Отец Зинон у печки, ухватившись руками за край скамьи и подавшись вперед, как он всегда сидит, успевает сказать словцо и Витьке («Опять не спишь из упрямства? Подвижник…»), и Валерию Ивановичу («Скоро приеду посмотрю, что у вас там»), и отцу Владимиру про заботы в Константине и Елене («Алтарь делайте самый простой – вот Сережа может несколько икон написать»). А выезжаем уж за полдень.
Хотя и это был еще не окончательный выезд. Заехали к отцу Николаю, изгнанному Гавриилом. В красном углу – государь. И первый образ новомучеников, где в клеймах красноармейцы, кинотеатр «Красный Октябрь» в одном храме и «Пиво» – в другом (клейма, горько похожие на фотографии тех лет), где этапы, мучения и расстрелы, расстрелы… Сам отец Николай, седенький, живой, – всё бегом. За обедом угощает водкой по-старому из графинчика с лимонной корочкой, живо расспрашивает меня о «Литературном Иркутске» (легендарной тогда христианской газете, читаемой всей страной), сетует на раскидистость программы газеты, спрашивает, какие письма Феофана Затворника посылать туда для именно сегодняшней пользы и как бы напечатать там целиком чины исповеди и венчания. Потом торопится поговорить об обществе «Память», о русофобии, о новых канонизациях, и делается даже немного неловко за свое неумение разделить его общественные страсти, которые особенно далеки от сердца после пещерной литургии. Ну, всё, всё, уезжаем…
27 октября 1989
День разгулялся, и в автобусе солнышко все грело и грело бок. Читал диалог Олега Михайлова и Льва Аннинского. Оба правы. Один корит власти, истребившие церкви, другой корит народ, истребивший эти же церкви, готовность народа сделать это после «Чаепитий в Мытищах», после пословиц вроде «Не годится молиться – годится горшки покрывать». И тут правда. Чем-то Церковь досадила народу, раз он так готовно разорил ее.
Крыльцо сёмочкинской церкви раскинуло крыла, и она словно чуть присела.
Батюшка выспросил обо всех наших знакомых, ни на минуту не оставляя работы: «Не выходит у меня Ефрем Сирин. Да, вот такой почти безбородый – нашел на одной чуть читаемой фреске. Одного уже смыл. Это второй». Исподволь стягиваются сумерки, лик меркнет, и он, жалея, что уходит час, а душа еще слышит образ, резко светлит скулы, лоб, и лик сразу свободно и сильно выходит из-под куколя. Потом легко чертит несколько стремительно живых складок мантии, словно не впервые чертит, а обводит уже бывшие или ловит ветер – так естественно подхватываются они мгновенным порывом. Удивительная отвага. Вот и видно, как работается ему в счастливые часы, когда сердце покойно.
– Ох, мне же к отцу Серафиму!
Вспоминаю, что привез показать ему шиловские портреты Тихона и Филарета.
– Привезли? Ну-ка, ну-ка, давайте прямо сейчас. Не может быть. Вот это и есть тот Шилов? Фу! Фу! Как скверно. Лактионов-то на порядок выше. А это… Да это просто трусливо перед натурой и не похоже. Он что, по фотографиям пишет? – И брезгливо двумя пальцами, как жабу, возвращает.
Возвратившись от отца Серафима, ищет для меня чтение:
– Вот поглядите автобиографию Григория Богослова. Теперь ни слога такого, ни людей таких нет. Богатыри духа, полубоги.
– А теперь, – вставляю я, – и захочешь быть полубогом, так прихожане и обстоятельства не дадут.
И он, будто про себя, но с отчетливым указанием моей ошибки:
– А разве этим можно быть или не быть?
И что-то, видно, задело его в моей необдуманной иронической фразе, давно тревожащее, горькое:
– Говорят, что православие не удалось. Какая чушь! Мы потому и живы, что оно держит нас. Православие – это не религия, не один из ее видов, а новое человечество. Небо сведено с землею – какая еще после этого религия?
А потом уже о другом – о конкурсе на храм, посвященный тысячелетию Крещения.
– Показуха опять. И это при том, что нет денег в Толгском монастыре, нет в Оптиной, совсем нет на Валааме, а там работы, работы… Тяжело глядеть.
Я напоминаю один из наших прежних разговоров о Викторе Петровиче Астафьеве, которого я зову сюда, чтобы они узнали друг друга, потому что чувствую, как важно это было бы Виктору Петровичу, который официальной-то Церкви побаивается, а тут, я чувствую, расцвел бы.
– Да и вы бы, батюшка, были утешены живым человеком, а не нашим часто пустым празднословцем, который все себя норовит показать.
– Да уж вот был у меня некто Макаров, который меня для какого-то «Вестника» снимал. Десять дней жил. И так я ему, и этак говорю, что устал, что пора уж ему уйти. Нет, говорит, вот еще музыку послушайте. Встал в Покровском храме на горнем месте и давай мне Генделя играть. Спасибо, спасибо, говорю. А он: «Еще десять минут». Так час и продержал. И так каждый день.
А я говорю, что вот недавно с владыкой посидел за одним столом, так теперь Филарет в трапезной сзади за плечи обнимает. А еще вчера мог и на порог не пустить.
– Это уж так. А для меня наоборот – как уж кто с начальством сел, надо от него подальше.
– Ну-ну, – говорю, – что прикажете делать. Сидел-то на соборе.
Сплю опять плохо, ночью читаю Григория Богослова. Вот уж подлинно: где теперь такие глаголы? Вон как пишет епископу Максиму: «Но что и против кого пишешь ты, пес? Пишешь против человека, которому так же естественно писать, как воде течь и огню гореть. Какое безумие! Какая невежественная дерзость! Коня вызываешь, дорогой мой, померяться с тобой в бегу на равнине, бессильной рукой наносишь раны льву». Пишут ли нынче владыки друг другу такие ревностные письма?
– Общество «Изограф» врет от моего имени, хотя я только и просил их найти себе покровителя в Синоде, без чего их общество ни то ни се. А тут читаю интервью, и в нем определение их достижений: оказывается, теперь можно писать иконы независимо от Церкви, наверно на выставки-продажи. Молодцы, что скажешь! Все одно к одному. Недавно даже приезжал актер, который на студии Довженко будет сниматься в роли Христа. «Раз икону можно писать, отчего сниматься нельзя?» – вот аргумент этого неофита или невера, не знающего начал Церкви. Вот горе-то…
28 октября 1989
Зашел к отцу Тавриону.
– Ангина. Хвораю. Не выхожу никуда. Зато вот новости гляжу. Вон пишут – три тыщи новых храмов открыли, а что-то никто не сообщает, что на Святой Руси нашлось три тысячи богобоязненных людей. Да уж что тысячи, десяток хоть, потому что начало премудрости – страх Господень. А храмы… Что храмы…
Прощаемся, он просит:
– Помолитесь о моем поправлении.
– Молитва-то, – говорю, – у меня слабая, батюшка.
– А это не нам судить. Вот мне старец говорил: живет человек, мается, грехи чашу весов перетягивают. А на другой чаше – молитва его и за него. И все эта чаша никак не одолеет грехов, хотя вроде уж за него все человечество молится. А подошел совсем вроде пустой для веры человек, пробормотал от сердца: «Да помилуй Ты его, Господи!» Какая уж это молитва. А глядишь – чаша-то с молитвой перетянула!
День, начавшийся светло, вдруг как-то сник, обмяк, потускнел. Высокий сильный прут розы с одиноким бутоном странно случаен, словно ошибкой в этом дне.
Подошел отец Зинон по дороге на службу. Разговор свернул на Григория Богослова.
– Нет, нам уже не понять этой меры, как у них: прожил, послужил и с полным пониманием порядка мира принимай венец славы. Разве он тут хвалит себя, описывая эти крики одобрения, плач, с которым его зовут сиротеющие без него прихожане? Ничуть. Вот они, вот я, вот – наше общее. А как про епископов пишет – заслушаешься и поневоле утешишься. Всегда, видно, было одинаково с верой. А Церковь наша невредима и чиста. Повреждено ее общество, люди в ней, вечная слабость наша. Эта пустая нарядность, эти блестки на дьяконских стихарях, этот дикий покрой вместо устойчивых старых форм… Так во всем. А Церковь стоит как стояла, и надо только омыть, о-лице-творить, вернуть лицо.
Опять мне не хочется уезжать – так сродно, спокойно на душе. Галки кричат и косо летят под ветром. Роза у колокольни высится крепко и одиноко.
6 января 1990
Приехал на Рождество. Каково оно тут? Ни разу как-то прежде в эти дни не попадал. Накануне на всенощной увидел, что служит уже иеромонах – не дьякон – Амвросий, недавно рукоположили. И служит, может, по духу-то еще и не очень глубоко, но молодо, радостно, с какой-то счастливой открытостью.
…Умываюсь снегом. Батюшка за стеной гремит дровами, затапливает, и скоро в трубе ровно и сильно гудит. К семи иду в Лазаревский храм. Горят едва две свечи. Отец Иона начинает проскомидию. Сложенный пополам седенький брат Василий (приехал пять лет назад хоронить брата, а возвращаться уж некуда и не к кому – остался) чуть переваливается через порожек, но когда я подхожу помочь ему, он отказывается: «Ничего, ничего, я сам, мне еще приложиться надо» – и как-то дотягивается до уголка аналоя. Потом приводят схимонаха Николая, которому уже девяносто четыре года, и кое-как усаживают. Стул высокий, и ноги старика, как у ребенка, висят над полом. Всю службу он старается перекреститься, заносит руку, но так и не довершает знамения: то ли забывает, то ли уж и сил нет. И все не то поет, не то плачет тем гласом, которым поет клирос. На чтении Евангелия ему помогают встать. Он немного стоит, потом неловко падает поперек стула. Я поднимаю его, держу до конца чтения и с горькой отрадой вижу, что рядом с моей рукой подсовывается и сухая ладошка старика Василия, как будто он кого-то еще способен удержать. Сам как былинка, а вот подпирает сверстника. Глядишь, так вот вдвоем они еще постоят на земле и в храме.
Девушка-реставратор из Петербурга стоит в сторонке прямо, недвижно – чистая нестеровская свеча. Послушник Владимир и молодые рабочие Алексей и Георгий поют знаменным распевом, еще робко и тщательно, только обыкая строгому пению. И отец Иона напряженно слушает их, чтобы держать единство тона в службе, и все это вместе высоко и чисто. К Причастию приходят послушники, помогают Анании, Василию, Николаю, и, расходясь, старики на минуту оживляются: вот Бог сил дал и еще на одну литургию.
Захожу после службы к отцу Зинону.
– А-а, Николай… Он живет уже в другом измерении. Отец Анания обычно перед Причастием приходит просить прощения у отцов. Подходит и к нему: «Прости меня, схимонах Николай!» А тот: «А ты кто?» Анания кричит: «Анания я, Анания!» Отец Николай откуда-то издалека, уже будто и не из нашей жизни, не то узнает, не то вспоминает: «А, Анания…» – но видно, что для него это только какой-то забытый звук из оставленного мира, а Анании никакого нет.
Долго смотрит отец Зинон в «Нашем наследии» репродукции коринской «Руси уходящей»:
– Нет, это был холст обреченный. И не в Павле Дмитриевиче было дело, а в церковном состоянии. Там уже все было повреждено. И не зря он всех их не Церковью, а эстетикой пытался собрать. Но если для Церкви они уже были слишком рассеяны и разорены, то для эстетики еще слишком сильны – не давались. Вот до холста и не дошло.
7 января 1990
Выхожу из кельи в половине первого. Батюшка тоже собрался. Благословляюсь, чтобы были силы для долгой службы. В храме суетно и еще не тесно. Теснота начнется к часу. Выстывший за зиму храм отогреется и вспотеет. Часам к четырем закапает со стен и сводов, к развлечению многочисленных детей. Они будут ловить капли и искать случая отодвинуться, а то и ускользнуть от матери на улицу. К утрени я выйду вдохнуть морозного воздуха и увижу, как они бегают у храма, будто на переменке, и на радостный крик оставленной в храме девочки: «Помазают!» – летят к елеопомазанию. И когда уже под самое утро я выйду на крыльцо еще раз, они все будут тут. Какая-то кроха на паперти готовно предупреждает каждого, кто выбегает из темноты: «Еще „Верую“ не пели». И они опять уносятся к «вертепу» – к высокой снежной пещере у монастырских ворот, где под елкой будет мерцать в свечах образ Рождества и белеть свежевыпеченный агнец, чтобы детям веселее было проходить ночь до утреннего праздничного Причастия.
И вот все нейдет у меня из памяти «Русь уходящая». И все думается – уходящая ли? А вот это-то что? Это радостное служение отца Ионы, этот младенчески светлый Василий, сующий ладошку под слабую спину схимонаха Николая, эта девушка-свеча, эти дети у вертепа, которые, вероятно, и век, и два назад были таковы. Это-то из какого народа и какого дня?
8 января 1990
Тревога ли души, волнение дня, напряженное сердце – не знаю, что причиной, но мне монастырские ночи длинны. Опять часы бьют положенные четверти и половины – и так, по четвертям и половинам, сплошь под звон и галочий стук колотушки отца Антония, и проходит ночь. Встал в пять утра и читал Типикон – главу о видении мальчика, восхищенного Ангелами, когда он услышал: «Свят Бог, Свят Крепкий, Свят Бессмертный», и как уже потом испуганный народ византийский, узнав о чуде, прибавил звательный падеж и покаянное «помилуй нас», и это стало «Трисвятое».
После ранней литургии пришел отец Зинон.
– Вы читали в «Выборе» статью об общине? Ведь это просто утопия… Все вроде верно – нужны братство, чистота избранничества. Но откуда она, эта чистота, взялась в авторе? И что за нетерпимость? Почему надо звать молодых – от шестнадцати до тридцати лет? А остальных и немощных куда? Христос же говорил: «Грядущаго ко Мне не изжену» – всех грядущих, кто еще готов покаяться. И потом, неужели не видно, что первохристианские общины не были так совершенны, как автор их выставляет, иначе бы разве они являли миру такой простой пример братского освободительного единения, такой счастливой правды и силы? Увы, с годами видишь, что слабые в ней не менее необходимы, чем сильные, и на безволии и пороке чище сияет добродетель. Опять в этом сужающем выборе какой-то отчетливый вызов, опять умозрение, из которого торчит социальное сопротивление, и, значит, все это кончится ожесточением. Непременно человек чем-нибудь свою свободу загородит и путь свой затмит. Приезжал тут брат отца Александра, загадывал загадку, которую любили атеисты еще античных времен: если Бог всемогущ, может ли Он создать камень, которого не сможет поднять Сам? Бедные вопрошатели, будто не знают, что Он уже создал его в их лице. Камень этот – человек. Вот Он создал его по всемогуществу, но бессилен перед его свободой. И человек вместо того, чтобы возрастать из меры в меру, обожиться и обожить мир и положить его к ногам Творца, как дар за создание, сам искушается стать Богом. И много успевает, но доходит до вершины в Античности, в великой философии Греции, – и начинает топтаться на месте. И Бог по милосердию Своему сходит к нему и становится им (не человек восходит, а Бог нисходит), и опять впереди даль – на этот раз уж подлинно беспредельная. А человек, вместо того чтобы идти по этому открывшемуся простору, опять топчется на паперти с античными философами.
19 апреля 1990
Собрались в монастырь с Всеволодом Петровичем и художником Толей Елизаровым. Толя, как всегда, несмотря на тесноту машины, носился мыслью высоко, думал о символике огня, о том, что это верхняя ступень перед Богом, что огонь равносущен, чист, не пускает к себе слишком близко, исключает ложное применение (что еще можно проделать с землей и водой). Одним словом – полагает его и путем жертвы, и самой жертвой. И путем к Богу, и Богом. И символом нетварности и т. д. Только слушай.
Домчались за сорок пять минут.
Батюшка сразу затеял угощение с «утешением». Всеволод Петрович пустился в воспоминание процессов очищения золота, батюшка тотчас ответил ему технологией египтян из старых алхимических указателей. Потом Всеволод Петрович пустился богословствовать о спасительности красоты, а Толя – возражать ему на всякое слово. Так и шли дуэтом. Когда Толя заикнулся, что его зовут не то в Японию, не то в Штаты, а он не может, а я вспомнил свою поездку в Дагестан и намекнул, что такие поездки надобны для духа, чтобы он увидел себя в иных платьях и подивился новизне, отец Зинон, посмеиваясь, снял с полки Григория Нисского. «Зачем стараться делать то, что не делает ни блаженным, ни к Царствию Небесному близким?.. Ведь Господь не заповедовал путешествия в Иерусалим как доброго дела… Да и что большего получит тот, кто побывает в этих местах, – точно Господь доселе в них обитает, а от нас удалился, или будто Дух Святой обилует среди иерусалимлян, а к нам не может прийти… Перемена места не приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такова, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить. А если внутренний человек твой полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был и на Голгофе, или на горе Масличной, или под памятником Воскресения, – ты столь же далек от принятия Христа в себя, как тот, кто не исповедует и начала веры…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































