Текст книги "Батюшки мои"
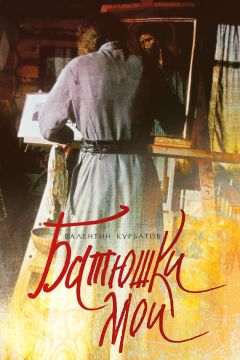
Автор книги: Валентин Курбатов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
16 августа 1990
Как ни покойна батюшкина келья (вспомнил про крыс и не пустил в башню), а сон так и не пришел. Лежал, слушал, как часы на звоннице бьют четверти, половины, часы. Слушал колотушку отца Антония. В три часа ночи вышел – звезды во весь небосвод. Млечный Путь мглится, месяц сверкает – вот где молиться-то…
Идет потихоньку Успенская постная служба. Четверговый апостольский канон Иоанна Дамаскина не дает устать великолепной образной силой почти щегольских антиномий. Не успеваю запомнить – что-то вроде «Бездождием страстей омый душу мою…».
Вышли – уже светло, солнце встает.
– Пошли яблоки собирать, – говорит отец Зинон. (А вчера огурцы собирали: «Вы, поди, и забыли вкус настоящего-то огурца с грядки, и что он родня кактусу, не помните. Вот попробуйте колючки-то…») А в каноне, вы правы, что ни строка – образ. И это замечательное сравнение – «Кони богоизбрании Христовы апостоли, врага потописте мысленнаго…» И это, что вам запомнилось, – «Облацы, иже воду животную одождившии, изсохшую мою душу бездождием страстей божественне напойте…» «Иссохшую – бездождием» – с налету не поймешь. Тут надо самому глазами читать.
Получил письмо от неведомого корреспондента из Питера.
– Посмотрите.
Письмо о модерне, об иконе начала двадцатого века и ее образцах – и не знает ли чего о такой иконе отец Зинон?
– Он тут все больше о стилизации, как будто дело иконы – стилизация под лучшие или худшие образцы. Сам взгляд неверен. И все так глядят – бабушкам надо, чтобы был «как живой», а искусствоведам – чтобы колорит держался безупречно. А икона – она для молитвы.
Вот поглядите: Аверинцев прислал открытку, это с Григория (Круга) репродукция. Ну что это такое? Свой почерк впереди. Да разве тут самость нужна? Разве это гордость, что, положим, иконы Круга от икон Успенского можно отличить? Если они свой канон в иконе хотят утвердить, то пусть уж тогда и молятся своими словами, как в Древней Церкви. Сразу будет видно, сумеют ли они.
…Солнышко уже высоко. Галки кричат. Окно в келье открыто, и осы залетают на яблоки, рассыпанные на столе. Покашливает кто-то внизу, и будто какое-то нищенское пение долетает – какая-то простая мелодия, как «Лазаря» поют или как точильщик «Ножи! Ножницы!» кричит. Надо будет у батюшки спросить (он сейчас там с отцом Серафимом по двору ходит) – что это там? А потом вдруг слышу возглас: «Твоя от Твоих, Тебе приносяща». Это я литургию не узнал. Это, оказывается, наш отец Досифей из владимирского села Кольчугино про прозвищу Иерихонская труба совершает в храме преложение Святых Даров. Окно в храме открыто, и вот из окна в окно и долетело, а как окна-то на одной стене, то пение и искажалось пространством двора.
Днем отец Зинон работает в Покровском храме. Циркулем чертит нимбы, ставя иглу в лик архангела Гавриила или Василия Великого. Киноварью чисто и скоро и, пока подсыхает, проходит охрой рукава Петра, беря тон почти небрежно, словно не смешивает из разных чашек, а готовый берет – так сразу верно держит оттенок…
Привычно краснея и улыбаясь, протискивается Александр.
Отец Зинон с нарочитой грозой:
– Сколько сейчас времени?
– Опоздал, батюшка, на полчаса.
– Где был? Что опоздал?
– Ел, батюшка. Картошку ел.
– Сколько сегодня запивки выпил?
– Один ковшик.
– Чистого вина?
– Разбавил немного. От чистого кагора у меня голова болит.
– А у меня вот тут шоколад был. Кто съел?
– Я, батюшка. Мы разделили.
– Как смел? Ведь шоколад был скоромный!
– Там уже половина была съедена.
– Она была съедена до поста и должна была остаться до Успения. Двести поклонов тебе, чтобы этого в тебе не было.
– Да уж во мне и нет, батюшка.
– Двести поклонов, я сказал, – чтобы знал! Какое сегодня число?
– Второе, память Антония Римлянина.
– Третье сегодня, третье! Чья еще память?
– Исаака Далматского, Фавста…
– Что ты плетешь?
– Батюшка, так в календаре написано.
– Я сегодня утреню служил, канон читал, я не знаю? Пора читать научиться: Исаака, Далмата, Фавста – троих. Где Далматского? Двести поклонов!
Приехала из псковской Троицы матушка Поликсения. Отводит меня: «Батюшке медку привезла. Ему надо медок. Я уж всегда, когда еду, везу».
Решила посмотреть Покровский храм. Я пошел показать дорогу. На пороге обмерла – и за сердце. И слез не может удержать: «Господи! Господи! Красота-то какая! Как это у него… Помоги, помоги ему, Господи. Вот батюшка-то у нас. Вот благодать-то что делает». А слезы текут и текут, и это опять напоминает мне и мое вчерашнее смятение, и я тоже чувствую, что вот-вот и сам не удержусь. А мы тут расфилософствовались – бабушкам не нужно…
А там и Николай Иванович Кормашов опять завернул и тоже все не мог наглядеться на Покровский алтарь:
– Кристалл! В подмалевке – глядите, какая смелость. Это ведь без рисунка, охрой, и даже в самом небрежном штрихе уже полнота пропорций! А вот – глядите-ка на образе-то – это же отец Зинон! (Николай Иванович давно хочет написать потрет отца Зинона и вот кинулся за бумагой, оторвал лист и, торопясь, как из огня выдергивая, сделал набросок с фигуры.) И скуфья, и поворот, и жест – все!
Потом опять впился в Рождество:
– Вот это я и имел в виду, когда говорил о треченто. Там, где у Византии свобода, там уже у критских мастеров только формула, сухой слепок, а тут – сила именно в том русском понимании, когда говорят о сильном человеке, как-то естественно связывая с физической силой чистоту сердца и крепость духа. И в Деисусе как силен Илья! И Богородица – какое чудо, какая печальная прощающая даль – уйдешь за ликом и все забудешь. А Христос – единение и сила, внешняя мощь и внутренняя нежность.
И рассказал об идее создания в крипте таллинского храма Александра Невского – музея иконы и реставрационной мастерской, чтобы и вход свободный, и в случае надобности образ из храма мог поступить тут же на реставрацию и после лечения вернуться на место. Лучший вариант и хранения, и экспонирования икон. Эх, нам бы так.
Выходя, столкнулись с костромским епископом Александром и пюхтицкой матушкой Варварой и картинно познакомились. Картинность исходила от Филарета:
– А это представитель творческой интеллигенции, писатель, – и очень удивился, когда владыка Александр сказал: «А мы знакомы». Как он мог забыть, когда год назад после выставки Селиверстова в Костроме мы по его благословению пришли вечером на чай и Юра не дал владыке рта раскрыть. Так был он радостно вдохновлен выставкой и тем, как внезапно ясна ему стала русская мысль, которой он отдал годы, и все будто было в ней для него порознь, а тут он разом увидел начала и концы и не мог остановиться, чтобы не поделиться с владыкой.
17 августа 1990
…В монастыре нет ни одного кузнечика, хотя трава и вечер так просят их, что они начинают мерещиться. Ни одной лягушки – говорят, не выносят звона. И ночью слушал – тихо. И оттого звезды особенно тихи. Пока шел, спутник торопливо пробежал небо. Пока ждали начала службы – и еще три, и разговор шел, как в «Бежином луге» у детей.
Отец Амвросий по-детски дивился:
– Неужели они там с людьми? Вон к мерцающей звездочке полетели. И чего она так дрожит?
Митрофан Дмитриевич – человек и в отставке военный, любит прямые свидетельства и потому отвечает с военной точностью, как «точно так»:
– Я в одной статье читал, что есть звезды, от которых свет долетает до нас за сто миллиардов световых лет.
Отец Амвросий:
– Я тоже слышал. Говорят, звезда погасла, а свет все идет.
Митрофан Дмитриевич:
– А еще я читал в статье, что американские ученые открыли галактики, где нет ни пространства, ни времени. Вечность. Ни пространства, ни времени.
При этом он как-то особенно пристально смотрит вокруг, как будто только-только увидел это «пространство» и сделал усилие представить, что его нет.
Отец Амвросий помолчал и счастливо вздохнул:
– «Славьте Господа все звезды небесные и все твари земные…»
Митрофан Дмитриевич:
– А я раз с женой видел на Пасху, как крест в небе встал. Солнце играет, играет так весело. Я стоял, жена и соседка. А потом гляжу: так – р-раз луч от солнца вниз, а потом так р-раз поперек! Я кричу: «Крест! Крест!» И жена кричит: «Крест! Крест!» А соседка не видит: «Где крест?» И не видела. А было секунд десять.
Отец Амвросий:
– А в Иерусалиме явление креста было несколько дней.
Митрофан Дмитриевич:
– Когда?
Отец Амвросий:
– Это давно было. Это Церковь прославляет. Несколько дней!
Бьет четыре. Батюшки нет. Вспоминаю тотчас «после четырех у нас ничего не бывает». Туман откуда-то надвигается, закрывает Тарарыгину башню. Острый, золотой от тумана месяц – как прорезь в другое пространство. А звезды вверху еще чисты, хотя и начинают слабеть в предутрии. Кажется, утрени не будет. Вон уже и отец Амвросий ушел потихоньку – ему еще утром братский молебен служить. Батюшки нет. Здоров ли?
– Это отец Амвросий виноват. Разбудил, едва я уснул, и больше уж я и не мог заснуть. А до этого эконому понадобился для беседы с владыкой Александром. О чем можно говорить ночью? А вот о Селиверстове и говорили. И еще спрашивал, не возьмусь ли за реставрацию чудотворной иконы Феодоровской Божьей Матери, главной их святыни. Я было загорелся поехать, а уж теперь остыл – пусть привезут.
За завтраком рассказал еще одну историю об архимандрите Гаврииле. Когда на памяти апостола Тита, из ревностных помощников апостола Павла, наместнику на службе подсунули листок с поминанием: архиепископа Тита, дьякона Тита и дальше уж просто: Тита, Тита, Тита, пока он не прочел в конце «ти-та-та» и в беспомощном гневе под тайные хихиканья братии не остановился.
Разошлись «по работам» – я читать тетрадь митрополита Вениамина тридцать третьего года о его расхождении с митрополитом Платоном и обо всех тамошних расхождениях «зарубежников» и «наших». А отец Зинон занялся надписями на Деисусе. За обедом все подкладывал мне арбуз, приговаривая, что послушание не только полезно, но и спасительно, хотя мне уж впору было лопнуть, и что на моем месте дьякон Роман, поглаживая чрево, обычно приговаривал: «Могий вместити да вместит…»
Часа в четыре начинает исповедь, тратя на каждого из нас минут по пятнадцать, а порой и по получасу. И так тревожно глядеть на закрытую дверь, за которой он исповедует, – подлинно врачебница. Всяк знает, что болен, но словно не ведает настоящей меры опасности болезни – и вот страшится узнать. А окончил исповедь – и уж к отцу Серафиму надо бежать. Всё минута в минуту – не присесть.
Перед вечерней пьем чай. Отец Амвросий бочком заглядывает:
– Батюшка, я у вас видел хлеб. Мне бы немного.
– Вон мешок с сухарями на крыльце.
– Мне бы хлеба, батюшка.
– На, не канючь. Вернешь завтра.
– С процентами?
– Поговори у меня. – Идет в угол, вытаскивает мешок с печеньем, галетами, кукурузными палочками: – На, больше не проси.
– Ой, батюшка, спаси Господи. Тебе сразу куча грехов за это простится.
– Вот видите, кем он меня считает! Куча грехов я для него. Уйди с глаз долой!
18 августа 1990
Слушаю на утрени, как читает кафизму Митрофан Дмитриевич. В глуховатой простоте чтения легко угадать, что сам Митрофан Дмитриевич о тексте не думает, а просто душой верно стоит, а смысл уже сам Бог устрояет (как в молитве митрополит Филарет Московский просил, чтобы Бог в нем Сам молился, потому что он, Филарет, не знает, о чем просить)…
Вот и в Митрофане Дмитриевиче «сам» Бог молился. Я при чтении тех же текстов, не слыша отзыва, только нажимаю на слова, и они так и падают – только словами… И никак не могу понять чуда чтения отца Зинона – этой бесстрастной полноты, когда слово звучит самой чистотой внутренних смыслов, без всякого человеческого участия.
На каноне бедный Александр подхватывает мелодию ирмосов, но половину слов глотает, и сама интонация спит. Никак, видно, себя разбудить не может (встать все-таки полтретьего пришлось, а он еще вечером плакался: «Как же я встану, батюшка, я и так через день к ранней встаю. Ну ладно – потом за литургией высплюсь»). Батюшка только крякнул: «Во монахи… За литургией он выспится…»
И вот слушает его «пение», но терпит и после канона тихо говорит: «Ну ладно, иди-иди, спи!» Александр, даже не обрадовавшись, уходит.
На литургию в пещеры прихожу один раньше всех (тоже старость-то подступает – не разоспишься). И в полной тьме ощупью миную один коридор, другой, пока не забрезжит свеча на жертвеннике – отец Зинон совершает проскомидию. Спокойная, какая-то «рабочая» жертва – вынимает частицы, заглядывает в поминания, тихо читает. Ровно, буднично – подлинно «служба» в старинном понимании спокойно-подробного исполнения обязанностей. На «Святая святым» осмеливаюсь поднять глаза: агнец так беззащитно мал в воздетых руках – белый кирпичик артоса над головой. Что-то детски чистое и явственно святое. Пономарит мальчик Нестор из числа бессчетных батюшкиных летних помощников, радуется стихарю, счастливо оглядывается и никак не успевает вовремя ни кадило подать, ни полотенце, ни свечу вынести. Вся тяжесть службы ложится на Георгия (вот беда, не напишу я этого незаметного и незаменимого человека из батюшкиного окружения, который всегда и везде незаметно на месте), которому надо и читать, и петь со знаменным покоем, и успевать толкнуть Нестора, показав глазами или жестом, что ему и куда нести. Мне выпадает прочесть из канона к Причащению, и я делаю ошибку (три поклона), которая естественна в моем нравственном разоре – прошу о «возвращении добродетели» вместо ее «возращения». Чтобы «возращать», надобно ее сначала иметь, а мне уж только, если Господь даст, – возвратить, если такие дары возможно возвратить.
…Из окна Покровского храма видим, как споро и, как всегда, как-то очень целенаправленно, словно опаздывая «к докладу», бежит по двору отец Нафанаил. Отец Зинон смеется, что среди больных стариков есть отец Мельхиседек, который «врет, как Кликуша», сочиняет без всякой причины – наверно, чтобы украсить однообразную жизнь – разные истории про братию. И чаще всего их героем оказывается отец Нафанаил. «Вчера ночью, – живо рассказывает отец Мельхиседек, – видел, как черти по небу Нафанаила несли, только ряса развевалась, а потом зачем-то бросили. Утром выхожу – навстречу отец Нафанаил весь в бинтах, скуфью не надеть». И нет этого ничего, отец Нафанаил бежит по двору здоровехонек, но отца Мельхиседека уже не переубедишь.
22 ноября 1990
– Видите, как медленно я работаю: только пелена прибавилась на престоле Спасителя да вот «камни» на Евангелии (украшения из драгоценных камней, которыми одевают выносное Евангелие). Так что давайте пока замечания, а то поздно будет. (Это уж у него всегда: «Какие будут замечания?»)
Быстро золотит (серебрит) пелену на престоле:
– Георгий, принесите ржаного хлеба с обеда. Этот высох.
Потом, когда войдет Александр Оборотов, он на него:
– Где хлеб? Почему не принес? Что?
Я защищаю:
– Вы его не просили.
Александр обрадованно:
– Это не я, батюшка, щас принесу!
Когда отец Зинон через пятнадцать минут выглядывает в окно, Александр беспечно точит лясы с отцом Иоасафом у кельи отца Амвросия.
– Алекса-андр! – кричит батюшка с крыльца. И тот пулей летит в трапезную.
– Тут у меня будет серебряная парча. Увидим ли в полумраке? Темновато все-таки. Уж и смотреть некогда. Киношники скоро придут. Посидите со мной – вдвоем будет полегче. Я вот сбегаю к отцу Серафиму, а вы и приходите.
Входят молодые люди, просят благословения.
– Мы сами не были у отца Иоанна, но помогавший нам в сценарии посредник говорил с ним и сказал, что благословение отца Иоанна есть…
И далее они излагают ход мысли, что ромб в «Спасе в силах», мандорла, – есть не что иное, как прообразование Святой Руси, где верхний угол – Соловки, нижний – Новый Афон, справа – Пермь, а пересечение – Дивеево, обитель Серафима Саровского.
Отец Зинон и дослушивать не стал:
– Простите, не верю, что отец Иоанн мог благословить все это. Он в здравом уме.
– Ну, мы не знаем. Но, батюшка, согласитесь, что Дивеево все-таки действительно центр Святой Руси, мистическое сердце, связанное с последним монархом цепью пророчеств.
– Не знаю. Простите меня – не верю я в Святую Русь, в богоизбранный народ. Был один богоизбранный народ – еврейский. Но с той поры, как он сделал то, что сделал, и был за это лишен избранничества, остался один богоизбранный народ – церковный, где несть ни эллина, ни иудея. Но он тоже плохо несет свое избранничество. Почему из всего неисчислимого свода евангелий Церковь избрала только четыре? Что, остальные были подделки, что ли? Нет, в них сходилась полнота. Нам рано судить о полноте пророчеств. А уж монархическая идея (восстановление в России монарха) кажется мне такой же тщетой, как восстановление храма Христа Спасителя. Зачем это? Какой там дух? Мы потеряли простую общину. Загляните в любой приход – там человека три едины, а остальные кто куда. Какая это община? Какая это вера? Вы все хотите симфонии, Константинова согласия Церкви и государства. А было ли оно и там в полноте-то? Вот вы не задумывались, почему до Константина места учения и крестной смерти Христа были в забвении, никто их не навещал? А потому, что не надо было. Человек носил полноту Христа в себе, без туристических подкрасок. Да и Господь не благословлял путешествия к святыням. Не будет симфонии. И не было! Ни в пятнадцатом веке, ни тем более при Николае Александровиче. «Царство Мое не от мира сего». «Се Аз посылаю вы яко агнцы посреде волков». А какие могут быть отношения у овцы с волками?
Я тут пытаюсь вставить, что такое симфоническое царство – есть сама Церковь, но ее труд нам не по силам, и мы предпочитаем спасительные гармонии государственно-церковного послабляющего существования.
– Непременно тут хотим устроиться, – продолжает батюшка, – а какую молитву каждый день читаем? «Да приидет Царствие Твое». А что это значит? Что? Ну? (пытливо смотрит из-под брови). А вот то, что пусть это кончится и будет то – вечное. Ранние христиане так и жили: с постоянной памятью смерти и жертвы и причащались каждый день, чтобы быть готовыми – «агнцы посреде волков».
…Кино не может быть духовно чисто – слишком много машины. И слишком много разных воль его делает. Да и какая сейчас проповедь? Слово опорочено и убито одной вон депутатской трескотней, которая и до нас долетает. А что нужно? А нужно начинать с начала – с Крещения, с понимания Церкви. Раньше человек проходил оглашение, которое длилось от одного года до трех лет, учился пониманию. А теперь – нет. Читайте отца Георгия Флоровского. Там много найдете.
– А мы были у отца Иннокентия Просвирнина, он предварял воспоминания Бориса Зайцева об Афоне. Так он сказал, что место Флоровскому в мусорной корзине, и он его там и держит.
– Ну, тогда что у меня-то спрашивать? Что с корзины возьмешь?
Я тут вспоминаю, что критику на Флоровского писал и Лев Лебедев, что вообще два главных богословских оппонента у нас – Флоровский и Шмеман, кто слышит полноту живой Церкви и ищет ответа. Остается вспомнить французского слависта Андре Мазона, который сопротивлялся подлинности «Слова о полку Игореве», и все его бранили, и защищали на нем докторские. И много защитили. Да здравствуют Мазон и Шмеман! Какие бы без них докторские? И ребят из киногруппы как-то жалко – понимание книжно и через край оптимистично, а цели бедны. Монархия, Владимир Кириллович Романов, Дивеево, пророчества, надежда, что после фильма все прозреют и устремятся к симфонии. Батюшка только вздыхает:
Опять «Третий Рим», «второй Иерусалим», опять кесарь. А в начальной Византии кесарь, желавший креститься, вызывал недоверие – возможно ли вообще такое совмещение? Или – или, или ты христианин, или кесарь. Вот как все запуталось.
Зашел отрок Димитрий, показал батюшке образ Богородицы из Дионисиева чина.
– Вот тут сплавь. Добавь красной охры и плавь.
– В санкирь или в охрение?
– Туда и туда и мелкими мазками тяни.
Когда мальчик вышел: «Из этого толк будет. У Глазунова учился. Сбежал. Теперь с весны здесь. На утреню неопустительно встает, читает уже хорошо и образ слышит».
Боком проносит в дверь пузо отец Аполлинарий.
– Чего тебе? Стой там, не пускай холод.
– Можно церковь моему гостю посмотреть?
– Завтра. Некогда мне.
– Он завтра уезжает.
– Ты чего на меня орешь? Ишь, орет он. Ладно, я спрячусь, веди. Смотри – на минуту, я буду считать до шестидесяти.
Отец Аполлинарий вписался в минуту.
Батюшка выходит из алтаря:
– Вот горе-то. Аполлинария, видно, не зря отец Ириней через два «п» пишет – пузо и пузо. Одихмантьев сын! Отец Тихон спрашивает: что это вино у нас слабое? А он приложится к фляге-то, а потом дольет.
Алеша (кузнец и керамист из соседней с монастырем деревни, а теперь уж и сам батюшка) заделывает окна на зиму и все говорит, говорит: «Все надо уметь, чтобы ничего из человеческих умений не исчезало. Мне нравится у Бажова, как большой мастер умел замечательно камни открывать – малахит, яшму, – и все у него живое. А потом пошел металл осваивать, чтобы самому потом и одевать камни. И ничего у него не выходит. А ему говорят: зачем тебе металл, у тебя для другого руки золотые. А он все-таки возьми и освой металл, да и в угольщики пошел – деревянный уголь жечь. И такое оказалось тонкое дело, что и тут намаялся, а ему рассудительные-то люди опять про камни да металл. А он и в угле добился и так угольщиком и помер, потому что это ремесло надо было крепче всех держать – никто не хотел угольщиком быть. А он понимал, что умение должно жить на земле. Коли уж оно было, оно должно жить».
…После вечерни пошли с батюшкой ставить самовар. Явился отец Иона:
– Совет старцев будут собирать. Говорят, блохи в монастыре появились. Маленькие, говорят, прыгают где-то. Паломники завезли.
– А старцы-то при чем? Баню надо чаще топить. Что это – раз в две недели при такой скученности и труде? Почаще бы.
– Тут, может, умысел наместника – хочет под этим предлогом коров за территорию вывести. Будто они блох переносят, а не больные монастырские коты, которых и в лазарете полно, и в общей келье под наместником.
Зашел и отец Иоасаф:
– Ну, блохи… Они у меня три раза были. Я их книжкой ловил. Читаешь, она – прыг! Ты – бах! И готово!
– Ну ладно, нечего тут к ночи немощи наши вытаскивать. Завтра на утреню полтретьего вставать.
…Звезды чисты и крупны. Снег, когда я подхватываю его, чтобы освежить лицо, тонок и сух. Значит, к утру еще подожмет.
23 ноября 1990
Дерзнул на подвиг не по духу. Решил в «нашей» церковке утрени дождаться. И весь иззяб. В окне мерцает звезда за слюдой, и, когда выдыхаешь, она чуть мутнеет – значит, изо рта пар. Действительно прижало. Зато всласть наслушался боя часов. Полтретьего встаю, затопляю печь. Сразу загудело, ожило все. Приходит Георгий: «Ого! Как холодно. Все вытянуло. Обычно потеплее. Надо идти пальто брать». Отец Амвросий ежится. К трем подходит батюшка. Служит отец Амвросий. Батюшка держится у печки.
После службы он уходит на братский молебен и полунощницу, а я успеваю часик ухватить. Приходит темный:
– Голова что-то сегодня, как уж давно не было. Думал, не достою. Перестал золотой корень пить – обрадовался, и вот. Ставьте самовар. Епископ Игнатий Брянчанинов писал: «Вот старость. Не попьешь чаю – и не помолишься». Ну что, посмотрели копии Адольфа Николаевича Овчинникова? Все знает, а икону писать не умеет. Кириков вон тоже восемь лет Троицу копировал, всю до трещинки воспроизвел, а молиться перед этой иконой нельзя – немая. Другая была задача. А уж богословствовать Адольф Николаевич начнет – затыкайте уши и бегите. Еретик!
Днем зашел к отцу наместнику. Отдал ему хорошую фотографию, сделанную Виктором Ахломовым при поставлении Патриарха Алексия. Отец наместник был на Соборе.
– Вы знаете, тогда это меня поразило. Вот только что он был равным среди равных за президиумным столом членов Синода, но объявили об избрании, он сказал положенную формулу о страхе и ответственности, – и митрополита не стало, стал Патриарх. Словно даже как-то зримо поднялся над всеми, оставаясь в ряду, – такое было короткое страшное чувство присутствия благодати. Хотя обычно благодать не ищет наглядного проявления. Помню, читал об одном миссионере, как он не мог вовремя приехать к больному и просил с оказией, чтобы больной не умирал, что вот он освободится и приедет. А приехал только через три дня, и правда – тот дождался, причастился и тут на руках у миссионера и умер. И у меня уж вот было: недавно часов в двенадцать прибежали – старый прихожанин помирает. А у меня, как на грех, отцы устали, и как кто за язык дернул: пусть потерпит до утра. Утром отправил отца Сергия. Тот сходил, причастил – и больной тоже у него тут же и умер. Мне отчего-то стало страшно, и я вспомнил, как прежний настоятель, отец Алипий, когда ему говорили о его, Алипиевой, прозорливости, отвечал: «Кому прозорливость дается по благодати, а кому по должности». Вот и мне, видать, по должности…
24 ноября 1990
Ночевал в Покровском храме. Колотушки перекликаются: дятловая дробь нижней (отец Алексий (Нордквист)) и тотчас эхом – пореже и поосновательней отец Антоний на горе.
На утрени был развлечен. То глядел на образ Спасителя и дивился: не примерещилось ли мне, что вчера рядом был написан пророк Исайя, или батюшка успел смыть его; то не мог удержать улыбки при чтении Александра с остановками где попало (хоть посредине слова), с жутким спотыканием, но громко и настойчиво. Сам вздохнет, остановится: «О Господи!» – опять как через лес пробивается. Батюшка только машет рукой и улыбается в конце: «Уйди, грамотей! Не выспался?»
Иду исповедаться, и опять не унять тревоги при словах «Се чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое…» Поневоле сожмешься. На ранней служит в Успенском отец Адриан. Полслова не разобрать. Косноязычно, но в отличие от Александра с покойной уверенностью: кому надо, поймет и услышит.
В келье уже шумит самовар. Заглядывает Александр.
– Ну что, спал? Откуда идешь?
– Полежал, батюшка.
– Чаю хочешь? Больше ничего нет.
– Ну, давай. – И тут же Александр вспоминает, как они с товарищем «уходили» пятьдесят бутылок коньяку в месяц: «Астма у меня. Мне коньяк полезен».
– Видите, какие у нас больные. Келарь не напасется. Пропьют монастырь. Тихон с ними уже не справляется. Мне вот определил. Вот уж на утреню сам встает. Подвижник.
Идем в Покровский. И опять, как впервые глядя на рождающийся иконостас, я вспоминаю, как обычно на долгой утрене в деревянном храме светает вместе с утром царственный уже завершенный Спас. Принимая его спокойный, благословляющий, крепящий душу взгляд, все чаще ловлю себя на, может быть, неверной, но почему-то неотступной мысли, что у нас слишком долго писали икону как «Господи, помилуй!» (ложное это было смирение или подлинное – это уже зависело от чистоты и высоты духа иконописца), а тут впервые икона пишется как «Господи, слава Тебе!». Как радостная благодарность, как рвущееся из глубины сердца: «И хвально, и прославлено имя Твое во веки!»
Отец Зинон поддерживает:
– Ранние христиане именно с радостью бросали все для Бога, как беспризорники, нашедшие отца. А мы уж и в литургии разучились радоваться и перестали понимать ее как непрестанное благодарение. Мимо лавки шли – как там? Убрал наместник софринские картинки? Говорили мы с ним: монастырь старый – отсюда надо везти настоящее. Хотя свои же и будут против. Первый – отец Иоанн, который все твердит, что нечего нового искать, а поглядеть Церковь перед падением семнадцатого года и взять там замечательные образцы. Он на них воспитывался – вот для него и образцы. Хотя сам смешно рассказывал про какого-то епископа своей молодости, который с гневом и смехом передавал, что на одном из его приходов на Николу в акафисте бабушки пели: «Радуйся, Николае, великий Чудотворчик» – и отстаивали, что они к такому Николе привыкли и не уступят. Вот он и сам привык.
И опять о России, об Иване Ильине и о горьком предчувствии, что Церковь опять останется пуста, как была, потому что нынешнее опьянение кончится уровнем иконной лавки. Насытит «рынок», и опять прежнее безволие и уютные тупики.
Перед отъездом захожу проститься в «наш» храм на горе.
– Какая работа? Краски не сохнут! И давно затопили, а вот что-то не греется – то руки надо греть, то ноги. – Стучит сапогами и все глядит, глядит на образ: – Не знаю вот, прав ли, выписав в Спасе, в предстоящих пророках их предуказания, словесный образ Спасителя. Давайте замечания, а то поздно будет.
Стучит на крыльце отец Таврион: «Молитвами святых отец…»
– Подпишите, батюшка, постановление собора…
– Может, палец приложить? Все равно рука озябла – такая же клякса будет.
Дрова разгораются, печь гудит жарко, изразцы то потрескивают, а то и просто звонко лопаются. Заметно теплеет.
– Вот теперь бы работать, так уж надо к отцу Серафиму бежать, в трапезную идти, там к наместнику – и свет ушел. Опять день мимо. Господи! Господи!
Надо уезжать, и опять грустно, будто только приехал и опять не насмотрелся, как медленно «оглашается» храм, как светлеет и готовится к Крещению. Скорее, скорее бы…
7 января 1991. Рождество Христово
Вчера отстоял всенощную в Никольской Любятовской церкви, и утром хорошо было ехать в монастырь с каким-то домашним чувством…
Монастырь для половины девятого неожиданно темен. Мелькнул свет в братском корпусе у отца Тавриона и погас. Намаялись батюшки на всенощном бдении – отдыхают. Навстречу отец Амвросий – за водой идет.
– А-а, ну с праздником! А батюшка сегодня позднюю служит в Успенском.
Ну, и, слава Богу, значит, как раз исповедуюсь и причащусь. Батюшка посмеивается: «На утро одних немощных определили служить – отца Адриана, отца Феодосия и меня, грешного».
Служба идет с деревенской бедностью. Бабы поют в хоре громко и нестройно, старухи ругаются, дети кричат, воет какая-то «пациентка» отца Адриана. Но в общем все ровно, непразднично. Отец Ириней начал читать Патриаршее послание, прервался, попросил убрать ребенка – «читать мешает, пищит тут над ухом». Опять стал читать, и опять сбился, и уже не шутя напустился на бедную женщину: «Ходят тут, читать не дают, не будьте такими».
Насилу унялся, но уже чтение испортил и довел кое-как. После Причастия он еще вышел прочесть послание нашего владыки и совсем запутался (батюшка смеется, что еще при первом чтении вчера отец Ириней сердился: «Бердяевы какие-то, больно умно, я не пойму, а бабки… – и половину пропустил – все равно не поймут»).
После службы разговелись судачьей ухой, и батюшка стал петь под фисгармонию «ирмосы и подобны» знаменного распева.
– Вот выучите – будем петь литургию Василия Великого, я ее буду служить четырнадцатого в пещерном храме. В три раза длиннее обычной, – радостно предчувствует он. – У нас ее обычно почти так же ведут – глазами читают тайно, а если возьмешься как следует, то как раз и выйдет в три раза дольше. А если еще знаменное пение…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































