Текст книги "Батюшки мои"
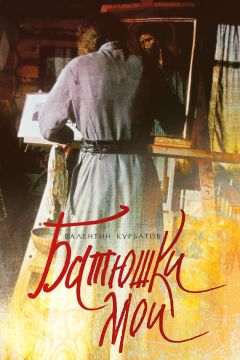
Автор книги: Валентин Курбатов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Толя иронически поглядел на меня. И слава Богу, все родные вокруг: отец Иоасаф, которого я, все сбиваясь, порой зову Саша (а уж вот и он не Кликуша, и не Саша, а иеромонах Иоасаф), Иван, Александр Оборотов (все время краснеющий мальчик со слишком вольной походкой, которому батюшка издалека: «Ты чего так ходишь? Чего руками размахался? Вот горе-то. В монахи он собрался…»). Вечером прошу встречи у отца наместника. Говорю о насущности религиозно-философского общества, о необходимости кельи для отца Зинона – сам он не скажет, а у него проходной двор.
– О, тут все сложно. Мы понимаем его значение. Из Канады зовут, из Франции, из Японии вот пришло приглашение с обещанием оплатить всю работу в конвертируемой валюте. И валюта нужна – котел вон у нас худой, на строительство нужны материалы. Но решили воздержаться – тем более и сам отец Зинон против. Пусть наше закончит: Покровский храм, свой деревянный. Этим мы с владыкой и отговаривались, когда Патриархия нацеливалась подзаработать валюты. Сами решили нажать на идею иконописного лицея. Вон поляна за Пачковкой пустует: выпросим, обустроим, сделаем скит – и работайте на здоровье. И отцу Зинону будет спокойнее, и нам, а то братия сетует, что у нас два монастыря – нижний и Святогорский, и между ними ревность. Так что будем думать о келье в скиту. А на Запад пока не пустим. Они ребята хитрые – знают, что сегодня дадут за образ Зинона десять тысяч, а завтра возьмут сто. Пусть лучше у нас в храме будут эти вечные работы, чем по галереям их рассовывать. А с котлом мы как-нибудь вывернемся.
К ночи мечутся летучие мыши, как обрывки безмолвия. Выходит отец Амвросий:
– А скоро вылетят совы, полно их тут стало. Слетятся с десяток вот на этот дуб и кричат. Страшно. Услышите.
Но я вместо сов слушаю запись митрополита Антония и засыпаю ненадолго, но хорошо, без снов.
20 апреля 1990
Встаю к ранней в Успенском храме. Служба чистая и бедная, постная по пению, но какая-то мирная и родная душе. Хотел исповедаться, но поглядел, как отец Досифей накидывает епитрахиль, не слушая («Ну что у тебя? Ну давай. Ладно. „Аз, недостойный иерей…“), не стал подходить. Хотя, верно, он столько слышал «куриных человеческих грехов», как звал их один из героев Замятина, что уж и по лицу читал, что ему сейчас начнут пересказывать грехи невестки да золовки…
Днем у кельи сидят Иван, Иоасаф, Георгий. Смеются своему. Отец Иоасаф жалуется:
– Попало от наместника на крестном ходе, уже на Успенской площади. Поручи я развязал (к концу дело), а он подозвал: «Ты чего хулиганишь?» – «В каком смысле?» – «Он еще спрашивает. Кто раздевается посреди площади?» Эх, если бы я раньше догадался сказать, что поруч сам развязался, – вот бы я поглядел на него. Это он на меня за «послушли́в» сердит. Я ударил на службе «послу́шлив», а он настойчиво поправляет – «послушли́в», хотя все знают, что он сам недавно так же ударял, пока не подсказали. И «вонмем» вместо меня кричал, как будто мы забыли, как он вчера на литургии хватил «Благословен Бог наш». Ему мигают: «Благословенно Царство», а он и не видит. Хорошо еще, отец Марк загородил. Еще «Слава Тебе, Боже наш» не пели, а уж отец Марк: «Рцем вси от всея души и всего помышления нашего». Архидьякон Стефан ему страшное лицо, а он свое – отключился. Вот и ему наместник навесил. Всем попало. Особенно отцу Аполлинарию. Высунул ненароком пузо с белым пятном на подряснике, о стену задел (а как иначе – не пролезает!) – вот и ему, чтобы обитель не порочил, десяток поклонов после Пятидесятницы. И Тихон в подражание Гавриле поклонами сорит. Петру вон просфорнику (а он у нас как Ваня комплекцией) чуть чего: «Три поклона!» – а тот в ноги ему: «Только не это, батюшка, не согнусь».
Кинулись в обсуждение еды. Тут Иван с Кликушей соревнуются. И каждый клянется завтра начать «голодовать». Саша-Иоасаф смеется, что раз он неделю «голодовал».
– Светлый стал, всех люблю, хоть в пример братии иди, но тут стали одни пироги сниться – и бросил свою святость.
Да и Иван попался с полными карманами просфор – он «голодовал» только два дня.
– Не учит нас «дядя». (Вы знаете, что Гаврилу звали «шеф», а этого «дядя»? Как-то не идет к ним «наместник».) Вон владыка никогда не забудет поучить. Входит – сам с порога говорит: «Все кланяемся владыке», – не позабудешься. Уходит – «ре-си-соль» дает: «Споем владыке „Многая лета“». (А ведь как вдумаешься, то и увидишь, что владыка действительно спасает забывчивую братию, которая еще недавно «с улицы» и может не ведать обряда встречи владыки и прощания с ним.)
Отец Амвросий щиплет лучину для самовара, по-детски счастливый, светится весь и смеется, смеется над белым пузом Аполлинария.
Звонят по полчаса кряду. Мы сидим прямо под колоколами. Закроешь глаза и видишь, как гранятся небеса на длинные сверкающие лазурные куски и слышен в звоне гром июльской грозы, льдистый звон половодья, кузнечная веселая работа над крепким оружием – и, может быть, и сеча этим самым оружием: лихое, удалое, радостное дело – вся Россия до небес в едином порыве. Молодой нарядный петушок пытается запеть, не слышит себя за звоном, сбивается и, конфузясь, глядит – не видел ли кто…
Вечером после службы пьем чай, идет мимо двери Иван, бормочет: «Опять обожрался!» Батюшка ему: «Иди-ка сюда. Как ремень носишь? Ох, нет на тебя Гаврилы».
– Нет, батюшка. Может, при нем я бы так не носил. Он чуть чего сразу на конюшню или в коровник. А все-таки что ни говорите, а единоначалие во всяком случае было. Как он нас без бани до Успения оставил, хотя до Успения еще больше месяца было. Тогда истопник трубку телефонную снял, топить ушел, а положить забыл. А у наместника звон беспрерывный! Ударил в большой колокол, выгнал всех ночью, кто в кальсонах, кто в чем: «Кто трубку оставил?» Молчим (хотя уж знали). «Ну, раз так – без бани до Успения». Как не полюбит, только держись. Бывало, увидит Елеазара: «Как дела, маэстро?» – уж очень за грассирование не любил. Тот закартавит: «Пгекгасно, отец наместник». Словно для того и спрашивал, чтобы эту картавость подчеркнуть. А отец Елеазар в жару без штанов ходил – толстый был, тяжело ему. Ну и идет так по двору меж экскурсантов седой, солидный – одно слово, архимандрит, а отец наместник ему вдруг подрясник-то палкой фр-р-р! – вверх: «Опять без штанов, бесстыдник, ходишь?» Тут отец Елеазар принародно и сгорел. Один Кликуша против него всегда спокойно стоял. Тот пушит почем зря, а Сашка улыбается, и хоть бы что (и сам, говорит, всегда удивлялся: чего это не страшно?). И потом уж наместник отступился от Сашки. Только все говорил: «Попомните мое слово. Все вы разбежитесь, а этот наркоман останется». А Досифея – видно, за одинаковую их грубость голоса – не то что любил, а в архимандриты произвел. А уж сегодняшний отец Павел с владыкой обратно его понизили – больно безгласен и по́том все пахнет, а владыка все твердит, что монах должен пахнуть чистым бельем и кипарисом. Какой из Досифея кипарис! Вот и загремел…
Батюшка попросил рыбы. Иван полетел. Вернулся с ободранным локтем.
– Упал. Все. Пусть отец Тихон как хочет. На почту не пойду. Пусть другое послушание мне ищет. А то там бабы одни. Он что, не понимает, кого посылать, а кого нет? Слава Тебе, Господи, вот рука завтра распухнет, посинеет – и не пойду. Все во славу Божию, хотя это меня Бог наказал за злословие о наместнике. Прости, отец наместник.
После исповеди выхожу. Холодно уже. Мнется отец Аполлинарий. Вышел отец Амвросий:
– Не боишься, отец Аполлинарий? Щас тебя батюшка поразнесет. Это тебе не поклоны за белое пузо.
Отец Аполлинарий с тремя зубами в разных местах вздыхает:
– Да уж. И какие поклоны, когда Светлая седмица? Нет, этот у нас долго не устоит – они, даниловские, в епископы идут. Вот и репетирует.
Появляется на пороге батюшка. Отец Аполлинарий к нему. И, как обещал отец Амвросий, батюшка в гнев:
– Вон! Вон! И слушать тебя не хочу. И говорить с тобой не буду. Ты матом ругался. Монашек…
Так под крик отца Зинона мы и уходим с отцом Ионой поговорить о дне, о Светлой седмице, о завтрашней службе, пока не выходят звезды.
21 апреля 1990
В шесть зашел в мастерскую Митрофан Дмитриевич (бывший военный из Тулы, врачующий отца Зинона травами), принес сапоги и тулуп. Пошли на службу в пещеры. Георгий шел впереди, пел «Христос Воскресе!», и было отчетливо, что он пел всем лежащим здесь песнь Воскресения, пел тихонько, но твердо – для них. Отец Иона вынимал частицы бережно и так же, как отец Георгий, – «адресно» и твердо: «во имя…» Митрофан Дмитриевич прочел синодик близких погребенных из братии – каждая частица с памятью. Провели литургию с одним поющим вгиковцем Володей, изредка помогая ему в «Христос Воскресе». И, только причастились, где-то тоненько зазвенело, как эхо: «Хри-стос Воскре-се». Бабушка шла где-то улицами пещер. Потом их набилось сразу много. Володя только успел шепнуть Георгию: «Убери просфоры. Щас все сметут». И точно – они враз подобрали и артос, и запивку и только потом пошли кланяться отцу Савве. («Савваитки, – досадливо поморщился отец Иона. – Какая гордыня: он ведь обещал, что будет окормлять их и после смерти, – вот они и бегают»).
Поднялись наверх. Солнышко, зяблики поют. Теплынь. Скоро зазвонили. Володя посетовал: «Уже устали за Пасху. Сейчас еще ничего – только часа два и звонили, а в первые два дня, кажется, только два часа и не звонили».
Скоро батюшка пришел в белом подряснике и греческой скуфейке, похожий скорей на бердичевского раввина, а там и Амвросий в такой же плоской круглой скуфье – этот вышел вылитый турок. Привыкнешь к одному виду, так другой сразу все меняет. Иван уже смеется: «Эх, надо бы по руке-то молотком шибануть. Не распухла. Придется на почту идти». А там уж и отец Иоасаф с миской. Батюшка смеется: «Рыбьи головы несет». Отец Иоасаф обмирает: «Прозорливец! Как узнал?» Поднимает крышку – точно. «Чутье у меня. Я их люблю и, как Петр Петрович Петух у Гоголя – осетра в пироге, за версту чувствую».
Они уходят наверх, пристраиваются на пенек и весело поплевывают костями. Снимаю «на карточку». Отец Иоасаф:
– Давайте, давайте, смиряйте нас – вот, мол, какое нынче в монастыре «умное делание»… А коли писать надумаете, то и Митрофана Дмитриевича, и Ваньку за компанию вставьте – нечего им тут отдельно стоять. И про меня – про головы не обязательно, а что Кликуша – можно. И как батюшка отца Амвросия гоняет, напишите. Ох, батюшка, сделаешь ты его святым при таких подвигах смирения.
– Ничего. Пускай становится. Ну чего встал (это уже отцу Амвросию). Уже святой, что ли? Иди чай завари.
– Английского?
– Китайского.
11 мая 1990
В келью бочком с порога протискивается послушник Александр. Докладывает:
– Сегодня по старому календарю двадцать восьмое апреля. День семинадесять апостолов, Керкиры-девы (послушание вырабатывает привычку жить строго по церковному календарю).
– Стой, стой! Каких семнадцати апостолов?
– Семинадесять…
– Так семнадцати или семидесяти?
– Семинадесять…
– Вот бестолковый! «Семинадесять» – это только семнадцать, а не семьдесят. Ну ладно. И каких?
– Керкиры-девы… и… – Александр сбивается и умолкает.
– Вот видите! У него Керкира-дева – апостол. Вот горе-то! Иди учись. Пробе́гал вчера. Где был?
– В лес ходил. Птицы поют, щавель собирал. Дьякона видел. С палкой шел, как игумен.
– Ладно-ладно, иди. «Семинадесять»!
4 июля 1990
Приехал поздновато. Батюшка с отцом Тихоном сидят у кельи.
– Не знаю, к кому и под благословение подходить.
Отец Зинон, кивая на отца Тихона:
– А вот к начальству, к начальству.
Спрашиваю, не замучили ли монастырь киношники.
Отец Тихон:
– Да уж… Один вроде ничего. Документальный фильм хотят про нас сделать. А другие явились с художественным – про афганца и его несчастную любовь, в конце они оба кончают с собой. А все свидания у них в монастыре – во какая нам реклама.
Скоро уходит. Батюшка поднимается:
– Пойдем, гостя вам представлю.
А в келье-то отец Виктор Мамонтов! (Мы были с ним сто лет назад молодые литературные критики, и в Переделкине на одном из семинаров с ним особенно любили поговорить Екатерина Виноградская, Лиля Брик и Мариэтта Шагинян, потому что он был специалист по началу века. Потом я потерял его из виду, а уж когда нашел, он был игуменом и служил в Латвии.) Сидит над сундуками и чемоданами.
– Вот Кликуша наш клад нашел. Архивы монастырские. Взгляните-ка.
Гляжу, папки сорок первого – сорок девятого годов, время, когда монастырь более всего бесчестили. Братии было тридцать пять человек. Несколько эстонцев из сету. (Сету – православные эстонцы. – В. К.) Игумены Парфений, потом Павел (Горшков). Павла более всего и срамил главный монастырский хулитель семидесятых лет – писатель Геннадий Геродник. А у Павла всех просьб к гебитскомиссару в Пскове за все годы – дозволить братии купить снетков или иной рыбки на посты. Больше ничего. Судя по ведомостям келаря и эконома, жизнь была проста и бедна. Хороший пример нынешней ослабившейся иноческой жизни.
Устроился в «своей» Благовещенской башне, почитал и спустился к чаю. Отец Виктор почти не переменил позы:
– Вот самый-то дорогой материал – письма, дневники, проповеди, записки митрополита Вениамина (Федченкова), который лежит здесь под нами, в пещере. На покое здесь был.
Я вспомнил рукопись владыки Вениамина из монастырской библиотеки – о его детстве, юности, начале служения, о Белой армии, о Врангеле, с которым он уходил в Константинополь. Кидаюсь перебирать папки. Нахожу рукопись с именем «Хорошие люди» и тотчас зачитываюсь – так это важно именно сейчас. Владыка говорит, что литература, по выражению Гоголя, слишком часто «припрягает подлеца» и редко пишет хорошего человека. А писал-то это владыка в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, когда до настоящей черноты в литературе было еще как до небес. Сейчас бы кто написал книжку с именем «Хорошие люди».
После вечерни сталкиваюсь с игуменом Тихоном. Разговорились. Спрашиваю о проблемах, которые важно было бы помянуть в новой газете «День и ночь», которую издатели решили начать с рассказа о монастырских заботах. Отец Тихон называет нерациональность нового хозяйствования при большой скученности построек, неуправляемую котельную, из-за которой приходится отказываться от отопления зимнего Михайловского собора (от этого храм «потеет» зимой, и может кончиться тем, что полетит штукатурка – не дай Бог на молящихся). Потом обрывает перечисление и дает дельный совет: не вмешиваться.
– Пусть газета сформулирует сама, чего хочет. Не подкидывайте им. А мы с наместником поглядим, да и откажем в статье-то – помощи не будет, а напрасных хлопот и от кино хватает.
Подходит отец Александр и с порога сетует, что отстоявшая Россию от татар в святой бескровности Владимирская икона Божьей Матери сослана в музей и что это преступление перед душой народа. Я развиваю его мысль рассказом о празднике иконы Любятовской Божьей Матери и о том, как бабушки идут под уже нечудотворный образ, потому что настоящая Заступница в той же Третьяковке. А там замелькали в беседе «Аргументы и факты», телевидение, прогнозы, «улица» за оградой замелькала, и мы попрощались с отцом Александром – этого добра и за монастырской оградой довольно. А отец Тихон еще сетует на новых верующих, которым умствование подавай вместо духовной работы. И хорошо сказал: «Когда, положим, человеку позарез надо ехать, он бежит на станцию и не спрашивает, чисты ли вагоны, все ли люкс, а берет и едет в общем – в тесноте, да не в обиде. А нынче непременно укорит: и храм аляповат, и священник не умен, и дьякон гугнив, – ну, значит, никуда ему «ехать» и не надо.
Прибежал батюшка. Пошли чай пить. Пришел и Кликуша (не помню – говорил ли, что прозвище это дано было ему за заполошность). Похвалился, что приехал его отец и что раньше он только говорил: ты свою пропаганду оставь, сам молись, а я жизнь прожил, мне уж меняться было бы смешно, а тут прямо с порога похвалился, что из партии вышел! Саша (все никак не привыкну, что он отец Иоасаф, да и сам он еще больше оглядывается на «Сашу») тут же и рассказал, как нашел архив.
– Гляжу, у отца Серафима в горе, под крышей, где-то в совсем уже неположенном месте, на самом верху, свалены дрова. И не добрался бы, если бы не мое обычное любопытство. Полез, раскидал эти смущающие дрова, там – чемоданы. Ахнул про себя: «Все, попал в тайну! Искушение! Не сокровища ли?» Откинул крышку – там бумаги, вторую – бумаги, третью – бумаги. Ну, может, хоть карта Острова сокровищ. Нет – «Входящие», «Исходящие», «Записки епископа». Только вздохнул – искушение. С досады забросил на место и опять завалил дровами. Потом уж сказал наместнику – не прореагировал, отцу Феодосию (библиотекарь, сменивший отца Тавриона) – «как-нибудь посмотрю». А я потом еще заглядывал и прочитал там, как владыка Вениамин «сорокоуст» служил, сорок литургий перед тем, как решить окончательно, ехать ли ему в Россию. Пишет, что все решил сон, в котором он увидел, как в нашей обители идут два крестных хода: один внутри, другой – вне стен. И в том, что вне нет крестов, одни иконы, а у нас и кресты, и иконы.
– Как же, – говорю, – отец Нафанаил выпустил из внимания эти сокровища?
– А может, он и забыл, – отзывается отец Зинон. – У него вон сколько нор и каморок во всем монастыре. Обходит к ночи, гремя ключами. В пещерах я его часто видел. Поневоле подумаешь, что золото в гробах прячет. Он ведь у нас из войск НКВД, как и дьякон Антоний, – они народ, на сон крепкий.
Не знаю, как отец Нафанаил, а Антония я вижу часто – и служит постоянно, и в саду косит, и подрезает, поливает без устали, и ночью его колотушка весело стучит каждый час, едва умолкнет последний удар часов. Потом Георгий жаловался: только разоспишься, а он у кельи ка-а-ак даст – чистый пулемет, и сон как рукой снимет. Хорошо для смирения – больше помолишься.
5 июля 1990
Всю ночь воевал с крысами. Вначале подумал – птицы на кровле. Ан нет – рядом на полу. Глянул, а тень на полу нюхает. Хватил ботинком. С визгом в угол и вниз клубком. Да их несколько. И так уж и не уснул, потому что через несколько минут, чуть стихнешь, – опять. И как долго не светало…
Небо пасмурное. Чуть дождался половины пятого. Почитал канон ко Причащению – и в Никольский на исповедь к батюшке. Исповедал в алтаре. Как раз с Антонием и служил. Встал в уголке. Старик рядом: «Тут монах стоит, но, может, еще не придет». Но когда монах пришел, меня оставил – ладно, поместимся. И я вместе с ним пропел всю службу. Потом батюшка сетовал: «Ну и хор у нас!» Я заступился: «А что? Хор, по-моему, хороший. Во всяком случае, мне показалось, что я хорошо пел». Батюшка смилостивился: «Впрочем, я, когда молюсь, не слышу его». Так жаловались женщины из хора у отца Виктора. Спросят его: «Ну, как мы пели сегодня?» А он – я молился, не слышал.
Опять заглянул после Причастия в Корнильевский храм. Старухи, дети, калеки. Бедная, еще не расправившаяся после сна утренняя толпа при царском мерцании киноварей и ультрамаринов иконостаса.
Днем ходили в Покровский. Зинон забелил все свои «разведывательные» фрески и в алтаре и на стенах, и храм засиял чистотой пропорций и чудной ясностью форм.
– Вот эти формы и жалко. Поэтому поставлю иконы и допишу их здесь, на месте, чтобы целое слышать. Наместник обязывает к Покрову. Вокруг пущу только орнамент. Пусть уж они после меня забивают храм, чем хотят, а я сдам, как сам вижу. Я уже махнул рукой на свои желания: все равно они сделают по-своему. Михайловский храм так и отказались переделывать – им памятники нужны, а не церкви. И отец Феодосий – он по образованию архитектор – тоже против… И Сёмочкин. Я уж боюсь говорить о Борисе Степановиче Скобельцыне и бабушках. Разве для смирения такие храмы хороши: опустил глаза в пол, чтобы не видеть, и молись. Ничего не вышло и с открытием фресок в Успенском храме, о которых Савва Ямщиков все хлопочет. А я все простосердечно думал, что сегодня, при увядании слова, при умирании искусства слышания Евангелия и дара проповеди, особенно обостряется значение изобразительного наставничества, возрастает сила образа.
Пока пили чай, наладился дождь. Отец Виктор уезжал, когда он уже разошелся как следует, и потом шел весь день, так что на вечерне в сёмочкинском храме вдруг застучал по целлофану, постланному на пол на время работ, и надо было нести царские врата в алтарь.
Батюшка смущенно взглянул на меня – капает, – словно извиняясь за архитектора и переживая неловкость оттого, что тот узнает и будет переживать. И как бы и передо мной испытывая неловкость, что вот труд моего товарища не устоял и мы это оба видим. И даже еще как будто и тот оттенок, что это наша тайна, которую надо бы утаить от Сёмочкина или так сказать, чтобы она была не болезненна.
Отслужили и повечерие. Читал Витька.
– Сколько поклонов, батюшка?
– Девять.
– Значит, всего три ошибки, а я думал, будет тридцать. (Это у них условие – Витька за каждую ошибку в Шестопсалмии кладет три поклона.)
Я устраиваюсь спать в храме – тем более что до утрени осталось четыре часа.
6 июля 1990
Полчетвертого вошел Георгий. Пора умываться. Дождь перестал. Туман. Светится окошко у отца Амвросия. Зажигаем свечи. Ждем. Не идут.
– Наверно, у батюшки голова болит. Он ведь почти не спит. Ну, подождем до четырех.
Я иду к звоннице. Окошко у отца Амвросия погасло. Бьет четыре. Тут же с гульбища деревянная очередь колотушки отца Антония – не спит сторож. Пробил фонарем с гульбища коридор света на звонницу: кто там? Ходит, постукивает палкой, бормочет.
– Ну что, – говорит Георгий, – пойдемте досыпать. После четырех у нас ничего не бывает.
Утром батюшка кается: «Проспал до пяти. И будильник не разбудил. Вот горе-то».
А мы и рады – слава Богу, хоть раз выспался.
Я сходил к литургии, помянул своего товарища, дивного художника Юру Селиверстова, утонувшего двадцать восьмого мая. Почему-то уверен, что моя записка о нем попала к мелькнувшему у алтаря отцу Тавриону: ведь мы с Юрой были у него год назад.
В десять начали панихиду по Юре (Георгию) в нашем храме вдвоем с батюшкой. Я, как мог, шел в пении за батюшкой, и, может быть, из-за этого не было настоящей глубины переживания и печали, но зато было волнение сослужения и единения, и Юра все время мерещился тут за спиной, и как будто видел нас и радовался с нами.
Вышли, а тут уж киношники налетели.
– Снимаем фильм «Верую». По монастырям России. На Валааме были, в Оптиной. У вас самое живое. Можно тут снять?
– Снимайте. А художника – кого увидите там, в мастерской, того и снимайте.
Пошли в келью. Там крутится Витька. Это не на шутку разгневало батюшку: «Я уже у себя не хозяин. Кто хочет, заходит. Уходи сейчас же!»
За чаем опять о церкви:
– Дали бы вот хоть эту наверху сделать, как хочу. Думаю, сюда никто вмешиваться не станет. А с иконописным скитом, как желалось, боюсь, ничего не выйдет – владыка Владимир честолюбиво вынашивает замысел лицея, а дело должно быть живое. Да и похоже, и владыка, и отец наместник Павел оба уйдут, а какого нового пришлют – еще Бог весть, может, вообще бежать надо будет. Живого духа не прибывает, остатки старого рассеиваются. Да и иерархи какие идут. Наш вот Гавриил – что-то вспомнилось – опять, говорят, муки претерпел. Дьякон от него прибежал, рассказывал: денег спросил с приходских попов больше возможного, а они его (народ-то крутой сибирский, там и из зэков поп не в диковинку) побили его прямо в алтаре. До больницы дошло. Они к нему потом туда каяться ходили, а он в гнев. Ну ему тут в палате и добавили. Вот характер! В легенды войдет! И братия наша! Аполлинарий, которого, бывало, при опоздании его на службу Гавриил встречал словами «Се жених грядет в полунощи!», вон какое пузо вывесил – подлинно Господь «живот дарова», молится, как некоторая братия, на коленях, уткнув голову в пол. И недавно как услышал, что отец Никандр, у которого «часть клавиш западает», вместо «Отче наш» «Верую» запел, так повалился на это пузо от смеха и запрыгал как мячик. Тут уж и все над ним. Смех и грех! А с «Женихом-то в полунощи» и сам Гавриил любил – чтобы вся братия в два ряда, а он на это восклицание из алтаря… Дети.
15 августа 1990
Приехали с Валерием Ивановичем на тартуском дизеле. Понизу (видно, уж тут так всегда) стоят в Печорах туманы. Прохладно, но с каждым шагом в гору отчетливо теплеет. Как всегда, оба перед дверью батюшки робеем. На «Молитвами святых отец наших…» – тишина. Пошли в мастерскую – никого. Опять пошли к келье «Молитвами…» – батюшка вполглаза из двери: «А-а, а я слышал там шуршание у двери, думал, что это белка, которую только несколько дней назад отпустил. Взял дитем, подкормил, и теперь она еще нет-нет прибегает под двери. Тут на отца Антония сзади прыгнула – за меня приняла. Он говорит, слышу, по мне когтями цап-цап – и вверх, и прыг на скуфью, я сам не свой – вот, думаю, и нечистая сила».
Валерий Иванович выспросил все необходимое для нашего собора Рождества Иоанна Предтечи и услышал вместе с прямыми множество боковых ответов на вопросы, которые еще только предстоит задать, когда он войдет в дело поближе. Вспомнили еще раз о «мученическом венце» Гавриила и позлословили, что скоро его кафедра будет дробиться и он будет зваться «епископом Комсомольско-на-Амурским и Советско-Гаванским». Валерий Иванович вспомнил недавнее интервью владыки в газете «Факт» под названием «Перестройка, хозрасчет, прогресс». Предприятие, а не Церковь. Отец Зинон машет рукой:
– Боюсь, опять путь будет избран ложный. Разве сейчас до пышности, до эстетических пиров в обустройстве храмов, когда внутри все до дна разорено. Сейчас бы не сотни храмов брать и не стяжателей художественных множить, которые прилепились к церковным заказам, а основы искать. Да только ку-у-да… А власти еще это поощряют, может не без тайного умысла: пусть побольше берут, не до Бога будет, СМУ и тресты замучают, а заодно, глядишь, и внешнюю работу сделают, приберут, что могут. А там понастроят мертвой мишуры, истощатся и во второй раз оставят народ сиротой, с одними декларациями про «общее дело». А до духа все равно не дойдут – деньги замучают, как бы ни прятались за духовный словарь. Везде, везде надо было бы назад… Вот с Крыпецким и другими новыми монастырями – это ведь не естественное рождение, а умом взятое благо, значит, уж и не благо – от ума-то. Вон пчелы жужжат. Когда улей полон, рой вылетает, и, значит, пора ставить новую колоду. А если отсюда взять и туда посадить, то и тут сойдут на нет, и там не приживутся. С духа, с духа надо начинать, с восстановления церковного дыхания. А то мы начинаем с уверенности, что монастырь принесет доход, – это при общем-то нестяжании…
Отдаю ему книги Николая Кузанского, замечая, что, похоже, характером был в Аввакума – тоже темперамента не мог удержать. Отец Зинон вспоминает:
– Я говорил вам, что Аввакум у Клыкова не похож?
Валерий Иванович:
– А каким он, по-вашему, был?
– Маленьким. Уж очень был заводной – такими обычно маленькие бывают. В Устюге его дюжие молодцы не потому на себе перли, что больно крупен, а потому, что уж больно, видно, верткий был и злой – не удержишь. Чистый вон наш маленький петух. Слышите, кричит? Это он большого петуха вызывает. Сейчас встанут друг против друга, головы нагнут и начнут смотреть, не мигая, – в точности Аввакум с Никоном.
Зашли в Покровскую церковь. Деисус почти готов. Рождество и Преображение уже на определенных им местах, мрамор алтарных колонн светлеет – чисто, торжественно, как-то смущающее высоко по интонации.
– Вот стену чуть потемню, трону охрой колонны, чтобы потеплели и чтобы золото пригасить, пущу тонкий, чуть видный орнамент – и все. Наместник все просит фресок, подозревая, что я не пишу их только из лени, желая ограничиться малым. Ну, напишу, сдам, а только ведь все равно знаю, что это не нужно ни монахам, ни прихожанам. И не для них и делаю. Хула, похвала – какая разница. Как умею, молюсь и, как умею, пишу…
Я говорю, что и корить тут некого, потому что монахам и приходу действительно не до того, что они не того ищут и не то видят, что зрение ослаблено и разрушено, а скорее и просто еще не сформировано – слишком мы скоро всего хотим, минуя труд настоящего устроения души.
– Да, вот и Лесков писал, что наш народ крещен, но не просвещен. И с прихожанами я понимаю, но с монахами не соглашусь. Им это должно быть надо. Они – профессионалы. На то шли. А если не «профессионал» (в служении Духу), то – на все четыре стороны. Если не видят, значит, ничего не слышат в богослужении, где порой и епископы «автоматикой» берут. А когда бы слышали, то понимали, что в молитве образ равен слову, и пению, и самой молитве, что тут врозь ничего нет. И каков образ, такова и молитва. А у нас умудряются «духовный опыт» где-то вне богослужения нарабатывать, а в церкви только отбарабанят и опять за «умное делание».
Я вглядываюсь в рождающийся иконостас и предчувствую, как сложны будут отношения с ним у братии и у бабушек. С горечью предвижу: чем далее, тем отношение будет сложнее, потому что он уходит все выше и это грозное требовательное православие не по духу расслабленным «профессионалам». Тут высота как чистота «без соринки». А уж русский христианин к соринке-то привык, и она ему дороже чистоты и строгости. Тут расслабляться нельзя, как и в высокой молитве отца Зинона. Достаточно послушать, как он поет стихиры и читает каноны на вечерне или утрене в пустом храме с двумя-тремя молящимися, с какой полной чистой силой, и поймешь многое и в его письме.
Днем пришел Николай Иванович Кормашов и высказал мысль, что по канону-то отец Зинон византинист, а по движению цветовой и духовной мысли – мастер треченто, начального Возрождения. Предположил, впрочем, что батюшка просто через треченто лучше видит утраченную Византию. Мне померещилось, что в этом суждении есть правда, что действительно есть в отце Зиноне эта возрожденческая стихия – и именно первой, самой глубокой полноты, когда Дух еще насыщает цвет и композицию плотью и полнотой целостной жизни.
Архив владыки Вениамина еще здесь, и отец Зинон остерегает меня от слишком доверчивого чтения, смущенный тем, что в богословских заметках мелькает много невольного «латинства» – хоть в термине «пресуществление» вместо «преложения».
– Впрочем, кто это теперь слышит. Мы теперь тоже говорим о «пресуществлении» и всё пытаемся установить миг этого «пресуществления», который один и важен, а остальная служба у нас так – для провождения времени.
Просит отвлечь и Валерия Ивановича от некритического чтения работы «Об исповедании» и помнить, что владыка кончил совершенным детством, а работа была написана как раз к концу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































