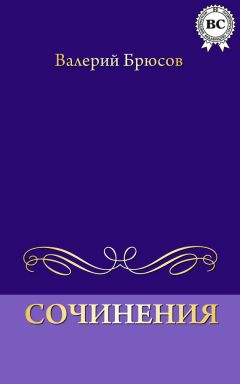Читать книгу "Сочинения"
Утром на следующий день, встав рано, я долго не мог сознать, что прошло почти три месяца с тех пор, как я покинул дом дяди, что многое за это время изменилось, что сам я уже иной, чем был тогда. Мне все казалось, что я только что приехал в Рим и что всю жизнь в нем я должен начинать сначала. Ах, как я был бы счастлив, если бы действительно вся эта зима оказалась лишь длинным и горестным сном!
В перистилии, на мраморном помосте водоема, дремал старый павлин; я вспомнил, как встретил здесь в первый раз Намию, и мне опять захотелось плакать при этом воспоминании. Я сел на скамью, около стены, смотрел на обветшалое убранство дома, которое казалось мне теперь еще более бедным, с тех пор как мне пришлось видеть роскошь других домов, и предавался печальным думам. Так меня застал раб, посланный Гесперией, передавший мне письмо от своей госпожи.
Вот что мне писала Гесперия:
«Гесперия Юнию. S. D. Мне грустно, что ты, вернувшись в Город, не известил меня. Хочу тебя увидеть непременно. Приходи ко мне сегодня, в часы перед обедом. Не пишу тебе больше, потому что словам написанным предпочитаю живую речь. Vale».
Этому письму я обрадовался: оно давало мне повод немедленно пойти к Гесперии и сегодня же положить начало моей мести. «Ты сама отдаешься в мои руки, – говорил я про себя, обращаясь к Гесперии. – Смотри, не ошибись в расчетах. Прежде перед тобой был мальчик, которым ты играла. Теперь к тебе придет мужчина, который заставит плясать тебя!»
День прошел в доме уныло, так как Намия чувствовала себя совсем плохо и к ней никого не допускали. Дядя сидел, затворившись в своей комнате, и ни с кем не хотел говорить. Тетка бродила заплаканная, а у меня не было для нее слов утешения. Все утренние часы я провел в том, что обдумывал, как я должен вести себя с Гесперией, как с ней говорить, как отвечать на ее речи. Сердце мое было твердо, как камень, и мне казалось, что никакие женские соблазны не размягчат его. «Надо быть мудрым, как змий», – повторял я христианскую поговорку.
К назначенному часу я оделся, как мог лучше, и по дороге зашел в тонстрину завить волосы: мне не хотелось явиться перед Гесперией в непривлекательном виде. У тонсора, как обычно, толпился всякого рода народ, щеголи и болтуны, и я охотно обменялся с какими-то незнакомыми мне юношами несколькими остротами. Той робости, которая прежде овладевала мною, когда я шел к Гесперии, я не испытывал вовсе; напротив, я чувствовал себя смелым и решительным и был уверен в успехе.
Жила Гесперия уже не на Холме Садов, а в своем зимнем доме, на Эсквилине, поблизости от храма Надежды Древней. Место было сравнительно пустынное, и у Элиана здесь тоже был прекрасный дом, обставленный, может быть, с меньшей пышностью, чем его летняя вилла, но зато с чисто Римской строгостью убранства. Ни вне, ни внутри дома не было никаких причуд, все было просто, но величественно и богато.
Дом охранялся рабами с тою же бдительностью, как и вилла на Холме Садов, но когда я назвал себя, меня тотчас впустили. Хорошенькая рабыня, которая, кажется, меня узнала, провела меня через обширные пустые покои, назначенные всего для двух человек, к небольшой комнатке, завешенной пестрым занавесом, и произнесла мое имя. Я уверенно отдернул занавес и вошел.
Но в ту же минуту две руки обвили мою шею, и прямо перед своим лицом я увидел как бы мраморное лицо Гесперии, прекрасное, как лик богини, настолько совершенное по своим чертам, что ни Фидии, ни Пракситель не могли бы измыслить в творческом воображении ничего удивительнее. За месяцы разлуки я не то чтобы позабыл Гесперию, но как-то утратил ясное представление о ее красоте. Я помнил ее слова, ее поступки, но непосредственное очарование, веявшее от ее существа, потерялось и ослабло в воспоминаниях. Когда теперь я вновь увидел ее прямо перед собой, величественную, божественную, в тонкой цикле, осыпанной золотом, я вновь испытал прежнее чувство почти телесной боли. Я стоял перед Гесперией, онемев, и думал: «Нет, нехорошо делают боги, что смертной женщине дают такую красоту!»
А Гесперия, взяв меня за руки, увлекла меня в глубину комнаты, посадила на ложе, рядом с собой, и стала говорить, все тем же своим нежным голосом, похожим на музыку флейт:
– Мой Юний! как я счастлива, что тебя вижу! Когда Симмах написал мне о твоем заключении, я потеряла разум. Я дала обет принести богатые жертвы Великой Матери, если ты получишь свободу. И когда я думала, что это я послала тебя на такое дело, я была готова себя бить и проклинать. Но боги справедливы и спасли тебя для меня.
Такое вступление ошеломило меня, так как его я не ожидал вовсе. Я привык, чтобы Гесперия обращалась со мной, как царица с рабом или как мудрец с учеником, и, слыша теперь от нее страстные слова женщины, не знал, что о них думать. Но я заранее готовился к какому-то коварству со стороны Гесперии и потому, напомнив себе свое решение – уподобиться в лукавстве змию, отвечал:
– Domina, я знал, на что я иду, и ты от меня опасности не скрывала. Значит, ты передо мной ни в чем не виновата. А я по-прежнему готов тебе служить всем, чем могу.
Гесперия порывисто охватила меня, сжала в объятиях и воскликнула, словно в самозабвении:
– Нет, Юний, больше ни в какие опасности я не пошлю тебя. Ты совершил довольно, чтобы доказать свое мужество и свою преданность мне. Теперь ты можешь требовать награды, которую я тебе обещала.
Невольным движением я высвободился из рук Гесперии, так как принимать притворные ласки не хотел, и возразил, дыша тяжело:
– Зачем ты это говоришь! Неужели я могу поверить, что я тебе так дорог? Ты надо мной смеешься?
Гесперия, не выпуская моих рук, продолжала говорить тем же ласкательным голосом:
– Все это – правда, мой Юний! Теперь я оценила тебя и твою любовь. Я постигла, что боги привели тебя ко мне и что мы должны повиноваться священной воле бессмертных.
Я сознавал, что мне следует притворяться, следует тоже клясться в любви, чтобы обмануть эту женщину и усыпить ее подозрения. Но она говорила с надменной уверенностью в том, что ее любовь для меня – высшее блаженство, и меня непобедимо влекло сказать ей, что это – не так, что я с пренебрежением отказываюсь от того дара, который она мне торжественно предлагает; этот порыв чувства оказался сильнее голоса рассудка. Я встал с ложа, окончательно освободился от рук Гесперии, которая следила за мной недоверчивым взглядом, и ответил:
– А я понял, что между нами не может быть любви. Я заблуждался, когда говорил тебе о своей страсти, и беру свои слова назад, отказываюсь от них. Впрочем, все свои клятвы я помню и, разумеется, подтверждаю их. Я клялся Стиксом, как клянутся боги, и этой клятвы Римлянин не нарушит никогда.
Мои слова, как кажется, на Гесперию произвели впечатление сильное. В течение нескольких минут она смотрела на меня молча, словно не находя слов. При всей своей самоуверенности, она потерялась и не знала, как держать себя. Но вдруг также встала и, уронив складки своей сверкающей циклы, воскликнула громко:
– Если так, то твои клятвы я возвращаю тебе. Ты мне ни в чем не клялся. Я не хочу, чтобы ты исполнял свои обещания по принуждению. Ты – свободен.
– Никто не может освободить меня от такой клятвы, – возразил я. – По-прежнему ты можешь мне приказывать. Не говори только о любви, потому что это прошло.
Тогда Гесперия подошла ко мне совсем близко, так что я весь был охвачен веяньем тех ароматов, которыми было умащено ее тело, опять протянула ко мне свои, словно из слоновой кости выточенные, руки и спросила тихо:
– Ты меня разлюбил? Ты любишь другую? Отвечай: ты дал обещание не скрывать этого от меня.
– Я никого не полюбил, – ответил я, так как это была правда.
Руки Гесперии вновь опустились на мои плечи, и я задрожал от этого прикосновения, как, может быть, трепетал Анхиз, когда к нему приближалась мать его будущего сына. Но когда медленно алые губы Гесперии стали наклоняться к моему лицу, обещая то же пронзающее лобзание, какое я изведал однажды, я, во второй раз подчиняясь невольному движению, опять отклонился от ее поцелуя, отступил назад, и против моей воли у меня вырвался крик:
– Не надо! не надо!
Мгновение Гесперия стояла одна с руками, простертыми в пустоту, потом тихо сделала несколько шагов и упала на ложе, как изнеможенная. Никогда не видел я гордой Гесперии в таком состоянии, потому что она была похожа на пантеру, раненную на арене Амфитеатра, и если бы я мог поверить в искренность ее поведения, я уже мог бы наслаждаться началом своей мести. После недолгого молчания Гесперия заговорила подавленным голосом:
– Ты меня отвергаешь? Тебе рассказали обо мне что-нибудь дурное? Тебе сказали, что я жила постыдной жизнью? Что у меня было много любовников? Что многих я обманывала? Что я гублю тех, кто мне доверяется?
– Мне никто ничего не говорил о тебе, – возразил я.
– Все равно! – воскликнула Гесперия, вновь вставая во весь свой рост, – все равно! Все, что тебе говорили и что могли сказать и многое другое, – все правда! Я хуже той молвы, которой окружено мое имя. Да, я прожила постыдную жизнь. Я переменила трех мужей. Я знала сотни мужчин. Я отдавалась наездникам, мимам и рабам. Я продавала себя за деньги. Я подражала в разврате жене Клавдия. И я многих погубила, кто меня любил. Я первая скажу тебе про себя все дурное, что было, и многое такое, что не знает в мире никто, кроме меня. Но все это было в прошлом. Уже давно я живу ради одного: ради того нашего дела, о котором ты знаешь. Постыдную жизнь я искупаю, служа богам и Риму. А когда я увидела тебя, когда я нашла тебя, я подумала, что, может быть, еще возможно для меня и счастие жизни. Потому что я полюбила тебя, Юний, любовью настоящей и, клянусь тебе, первой в моей жизни. Вот я отдала себя в твою власть, ты меня можешь оскорбить и унизить; ты меня можешь оттолкнуть в наказание за то, что когда-то я оттолкнула тебя. Поступи, как хочешь: я не хитрю с тобой, не притворяюсь, я, как простая девочка, говорю тебе: люблю!
Гесперия произносила эти слова в величайшем волнении, – по крайней мере, так казалось: ее лицо разгорелось, на глазах были слезы, а я слушал ее как помешанный. Я не знал, что мне думать об этих безумных признаниях. Было ли это коварство, игра, доведенная до высшего совершенства, как у иных актеров, умеющих плакать на сцене, изображая страдания Октавии, Медеи или Канаки? Была ли то новая прихоть женщины, не ведающей препятствий своим желаниям и пожелавшей ласк «красивого мальчика», как меня называла Валерия? Или то было истинное чувство, внезапно посетившее гордую повелительницу Рима, месть богини Венеры, мстящей тем, которые смеют презирать ее власть? То, о чем я мечтал прежде, как о недоступном, немыслимом счастии, – любовь Гесперии, – было передо мной: мне стоило только сделать одно движение, сказать одно слово, и она была бы в моих руках, стала бы меня целовать и обнимать. Но в эту минуту передо мной как бы встал призрак маленькой Намии, лежащей в смертельной болезни на своей девичьей постели, и я с новым порывом возразил решительно:
– Гесперия, я не имею права тебя осуждать за твою жизнь. Я о ней ничего не знаю и ничего не хочу знать. Но сейчас я тебе ничего не могу ответить на твои слова и вот почему. Сообщили ли тебе, что твоя сводная сестра, маленькая Намия, вчера бросилась в Тибр и теперь лежит больная и, вероятно, умрет? И известно ли тебе, почему она это сделала? Я тебе скажу: Намия полюбила меня, а я любил тебя, и вот она предпочла умереть. Как же ты хочешь, чтобы я говорил тебе о любви, когда она умирает.
Все лицо Гесперии при моих словах изменилось. Она опять упала на ложе и простерла руки, как для молитвы. Мне показалось, что она сейчас потеряет сознание.
– Боги бессмертные! – вскричала она. – Неужели это правда? Намия бросилась в Тибр? И мы с тобой в том виноваты? Побежим тотчас к ней, я прикажу позвать Эвсебия, я выпишу лучших медиков из Константинополя, я отдам все свой деньги: мы ее должны спасти! Расскажи мне немедленно все подробно! Вот когда я требую с тебя исполнения твоей клятвы: ты обещал ничего от меня не скрывать. Расскажи, как ты узнал, что она тебя любит? Как узнала она, что ты меня любишь? Говори все! Бедная маленькая девочка, я ее так любила!
Я рассказал все, что знал, не скрыв ничего, не утаив ни ночного прихода Намии ко мне перед днем моего отъезда, ни тех страшных признаний, какие сделала мне Намия вчера, разумеется, взяв с Гесперии обещание, что она никому другому не перескажет этого. Гесперия слушала мой рассказ с напряженным вниманием, несколько раз прерывая его восклицаниями горести, и, когда я кончил, сказала:
– Теперь я тебя понимаю, Юний! Вот что было у тебя на душе, когда ты пришел ко мне! Да, не время нам было говорить о любви. Но теперь мы обменялись признаниями: когда-то ты говорил мне, что меня боготворишь, сегодня я тебе призналась, что ты мне стал дорог. Предоставим отныне нашу жизнь воле трех Парок, – пусть они сучат свои нити, золотые и черные, хотя бы уже близко было к одной из них лезвие ножниц. Когда-нибудь мы возобновим речи о наших чувствах. Теперь мы должны обратиться к другому, что важнее и твоей жизни, и моей, что выше, чем наша бедная и маленькая любовь: к судьбам Рима. Здесь, на этом пути, ты не должен и не смеешь покидать меня. Немного нас, верных великим заветам старины, служителей богов бессмертных, но тем теснее должны мы сплотиться в один круг. Мы должны продолжать нашу борьбу с безумием христианства, грозящим погубить все прекрасное и все величественное, что создано в мире. Одно сражение нами проиграно, но война еще не окончена. Ганнибал некогда подступал к самым семи холмам, но кончилось тем, что исполнилось пожелание Катона, и Карфаген был разрушен. Нам предстоит разрушить Карфаген новой религии, откуда новые Ганнибалы грозят нам участью более страшной, чем та, которая грозила республике после Канн. Чтобы грядущим поколениям сохранить мудрость Платона, чтобы в будущем опять могли жить Вергилии и Аполлонии, Суллы и Траяны, – останемся столь же тверды после неудачи, как слепой Аппий. Я – женщина, ты – юноша, но я попрежнему верю, что вдвоем мы можем больше сделать, чем умные сенаторы и искусные вожди народа. В этом деле дай мне руку, останься моим союзником и повтори свои клятвы: умереть за Рим!
Свою длинную речь Гесперия произнесла торжественно и строго, и в эту минуту она опять стала похожа на ту прежнюю Гесперию, уму и решимости которой я удивлялся. Лицо ее напоминало в эту минуту лицо Дианы-охотницы, и вся она казалась чистой и неприступной, так что странно было вспомнить ее недавние признания. Потом она добавила:
– А теперь иди к Намии и скажи своему дяде, что я немедленно пришлю к девочке лучших медиков Города. Мы ее спасем, потому что она не должна умереть. Этого не будет, «если что боги правые могут!».
Наклонясь, Гесперия меня поцеловала в лоб, и я уже не сопротивлялся этому поцелую.
Выйдя из дома Элиана, я долго не мог собрать мыслей. Все произошло совершенно иначе, нежели я того ожидал, и к тому, что мне пришлось пережить, я вовсе не был подготовлен. Неспешной походкой возвращаясь домой, я, как бы «по обычаю пифагорейцев», припоминал, слово за словом, все, сказанное мною и Гесперией, все наши движения и поступки. Я старался вникнуть в их смысл и разгадать Гесперию, которая предстала передо мною опять в новом облике, чем я ее знал раньше.
«Если все это с ее стороны притворство, – говорил я себе, – то какова же его цель? Зачем было Гесперии унижаться предо мною, обвинять себя в низких поступках, называть себя подобной жене Клавдия? Что может она получить от меня, человека без состояния, без власти, без особенных дарований? Предположим, что она хочет опять овладеть мною, но чем же я могу быть ей полезен?»
Однако поверить в искренность признаний Гесперии я все-таки не мог: слишком невероятным казалось мне, чтобы гордая Гесперия, привыкшая к поклонениям, могла внезапно полюбить, и так исступленно, бедного юношу, который недавно сам вымаливал у нее один ласковый взгляд. Какую-то ловушку, какую-то хитрость я чувствовал в поведении Гесперии, но не умел разгадать, в чем они состояли. Я мысленно сравнивал поведение Гесперии, во время разговора со мной, с движениями змеи, которая извивается, свертывается в кольца, отползает назад, пытается напасть и оттуда и отсюда и вдруг, усмотрев незащищенное место, бросается вперед и жалит. Но зачем она вела эту хитрую борьбу со мной, я не понимал.
А в самой глубине души, наперекор всем тем обещаниям, какие я давал самому себе, наперекор всем моим клятвам мести, запечатленным мною даже на стене подземной тюрьмы в Медиоланском священном дворце, – тайная сладость баюкала мои мечты. Так прекрасна была Гесперия, такое очарование исходило от ее существа, словно опьянительный аромат, что я опять чувствовал себя во власти ее чар: опять казалось мне невозможным жить без Гесперии, опять мне представлялось, что всюду, где нет ее, – пустыня, а там, где она, – те «белые лилии», что окружают блаженных. И это тайное чувство, которое я всячески старался подавить в себе, как тонкий яд, проникало во все мои мысли, отравляло их смертельным и гибельным соблазном. «Сильна ты, Афродита, богиня Книдская!» – готов я был воскликнуть.
Дома я застал всю семью за обедом. Никто меня не спросил, где я был, да и вообще никто почти не произнес ни слова за все время обеда, кроме отца Никодима, который несколько раз начинал было рассказывать городские новости, но, не встречая сочувствия, скоро умолкал. Впрочем, когда рабы уже подали сладкое, дядя угрюмо сообщил мне:
– Скоро возвращается Симмах. Он ничего не добился. Сенат останется без статуи Победы. Горе будет теперь, если готы опять подымутся на нас. Потерять нам тогда Гемимонт, Европу, Родопию, Дарданию, Македонию, Эпир…
– Господь Бог заступится за свое верное воинство, – вставил отец Никодим.
Дядя сурово посмотрел на него и ответил:
– Завоевывали эти земли не Господь Бог, но Метелл и Муммий, а что завоевал Господь Бог, мы еще не видели.
Отец Никодим тонко улыбнулся и, беря себе несколько сладких пирожков, произнес:
– Он завоевал весь мир, но не силой меча, а силой истины и любви.
Дядя не возразил ничего: ему неохота была спорить.
После обеда мне позволили зайти к Намии. Она была почти без сознания; впрочем, узнала меня и спросила:
– Ты сегодня был у Гесперии?
– Нет, – солгал я, не желая огорчать девочку, – я у нее не был и не пойду к ней.
– Ты ее не будешь целовать? – опять спросила Намия.
– Не буду.
– Поклянись мне.
Что мне было делать, как не поклясться, хотя я и чувствовал, что, может быть, скоро окажусь клятвопреступником. Я произнес торжественно:
– Клянусь тебе, что не буду Гесперию целовать никогда.
Намия вытащила из-под подушки маленькое серебряное зеркальце и яростно бросила его в угол комнаты.
– Это она мне прислала сегодня утром в подарок, узнав, что я больна. Но я не хочу ее подарков, не хочу! Сломай его, братик, растопчи ногами, брось в огонь. Я его ненавижу, я ее ненавижу! Я из-за нее умираю. Она – проклятая!
Меня поразило это признание, и, хотя с Намией разговаривать не следовало, ввиду ее болезни, я невольно спросил:
– Гесперия прислала тебе утром зеркало? Значит, она знала, что ты больна?
– Она мне прислала зеркало, – отвечала девочка, – проклятое зеркало, заколдованное, чтобы я умерла скорее, но я, может быть, еще не умру! Я теперь не хочу умирать. В Тартаре страшно, там темно, там тени!
Девочка начала метаться и говорить бессвязные слова, и я не мог добиться от нее, знала ли Гесперия, посылая ей подарок, о ее болезни. Все же темное подозрение поселилось в моей душе. «Неужели, – спрашивал я себя, – Гесперия раньше была извещена о несчастии с Намией и передо мною притворялась, делая вид, что услышала о том от меня впервые? Кто же она: всегда играющая на сцене или безумная, не понимающая, что говорит, как бедная Pea? Или же душа женщины – пучина Харибды, в которую не дано заглянуть мужскому взору?»
Я долго сидел у Намии и вместе с теткой старался то согреть ее коченеющие члены, то охладить сжигающий ее внутренний огонь. Девочка томилась и плакала и все чаще повторяла: «Я не хочу умирать, не хочу умирать!» Мы ее поили лекарствами, приготовленными ученым греком, но Намии от такого питья делалось только хуже, и было видно, что жизнь покидает ее худенькое тело. Чудилось, что страшная Либитина уже стоит у дверей нашего дома.
Поздно ночью ушел я из комнаты Намии, оставив мать у постели умирающей дочери. Уходя, при слабом свете лампады, я заметил, что в волосах Мелании за эти дни появились седые пряди. И впервые я почувствовал к тетке нежность и уважение.