Текст книги "Прозрение Аполлона"
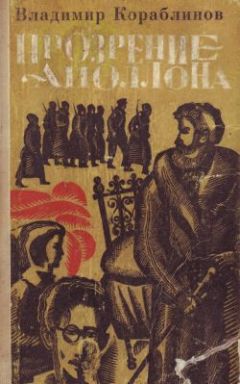
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Тут надо поподробней рассказать про Алексея Иваныча, он стоит того. В те горячие, суматошные дни из этаких вот много произросло бурьяну-чертополоху по России мужицкой, еще не осилившей разумом, до конца, что же такое Советская власть, чего она хочет и что сулит, да и сколь правдивы и надежны ее посулы. Из этаких-то вот и выходили бесчисленные, разных мастей бандитские атаманы, всякие там батьки Ангелы да батьки Колесниковы… Дело понятное, когда какой-нибудь мироед, куркуль, верно угадавший в молодой Советской власти смертельного своего врага, погибель свою, берется за обрез и подымается на войну против Советов. Тут – зверь, серый зубастый разбойник, загнанный в угол овчарни, видящий надежду на спасение в одном: отбиваться. Зубами, когтями, коварством, силой, обманом, любыми средствами, только отбиваться. Дело понятное и когда какой-нибудь сельский грамотей, крепкий, впрочем, средний хозяин, начитавшийся эсеровских брошюрок и сам себя называющий эсером, идет на бой с большевиками: яд умелой пропаганды едва ли не сильнейший из всех, существующих в природе…
Но вот этот Алексей Иваныч, Алешка Гундырь, как его окрестили односельчане…
«Смирный был мужик, богобоязненный, но развратился, – сказал о нем темрюковский батюшка, – твое-мое, знаете ли, все можно…» Как же так случилось, что этот «смирный» мужик сделался пугалом всей округи, что за ним как за бешеным волком гоняются чекисты и милиция?
А ведь действительно смирный был, непьющий, а если, бывало, и гульнет праздничным делом, то не куражится, не затевает драки; на мирских сходках не горлопанит, не хватает за пельки; со стариком повстречается на улице – поздравствуется, шапку скинет… Богобоязнен? Тоже верно: исправно говеет, причащается, даже в церковном хоре поет. И голос у него отличный, не сильный, но звучный, приятный тенор. Как, было время, запоют на страстной «разбойника благоразумного», так до того сладким своим голосом примется выводить
Ра-а-е-ви сподо-о-бил еси-и —
что иную бабу даже слеза прошибет. И вот удивительно: косноязычен в разговоре: «ницяво», «поцяму», а запоет – и все выговаривает чисто, хорошо, как полагается. Бабу свою никогда не бил, не утюжил, как говаривалось; не было такого, чтоб расхристанная, простоволосая, с воплями, с воем выскакивала на улицу: «Ой, людюшки добрые, смертынька пришла!» Нет, в избе у них всегда тишина, словно там и нет никого. Да и кому шуметь-то? Детишек не завели, жили двоечкой, скучно. Но тишина была обманчива, хуже шума, пожалуй. Никому не жалилась, не докучала вечно молчаливая Гундыриха, а ведь вся в синяках ходила. Это от смирного мужа-то! Алексей Иваныч не бил жену, он ее щипал. Да как – с вывертом, с оттяжкой, до черноты. За что? А так, ни за что. Верней всего, давал выход своей непомерной злобе, которую всю жизнь, до поры до времени, накапливал, таил в себе, глубоко внутри. Собак, например, вешать любил, каких покрупнее, и опять-таки тайно, чтоб никто не видел. Уведет в лес, куда поглуше, и там сделает свое палаческое дело, наслаждаясь в одиночестве созерцанием предсмертных судорог разнесчастной животины.
На фронте, куда попал в августе четырнадцатого года, познал сладость безнаказанного убийства, безнаказанного грабежа. Пристрелить пленного, а то так и просто какого-нибудь отставшего на дороге старика беженца было для Алексея Иваныча делом разлюбезным, потехой. Солдаты-товарищи не любили его и побаивались: черт бешеный, от такого чего хочешь жди… Прихлопнет втихую, а там разбирайся: время военное, шальная пуля, и все, расследовать никто не будет.
И вот, когда после ратных подвигов очутился Алексей Иванович в родном своем Темрюкове и настала пора выбирать, с кем ты, с красными или с белыми, он так решил: ни с кем, сам по себе «Раз слобо́да, то какой может быть разговор, что хочу, то и ворочу».
Однако власть в уезде была советская, она не согласилась на такую сделку, а прислала Алексею Иванычу бумажку с печатью, где предлагалось ему немедленно явиться в волость, причем как военнообязанному, имея при себе ложку и пару белья. Нетрудно было смекнуть, что к чему, и он не пошел в волость, а, собрав с десяток подходящих мужиков, схоронился в лесу. Это всё были, как и сам Алексей Иваныч, люди еще не старые, годные к воинской службе, но не пожелавшие служить, сообразившие, что лучше всего, пожалуй, отсидеться в норе, пока идет эта карусель с белыми и красными; что ведь не бог знает сколько будет продолжаться такая домашняя война и настанет же вскорости время, когда какая-то из сторон осилит, и вот тогда можно будет вылезти из лесной берлоги… И хотя, конечно, интересу немного жить на зверином положении, но, по крайности, бока останутся целы…
К этой шатии-братии неожиданно присоединился сельский лавочник старик Молоканов, крепкий, кряжистый мужик, которому уже за семьдесят перевалило и, стало быть, нечего было бояться призывной повестки. У него единственный сын погиб на фронте, померла старуха, Советская власть лавку прикрыла, и он ударился в чтение и толкование библейской премудрости. В Иоанновом «Откровении» прочтя по-своему, между строк, что новая власть есть власть антихристова, что надобно спасать свою святую душу, он запер, заколотил избу и ушел с дезертирами в лес.
И первое время они тихонько там жили, рук не распускали, не шкодили. Их не очень-то искали, не до них было. Война с белыми генералами по всей России шла, и конца ей не виделось.
Сперва лесных этих отшельников бабы подкармливали, харчишки им таскали ночами, тайно, – картоху, сало, хлеб. Месяц, другой, третий хоронились в теплой землянке и не только не отощали, но сделались гладкие, что стоялые жеребцы. Тут-то от сытости, от безделья в них кровь и взыграла; мало показалось ветчины да картошки – выпить потребовалось, гульнуть. Глухой черной ночью налетели на волость, больницу пощупали. Под дулом обреза насмерть перепуганный старичок доктор выдал им из аптеки четверть спирту. Уходили веселые, довольные, со старичком даже за ручку попрощались. А когда отошли немного от больницы, Алексей Иваныч спохватился: рукавицы забыл в аптеке. «Валяйте, ребята, – сказал, – я вас моментом догоню…» Вернулся и стукнул старичка прикладом по голове. Тихо и благородно все вышло, безо всяких последствий. С этого пошло: там потребиловку обобрали, там – церковь, там – склад, а там и к мужику в амбар залезли…
И все ведь с рук сходило. Повеселело в землянке, – спирт, водка, самогон-первач не переводятся. Эх, жизнь! Алексей Иванович живо к винцу приохотился, стал напиваться, и не как-нибудь, а до чертиков зеленых, до немыслимых, фантастических видений. Как-то прослышал, что где-то, у хохлов, что ли, батька Махно действует, тоже вроде, как он, ни белых, ни красных не признает, сам по себе – анархист. Словцо понравилось – ученое, важное. А-нар-хист. В хмельной башке, как вылупившиеся из яиц ужачата, зашевелились бредовые мечтания, уже как бы политические: стать во главе особой мужицкой партии, объявить уезд автономной республикой… Вот это да! Свои министры ай там, допустим, нехай, комиссары… Свои деньги будем печатать, – ведь это сколько можно будет напечатать-то, страсть! Все богачами заделаются, тудыть твою растуды!
Но стали мужики тяготиться Гундыревой шатией, пошли в уезд прошения – как бы ее прикончить, никакого терпения, мол, уже нету…
Вот тогда-то и выехали из уездной Чека товарищ Бахолдин с комсомольцем Ереминым. Выследив Алексея Иваныча, прихватили с собой милиционера Тюфейкина, предсельсовета Петелина и устроили засаду за скирдами.
Шелестел ручеек по камушкам, нашептывал что-то мирное, ласковое, лесное, свое, до грязных дел человеческих не касаемое.
Был такой час утра, когда уже все до одной птицы проснулись, разными голосами возвестив об этом миру, и лес зазвенел.
Алексей Иваныч напился из ручья, пригоршнями поплескал на все еще горячее после бега лицо, подержал в прохладной воде натруженные ноги (офицерские сапоги жали-таки, проклятые!) и медленно, гуляючи пошел домой. Он именно таким словом и подумал: домой. И усмехнулся. Вот уж чего не было у Алексея Иваныча, так это дома. Все было: спирт, самогон, солонины полная кадушка (намедни телка годовалая, отбившись от стада, блукала по лесу), сапоги офицерские, винтовка и пистолетик-браунинг с перламутровой рукояткой… Даже хины (лихорадка тут на болотах трепала частенько) порошков с полсотни… А дома – нет, дома не было.
Не было дома, да и все тут.
Еще с неделю назад хоть какой-то, хоть плохонький, ненадежный, зыбкий, как сонное видение, а был. Там супруга жила, вечная неулыба, молчальница, разнесчастная крестьянская баба Настасья Матвевна, неплода-горюнья… Там печь теплая с шуршащими тараканами, пахнущая хлебом и дымом; там скрипучая деревянная самодельная дедовская кровать, часы-ходики с картинкой – государь Александр-освободитель и перед ним народ на коленках; там… Эх, да мало ли что там! Одно слово: дом, жилище родное…
Неделю же тому назад пришла весть: долго жить приказала Настасья Матвевна. Сельсовет похоронил, избу опечатали, окна, двери заколотили досками. Один старый кобель Мурзик остался, никуда со двора нейдет, воег ночами… Вот такая картина.
Так что нету дома.
А тот дом, про какой подумал, – это землянка-тайник, где вот уже шестой месяц хоронились от власти восьмеро пригодных и для работы, и для воинской службы, здоровых и не старых еще мужиков.
Они встретили его молча.
У входа в землянку сидели двое – дед Молоканов и Демьян. Серафим немного поодаль лежал на спине, заложив руки под голову, бунчал песенку. Все трое были при оружии, все одеты, как в дорогу, возле каждого – вещевой мешок, зимняя одежа, все имущество. Еще парнишка лет двенадцати вертелся тут, лесников сынишка Ксенофонт, Ксешка, играл, возился с огромным кудлатым псом. Увидев Алексея Иваныча, пес не кинулся, не забрехал: свой, значит, пришел человек, знакомый.
Стоял Алексей Иваныч перед лесными жителями с портфелем в руке, с глупым чиновничьим предметом, особенно нелепым здесь, на глухой лесной поляне, окруженной непроходимыми болотами, и прямо-таки смехотворным, ежели принять во внимание теперешнюю жизнь и занятия этих людей. Стоял, молчал. Прикидывал: зачем при оружии, зачем одеты-обуты по-дорожному, словно в поход…
– Ай, ребяты, куды иттить наладились? – вдоволь намолчавшись, спросил наконец, присаживаясь на трухлявый, поросший поганками пенек.
– Иттить ли, бечь ли – это уж ты, братушка, нам скажи, – поглядел исподлобья Демьян. – Мы для того, стал быть, и поджидаем тебя…
– Это с цяво же? – Алексей Иваныч особенно гугнявил, когда серчал. – Это с цяво ж вы, ребяты, такую цертовину узяли? Ай вас тут понапужал кто?
– Да нас-то, голубь, Христос миловал, покаместь не пужали, – могучим глуховатым басом прогудел дед Молоканов. – Нет, не пужали… – Задумчиво поглядел на верхушки осин, толстыми пальцами поскреб под седоватой русой бородой. – Покаместь не пужали, значит, говорю… А вот тебя, голубь, по всему видать, пугнули – так за мою почтенье… Ай не так говорю?
Пронзительно, в упор, детски-голубыми глазами уставился на Алексея Иваныча.
Серафим захохотал, забунчал:
Это дело было так —
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
Раз заходим мы в бардак —
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
Он потешно подыгрывал себе на губах, всхрапывал носом, клекотал глоткой.
– Да погоди ж ты, пустой человек! – строго прикрикнул на него старик Молоканов. – Чудно, вишь, ему… Мы ведь, Ляксей, про все знаем, про всю твою, то ись, приключенью, – продолжал, все так же глядя в упор. – Вот он сказал, Ксешка.
«Что за черт, – подумал Алексей Иваныч, – откудова ему про то знать?»
– Батя утресь на дороге Петелина встрел, – весело, оживленно затараторил Ксешка. – Петелин ему: «Ну, все, – говорит, – отгулялись бандюги, теперя спи, говорит, спокойно, мы, говорит, двоих срезали, жеребца ихнего ссадили… Алешка, говорит, утек, ну да и за ним, говорит, дело не задержится…» Батя в ту пору ж – домой. «Чеши, говорит, до ихней землянки, упреди, говорит, мужиков, а то, говорит, Бахолдин-то уже небось по горячему следу за Алешкой ломит…» Дюже батя за лошадь опасается, – помолчав, серьезно добавил мальчуган. – Ну как, говорит, признают, чей жеребец…
– Ну так что? – злобно ощерился Алексей Иваныч.
– Отвечать же, – робко, испуганно сказал Ксешка. – Почему такое, скажут, лесников жеребец у бандитов оказался? Вот он, батя-то, и опасается… Как, мол, быть, спрашивает.
– Так вот и быть. Беги, скажи, чтоб, ежели в случае чего, говорил бы: украли, мол, и все. Строчи давай, одна нога тут, другая – там!
Кинулся Ксешка бежать.
– Та-а-к, – сказал Алексей Иваныч. – А где ж остальная публика? Сизов? Петр Микола́в?
– Да где – смылись, – в черные смоляные усы усмехнулся Демьян. – Как услыхали, чего малый рассказал, так и смылись. Ну вас, говорят, к такой-то матери… Лучше, говорят, в хохлы ай в казаки пойдем пробираться…
– А то, говорят, доиграемся мы тут с вами, – встрял Серафим. – Поставят к стенке, да и на́ поди! И-и-эх! – дико вскрикнул, валясь наземь, опять ни с того ни с сего принимаясь бунчать:
Там сидели две красотки,
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
На них юбочки коротки —
гоп-с-тир-дар-дар-дай!
– Шалопут! – махнул рукой дед Молоканов. – Пра, шалопут… Ну-к, чего ж делать-то будем? – обернулся к Алексею Иванычу. – Давай, голубь, командуй, как ты есть в нашей артели за хвелмаршала…
– Вот что, – подумав, сказал Алексей Иваныч. – Солонина у нас есть? Есть. Мучицы, картохи там, чего протчего тоже наберется недельки на две… Слухайте, мужики: сидеть будем тут. Сидеть.
– Чеку, стал быть, станем дожидаться? – подковырнул Демьян, с насмешкой и ненавистью глядя на Алексея Иваныча. – Товарища Бахолдина?
– Бахолдин! – презрительно сплюнул Алексей Иваныч. – Твой Бахолдин вот-вот сам, не хуже того зайца, аллюр три креста будет вчесывать… Садакову станцию знаешь? Так вот, – он понизил голос, оглянулся даже, словно боялся, что деревья, звериная лесная мелюзга подслушают, – там вчерась белую разведку видели, понял?.. Бахолдин… дерьмо собачье!
И вот стали они «сидеть».
Четыре разных по характеру человека, не имеющие ни общей родины (все были из разных сел), ни каких-то общих чувств и мыслей, кроме одного чувства – страха перед возмездием за содеянное, и одной мысли – продержаться, высидеть в лесной яме, пока белые войска не прогонят Советскую власть.
Прежде, когда была хоть какая-то видимость дела: грабежи, налеты да и бабы нет-нет да проведывали, еще туда-сюда текла жизнь, ни шатко ни валко, как говорится, но все же терпеть можно. А тут скука взяла.
Тогда, весною, в первые недели сокровенного существования, еще как только зачиналось это их внезаконное бытие, всякой заботы оказывалось пропасть: жилье устраивать, дозоры нести, насчет харчей промышлять (не сразу ведь бабы распознали, где их благоверные обретаются), а самое главное – приноравливаться к дикому, непривычному, прямо сказать волчьему обиходу. Теперь же, когда уверились, что болота охраняют их не хуже дозоров, когда харчей стало вдоволь и когда уже как бы вросли в дикую жизнь, сделалось тяжко: все переговорено, обо всем похвастано, надо всем позубоскалено. Бабам был дан строгий запрет, чтоб не ходили пока, не дай бог не навели бы чекистов на след.
Сидели. Скучали. Лениво переругивались изредка.
Спали помногу, но сон не с устатку, а так просто, абы спать, не освежал, не приносил бодрости и даже расслаблял тело и мозг. Просыпались сердитые, раздраженные, долго не могли стряхнуть с себя сонную одурь. Чесались страшно, с протяжным собачьим воем зевали, лениво пили теплую, застоявшуюся воду. Она воняла жестью, болотом, и пить было противно, но принести хорошей, проточной, сходить за сто сажен к роднику ленились.
Спала немытая, заросшая грязью плоть, и дух бессмертный спал. Каждый жил только в себе, медленные мысли были только о себе; многообразный мир человечества как бы не существовал вовсе. Демьян размышлял о своем доме, о хозяйстве, горевал, что не успел до заварошки (он так называл революцию) достроить новую избу; сокрушался, что баба без него все не так сделает: не с тем быком телку обгуляет, не так, как он ей наказывал, продаст овец… Алексей Иваныч с ненавистью думал о милиционере Тюфейкине, который прежде доводился ему сватом, а теперь помогает чекистам ловить его; еще думал, как он станет жить, когда воцарится белая власть, от которой он ждал многие поблажки и награды за то, что грабил и разорял советское добро и даже кой-кого из коммунистов, было дело, пристукнул… Серафим день и ночь валялся на нарах, бунчал глупые свои песенки. И если говорить о проявлении духовной жизни, то одного лишь старика Молоканова можно помянуть: нацепив надтреснутые очки, он подолгу читал Библию и размышлял о прочитанном, норовя обязательно перекинуть какой-то мосток с библейских текстов на те события, что нынче разворачивались вокруг него. Это у него ловко получалось. Прочтет, как землепашец Гедеон по божьему велению освободил израильский народ от власти мадианитян, и давай все на себя оборачивать: «Ага! – поднимет толстый, как чурка, палец, – кто ослобонил-то, понял, голубь? Зем-ле-па-шец! Так-то и мы, мужики: царя Миколашку спихнули, теперя коммунистов побьем, и вот те – слобо́да…» И глядел из-под очков небесными своими глазами премудро и строго, хитро умалчивая, что, побив мадианитян, Гедеон бросил хлебопашество и сам заделался царем.
Когда Алексею Иванычу пришло в шальную голову, что белые должны его заметить и отблагодарить, он стал мысленно прикидывать, в чем же и как это может выразиться. Очевидно было, что поставят его у власти. Какой именно – волостной или уездной, этого он пока предвидеть не мог, но любая была хороша, на любой показал бы себя. Они б, мужички, закряхтели у него! Он бы им все припомнил, все обиды…
А какие обиды?
Ну, разные. Память на обиды у него была цепкая: одного со школьных лет запомнил – в ребячьей потасовке фонарь Алексею Иванычу припечатал под глазом, с неделю зеленая дуля красовалась; у другого как-то – тоже давно было, перед войной, – взаймы десятку просил, так не дал, сволочь; третий кличку выдумал – «Гундырь», на всю жизнь прилипла, благо детишек бог не послал, а то и они бы так, ни за что, за здорово живешь, век в Гундырях проходили б… Тюфейкин еще этот… Ну, над ним бы он всласть потешился, попрыгал бы у него снегирь чертов!
Но хорошо. Допустим, что будет у него в скором времени власть. А капитал? Богатство? Деньги? Черт-ма. Стало быть, как был мужиком, так мужиком и остался. Не-ет, братки, он на такую дело не согласный. Это ведь при Советской власти деньги – пшик, ништо, а дай господа опять сядут – тогда как? Деньги есть – Алексей Иваныч, разлюбезный человек, а нету денег – Алешка Гундырь, пошел к такой-то матери…
Вот погулял он с полгода, похватал, пограбил, слава те господи, и сыт был и пьян, и нос, как говорится, в табаке, но капиталу-то ведь не нажил? Какой капитал! Четверть спирту, муки чувал, солонины кадушка – одни харчи. Не то надо было брать, не то. Золотишко, вот что. А у кого, спрашивается, брал бы он золотишко? Грабил-то мужика, – какое ж у него золото? Ну, может, где под застрехой, в старом чулке, пятерка-другая запрятаны, не об том речь. Ему не пятерки, не десятки сейчас требуются – тысячи… Десятки тысяч! Сотни!
Вот, братки, об чем речь.
И так, пока сидели в ожидании того близкого часа, когда товарищ Бахолдин и с ним вся власть «аллюр три креста врежут» и новая, белая власть воцарится, не одну ночь с боку на бок проворочался Алексей Иваныч, соображая, где б ему разжиться капиталом.
И вдруг – осенило…
Барыня полоумная, Малютиха!
Ах, мать честная, да как же это он раньше не допетрил!
8
Веселым, звонким перестуком конских копыт, тупым грохотом тяжелых колес гудел старый степной большак. Медные глотки военных труб, залихватские, с присвистом и гиканьем песни, крики и матерная брань в клочья рвали зачарованную тишину осенних дней. Ржали лошади, скрипели колеса нагруженных фурманок, бренчала сбруя, гремело порожнее ведро.
В этом пестром военном лагере все торговали, кто чем: золотишком (пятерками, десятками и нательными крестами), кальсонами, швейными иголками, сахаром, мануфактурой, дегтем, керосином, спичками, шустовским коньяком и даже самоварами. Все награбленное сбывалось с рук по сходной цене, охотно за николаевские и менее охотно – за керенки. Возле обозов особенно кипело и шумок стоял базарный, с зазываньями, с божбой, с магарычами и битьем рук.
Город был близок. Картинно гарцевали щеголеватые офицеры, в церквах трезвонили; крики солдатского «ура» мешались с хриплым гомоном потревоженных галок…
Темными ночами края неба розовели от пожаров. Гулко ухала пушка, пулемет остервенело огрызался по-собачьи, словно сухой мосол жадными зубами дробил: р-р-р!.. р-р-р!..
Красные налетали внезапно, больше по ночам, рубили казачьих бородачей, вкладывая в жестокий мстительный удар страшный смысл вековых обид и мужицких горестей. Шла беспощадная, не на живот, а на смерть, война – странная, диковинная, без ученых диспозиций, без штабных, расчерченных по линейке, планов, похожая на то, как дерутся два смертельно ненавидящих друг друга человека, порешившие про себя – пасть самому или свалить ненавистного.
В селах, охваченных войной, каждый новый день знаменовался каким-либо событием: нынче в Лопатине, допустим, белые кого-то волокут за сарай расстреливать, в поповском доме граммофон «ой-ру» наяривает, куры дурными голосами кудахчут, девка визжит, бабы голосят над опустошенными укладками; завтра в Лопатино стремительно влетают красные, и теперь за сарай уже кого-то другого волокут, и опять-таки бабы воют и куры кудахчут… Нынче Завьяловых спалили, у них трое ребят в Красной Армии, а завтра Кузёмкиных трясут: вековечные мироеды, да еще и старик ихний будто бы на Завьяловых по злобе указал, по его, стало быть, наущению шлепнули за сараем деда Завьялова, когда у того вины и было-то лишь, что фамилия Завьялов.
Новости, новости… события… народ не живет – мечется в страхе, мечется в удивлении.
А в Баскакове – тишь, сонная дрема погожей осени, задумчиво, беззвучно падающий лист, ленивая полуденная перекличка кочетов, перестук цепов на гумне, синичий свист в разукрашенных кумачом и золотом садах…
И всего новостей-то, что баскаковские бабы в храме попа Ивана побили за то, что, скинув подрясник, топтал его ногами, кричал с амвона, что бога нету, что отрекается от религии как от народного опиума и дурмана. Вот об этом лишь все село гудит. Поп Иван смылся ночью невесть куда, попадья глазу на улицу показать не смеет: затолкут, застрамотят осатанелые бабы.
Еще, правда, страшные слухи ползли о каком-то Алешке Гундыре, отчаянном мужике – то ли из Темрюкова, то ли из Камлыка, оттуда откуда-то, из тех краев, верст за двадцать. Будто шайку разбойничью сбил, живут в лесу, в землянках, по ночам скачут, разбойничают, душегубы… Но, как все это было далеко, не у нас, а в деревне испокон века не переводились сказки о разбойниках, то и Алешка занимал баскаковцев скорее как страшная сказка, а не действительная опасность. Волостной же милиционер, местный житель Тюфейкин, которому разбойник чуть ли даже не родней доводился, сказал, что, поскольку уездная Чека взялась за это дело, то и нечего панику разводить – спета Алешкина песенка. В общем, побрехали да и забыли: сюда бандит не доставал, а брехать-то особенно некогда – золотые деньки, самое картошку копать…
Еще клочья тумана стлались невысоко над землей, еще не угадывалось, ясный ли, пасмурный ли зачинается день; сквозь туманную мглу небо сизело смутно, нерешительно как-то, по-осеннему.
Фотей Перепел шустро ковылял за сохой, «мать-перемать» весело покрикивал на сонного мерина, для такого дела выпряженного из сельсоветского тарантаса и до обеда предоставленного в распоряжение Зизи. Она еще, как только подняла профессоршу на рассвете, так сказала:
– Ну, мать моя, нынче ты у меня прикоснешься к землице!
И болели с непривычки руки, чумазые, запачканные землей, неумелые, неловкие. Ломила поясница до потемнения в глазах, казалось, вот еще разок нагнется над бороздой – и рухнет в рыхлую пахучую землю. Пенсне то и дело соскальзывало, падало, повисало на черном шнурочке, то и дело приходилось протирать мутные стекла чем попало – подолом юбки, пальцами, от чего мутный близорукий мир делался еще мутней…
Где-то за туманом, уже слегка порозовевшим, покрикивал Фотей, лошадка всхрапывала, глухо постукивало, позванивало ведро. В саду, в наполовину оголенных вершинах лип переругивались вороны. И когда наконец выше деревьев, сразу вдруг все согрев, взошло уже добела раскалившееся солнце, и Зизи позвала завтракать, и все тут же, среди пыльных лопухов и черно-багровых метелок подсвекольника, уселись на разостланное веретье, словно за скатерть самобранную, не села, не опустилась, а прямо-таки рухнула профессорша, не чуя от усталости ни рук, ни ног, а только одну поясницу – так ее разморило.
Но какое зато блаженство от ощущения расслабленного тела, ничего не делающих рук, ног, которым не надо переступать, спешить за сохой, спины, которой не надо ни сгибаться, ни разгибаться, беспрерывно кланяться борозде, – какое блаженство охватило Агнию! Она за всю свою сорокалетнюю жизнь едва ли когда испытывала подобное.
Бог знает когда управилась Зизи, верно, еще ночью, когда профессорша спала, но поданная ею на завтрак ржаная саламата была так горяча, так пахуча, желтоватое сливочное масло так славно плавилось в крутом коричневом тесте, что даже Агния, однажды уже отказавшаяся от этого блюда («Прости, Зизи, но это не для моего желудка…»), – даже Агния, измученная и обессилевшая Агния, обжигаясь, проглотила несколько ложек и сказала:
– Боже, я никогда не думала, что это так вкусно!
И прилегла на теплое, пахнущее амбаром веретье, полузакрыв глаза, разглядывала бледно-синее, без единого облачка небо, верхушку березы, Фотея и Зизи. Эти насыщались истово, не спеша, не торопясь отвалиться от еды, смачно жуя, старательно облизывая ложку, вздыхая, без пустого краснобайства.
Покончив с едой, Фотей свернул цигарку и, так же как ел, принялся не спеша курить. И только тут его на разговор потянуло.
– Дивлюсь я на тебя, Зинаида Платонна, – усмехаясь, сказал он. – И чего ты задарма хрип ломаешь? Сельсовет, бумажки эти ихи, писанина… ай взять хоть картоха та же, мать-перемать… И на кляпа тебе все это заломилось?
– То есть как это – на кляпа? – Зизи тоже дымила, кашляла, отплевывалась. Цигарка как-то особенно залихватски выглядела в ее тонких грязных пальчиках. – Что ты этим хочешь сказать?
– Да что, – ответил Фотей, – барышня, дворянская косточка, пардон, дрюмтете́, мерси… Я бы, мать-перемать, на твоем-то месте, плюнул бы на все да растер бы… Да, как барин темрюцкай, махнул бы за границу, во Францию там, ай в Ерманию, ай ишшо куда…
– Господи! – пожала плечами, отмахнулась цигаркой Зизи. – Я вовсе не хочу во Францию… Да и на какие бы это мне шиши по заграницам скакать?
– А щекатулка-то? – хитро, заговорщически подмигнул Фотей.
– Какая шкатулка?
– Ну, какая-какая… Вся округа знает – какая, одна ты, мать-перемать, не знаешь… – Откровенная насмешка слышалась в Фотеевых словах. – Тебе, Платонна, от меня грех таиться. От меня и папаша твой, Платон Киститиныч, царство ему небесное, сроду никогда не таился, как я есть верный человек господам Малютиным, слуга до гроба, пущай хоть и господ теперь нету и власть, допустим, совецкая…
– Серьезно, Фотей Иваныч, не знаю, – растерянно сказала Зизи. – Что за шкатулка?
Она прямо-таки, как девочка, до слез покраснела.
– Ишь ты, – покачал головой Перепел, – нету, стал быть, щекатулки… Мне-то, мать моя, все равно, есть ли, нету ли, а по народу одно болтают: есть. Вроде схоронена в комнатушке, где живешь, под полом. И вроде одних «катеринок» тыщ на сто, да опричь того десятками, пятерками золотыми, да кольца, да браслетки, да сережки брульянтовые…
– И намного? – Зизи уже улыбалась.
– На мильён, – уверенно отрубил Фотей.
Зизи так и покатилась, чугунок с саламатой уронила, мотала седой головой, задыхалась от смеха.
– Слышишь, Агнешка? – охала сквозь смех и кашель. – Слышишь? У нас с тобой, оказывается, мильён под полом, а мы и не знаем… Ну, уморил! Уморил, Фотей Иваныч… Ох!
– Ох-то ох, – серьезно сказал Перепел, – тебе, конечно, хиханьки… Только мой тебе, Платонна, совет: с опаской живи, замыкайся покрепше. Народ, сударыня, нынче пошел дерзкой до чрезвычайности… И жизнь человеческая по сейчасошнему времю копейки не стоит, мать перемать. Другого возьми – куренка зарубить не может, бабу зовет, а человека прикокнуть – за мое почтенье, будь любезный!
Позавтракав, поговорив, снова принялись за картошку. И снова было яркое, веселое солнце, прохладная, пахучая земля, глухой железный стук ведра, всхрапывающий мерин и перепелиное беззлобное бормотание Фотея.
Но какой-то неприятный, темный осадок остался на душе от разговоров о «щекатулке». И, кажется, не столько у Зизи, сколько у Агнии Константиновны. Жутко ей сделалось от советов старика «замыкаться покрепше». Улучив минутку, она сказала об этом Зизи, а та только засмеялась, махнула черной от земли рукой:
– Ах, боже мой, чепуха какая!
Совсем уже к вечеру, на ясной, чуть красноватой заре, послышался далекий раскат грома. Зизи в это время с Перепелом сидели во дворе, возле открытой погребицы, перебирали картошку На маленькой пегой смешной лошаденке, сидя неумело, болтая локтями, вьехал во двор старик Нестёрка, посыльный из волости. Он в побирушках всю жизнь проходил, никто в округе его и за мужика-то не признавал, но при Советской власти нищенское занятие бросил, нанялся посыльным и был страшно доволен своей должностью. В старом дворянском картузе с красным околышем, на волисполкомовской пегашке развозил по сельсоветам какие-то приказы и отношения. Он поздоровался с Зизи и кивнул в ту сторону, откуда погромыхивало:
– Чуешь, Платонна?
– Удивляюсь, – сказала Зизи, – такое ясное небо и вдруг – гроза…
– Гроза, гроза! – захихикал Нестёрка. – То, Зинаида Платонна, лапушка, не гроза. Это, братец ты мой, белые Садакову-станцию нынче заняли. Как бы вскорости и у нас не объявились… Вон ведь какая хреновина-то.
Второй день гремело.
Не так, чтоб без устали – с длинными перерывами, со светлыми промежутками солнечной тишины, осеннего покоя. И хотя, если посчитать по часам, тишины и покоя было куда больше, чем пушечного грома, казалось, что гремит все время, не умолкая.
По селу молотилки гудели, их ровный стрекот стоял беспрерывно, привычный уху. Но вот раза два как-то нелепо, странно застрекотало в блеклом, выцветшем небе, и все село высыпало на улицу глядеть – что за чудо. В первый раз гремящая птица пролетела так высоко, что и не разглядеть, а во второй все было видно: колеса на длинных ногах и черная куколка – человек, сидевший в аэроплане.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































