Текст книги "Прозрение Аполлона"
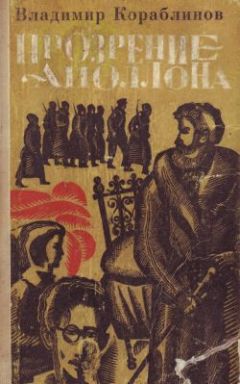
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Здесь легко предвиделся стереотипный вопрос «жоржика», безусловно с прилизанным пробором (как у того красного адъютантика, с каким поругался из-за уплотнения), состоит ли он, Аполлон Алексеич Коринский, в партии коммунистической.
– Да, – твердо ответит професор. – Так точно, милостивый государь, я – большевик...
Лениво в каменных грязных берегах подвала текла ночь, и люди – одни спали в угольной пыли, а другие только притворялись спящими – вздыхали, охали, вскрикивали приглушенно; но и те, что спали, и те, что бодрствовали, все одинаково готовились к тому, что будет завтра.
Итак, он назовется большевиком.
А серьезно ли?
От душевной ли своей правоты, от чистого ли сердца или опять-таки, как всю жизнь, из пустого противоречия, из столь любезного ему желания подразнить, пойти поперек?
Вот это-то именно и надо рассмотреть с полной серьезностью, отрешась от привычной игры.
Остаток ночи Аполлон дружественно, по душам, поговорил сам с собою. «Коли я большевик, – рассуждал он, – то должен, обязан быть марксистом. А какой я к черту марксист! Ну, читал в студенческие годы всякие популярные компиляции по этому вопросу, а чтоб глубоко вникать, штудировать – куда там! Знаменитый «Капитал», на котором большевики дерзко строят свое грандиозное здание, для меня княгиня за семью печатями... Ленин? Но этот мне и того меньше знаком, этого я знаю лишь по его речи на съезде, где он говорил о специалистах, а я, идиотище, пытался ему возражать... Итак, в вопросах большевистской теории мои знания – нуль. Дырка. Ничто. Довольно известный в ученом мире, профессор Коринский – политически, оказывается, как говорит Ляндрес, абсолютно неподкованный человек. Га!»
Спящие заворочались, двое-трое приподнялись, испуганно оглядываясь, недоумевая – что за нелепый звук? Аполлон сконфузился, мысленно ругнул себя: пора бы, пора бы, черт, отвыкнуть от этого дурацкого га́канья... Вот разбудил, встревожил людей, а им отдохнуть надо – измучены допросами, побоями, оскорблениями. «Ну, простите, дорогие мои»... – с какой-то непривычной для себя нежностью, с вниманием родственным поглядел на спящих.
«Да… так что же? По-ли-ти-чес-ки не подкован. Так-с… «Путаник, шалун». Это уже товарища Абрамова определение. Ай-яй-яй! Что, милый друг Аполлоша, стыдно? Признайся-ка! Стыдно. Стыдно и гадко. Вдуматься только: десятилетиями люди (тот же Лесных, тот же Абрамов), отрешась от личного, отдавали себя целиком великому всенародному делу, шли на каторгу, в ссылку… Во имя высокой цели головы клали на плаxe. И мучились в изгнании, и погибали от казней (газеты предреволюционных лет пестрели сообщениями о казнях), а он… он все пошучивал да задирался, лишь бы задираться, да спорил, лишь бы поспорить… «Шалун!»
Пришла пора судить самого себя.
Поглядеть на свою жизнь со стороны, даже с высоты. Все оценить, поставить на места.
Пришла пора!
И Аполлон вдруг легко поднялся высоко над собой и безжалостно, пристально стал себя разглядывать. Ах, как был жалок, пуст и смешон этот огромный бородатый человек, лежащий на громыхающем листе ржавого железа с аршинными золотыми буквами…
Внешне он, конечно, представлял собой фигуру ничего себе – добрый молодец, детинушка, славный богатырь. Но внутренне… не тридцать и три былинных года сиднем сидел, а, почитай, без двух годочков пятьдесят. Да и не только сиднем – слепнем.
И вот уже седина стала просвечивать в бороде, когда понял вдруг, что нельзя человеку вот так, до самой смерти, оставаться ни в тех, ни в сех. Он тогда ночью, в лесу, посмеялся над своими коллегами-учеными, обозвал их куколками. А сам-то, сам, всю жизнь, закопавшись в личные, узкопрофессиональные дела, пошучивая да поплевывая, не куколкою ль прожил?
– Ага! – сказал Аполлон, глядя с высоты на лежащего, чумазого от угольной пыли своего двойника. – Я таки раскусил тебя, голубчик! Хватит взбрыкивать-то! Ничего, что Маркса и Ленина не штудировал, – проштудируешь! Тебе, чертушка, еще не один десяток годков предстоит околачиваться в мире сем, успеешь! Да-с, господин следователь (или как там тебя, распросукин ты сын), человек, которого зовут Аполлоном Алексеичем Коринским, – боль-ше-вик! Да-да-да!
И – никаких шуточек.
«Ну, вот все, кажется, и стало на свои места, – засыпая перед рассветом, подумал профессор. – Пожалуйста, вызывайте. Я готов».
И не то во сне, не то наяву послышался ему довольно близкий гул орудийной канонады.
11
Неисповедимыми путями в любую тюрьму, как бы толстостенна она ни была и как бы хорошо ни охранялась, из вольного мира обязательно проникают сведения о том, что творится за ее пределами. Так в угольном подвале стало известно, во-первых, о повешении на Красных рядах четырех человек, «четырех красных комиссаров», из которых трое были русские, а четвертый еврей, а во-вторых, о наступлении советских войск на всех участках фронта.
Часа через два к этим общим сведениям прибавились новые, дополнительные: имена повешенных назывались – Абрамов и Ляндрес; третий – старик, типографский рабочий, был повешен уже мертвым. Имя четвертого оставалось неизвестным. Относительно наступления красных войск говорилось, что они в десяти верстах от города будто бы и что прошлой ночью советская артиллерия так решительно поговорила с «доблестными и победоносными», что некоторые части белых, преимущественно обозы с награбленным добром, на рассвете покинули город.
Весь день в подвал не приносили ни воды, ни пищи. Люди все кулаки обколотили о дверь – никто не шел, никто не откликался. А к вечеру красные пушки стали бить так, что вздрагивала земля, толкала из недр в цементный пол, а с потолка сыпалась известка.
Ночью во дворе «Гранд-отеля» поднялась какая-то суматоха: гремели колеса повозок, слышались крики, брань, несколько револьверных выстрелов щелкнуло, и все затихло. Стало слышно, как на дворе кротко и ласково шумит дождь. Около часа продолжалось затишье, затем вдруг, словно с цепи сорвался, захлебываясь, по-собачьи залаял пулемет, винтовочные выстрелы рассыпались как попало и опять-таки смолкли враз, словно стрелявшие под землю, в тартарары, провалились…
Медленно, скучно светлело подвальное оконце. Ночь неохотно уходила, не спеша. И, хотя уже совсем рассвело, лампочка не гасла, тлела красновато, устало.
Наконец часов в восемь загремел железный засов, распахнулась тяжелая, окованная жестью дверь и появившийся на пороге круглолицый молодой парень, совсем мальчишка, как показалось Аполлону, весело, звонко крикнул:
– А ну, вылазь, братишки! Советская власть пришла!
Поезд наделал шума, навонял кислой гарью скверного угля и ушел, не постояв и минуты.
Аполлон огляделся. Он был единственным, кого занесло сюда, на этот полустанок, – пустынное, безлюдное место коротких поездных остановок. Железнодорожник в полинялой форменной фуражке стоял в дверях кирпичной казармы и с откровенным удивлением глазел на это саженного роста, бородатое, словно с неба свалившееся чудо в помятой черной крылатке с бронзовыми львами-застежками и в глупейшем соломенном картузике с двумя козырьками.
Кое-чему и Аполлон удивился. Тому, что, кроме него, никто не осчастливил своим посещением сей забытый не только богом, но, видимо, и людьми уголок; тому, что выглядело все тут не так, как месяц назад, когда привозил сюда жену, а по-иному – скучно, грязно, неприветливо. Но больше всего, пожалуй, странному состоянию своей души, тревожному предчувствию чего-то темного, непоправимого, что обязательно должно здесь с ним случиться.
«Вот чертовщина, – подумал он, – это уже мистика настоящая. Неужто ж подвальные приключения так повлияли на мою психику?» Подобные, «дворянские», как он их называл, чувства были всегда ему несвойственны, непривычны и, главное, шли вразрез с его непоколебимой уверенностью в железной крепости своего душевного и телесного здоровья. Он сконфузился даже, что этак оплошал. Ему показалось, что и железнодорожник подглядел эту его минутную слабину и ощеряется с ехидцей… И он напустил на себя какое-то совершенно непристойное, ничуть не вяжущееся с его бородой, крылаткой и картузиком молодечество в бодро, залихватски крикнул:
– Ну, как вас тут бог милует?
На что железнодорожник сказал невыразительно:
– Да живем помаленьку…
И уже сделал было робкий шаг, чтобы продолжить беседу, но Аполлон окончательно смутился, осерчал на себя за «дворянские» чувства, за глупую фальшь молодецкого оклика. Круто повернул от казармы и машисто зашагал по дороге на Баскаково.
«Что-то со мной действительно случилось, – размышлял он. – Чувствительность какая-то дамская… Старость, что ли? Да нет, рановато как будто…»
А ведь и верно, переменился профессор кое в чем. Вот это нехорошее предчувствие, например… Да что предчувствие! Все время, с неделю, что после освобождения из подвала метался, ожидая, когда же прогонят белых за Баскаково, чтобы поехать узнать, что с Агнией, привезти ее домой, – все это время не было дня, чтобы сам на себя не дивился.
Он из тюрьмы тогда прямо в институт пошел, и первый, кого там встретил, был товарищ Лесных. «Ну, слава богу, – сказал Лесных, – очень я, Аполлон Алексеич, за вас беспокоился…» И такая искренняя радость светилась в его лице, в повлажневших глазах, что ответные слова застряли в горле Аполлона, глаза защипало и губы вздрогнули. Прежде, бывало, случись подобное, свое дурацкое «га!» рявкнул бы, да и все. А тут – сам не понял, как это у него вышло, – нагнулся к товарищу Лесных, облапил его, тощего, дробного, в чем только дух держится, да и расцеловал со щеки на щеку, приговаривая: «Слава богу, друг… Истинно, слава богу… Прошла туча над нами…» И не смог говорить дальше, закашлялся, замотал головой. «Что с вами, милый Аполлон Алексеич?» Товарищ Лесных опешил, растерялся. Аполлон рукой лишь махнул. «Такие люди! – сказал сквозь слезы. – Такие люди погибли…»
На третий день хоронили казненных, и он стоял возле обтянутых красным кумачом гробов, глядел неотрывно, так, словно насквозь хотел проглядеть темные покрывала, наброшенные на изуродованные лица мертвых. Что до этих последних дней связывало его с ними? Да ничто. Дениса Денисыча, правда, давно, лет пять, знавал, иной раз гостевали друг у друга, но ведь и только… С Ляндресом через Ритку познакомился, всегда посматривал на него с насмешкой – поэт! «Черны топоры…» Абрамова всего раза три-четыре встречал по делам – насчет дороги, насчет кирпича, да еще весной с глупой жалобой по поводу уплотнения… Одну, последнюю ночь вместе на рогожках рядком пролежали. Что ж до Степаныча, так того сроду и в глаза не видел, пока не мигнул ему в то страшное утро из-под рогожки…
А вот стоял над открытой могилой (их прямо там, на Рядах, похоронили), и слезы текли, и спазмой перехватывало горло. Прочнейшие нити связывали их теперь, и были они ему как родные, как самые близкие, любимые и дорогие товарищи…
…Дорога от полустанка с версту лесом шла. Сентябрьские заморозки раскрасили деревья в желтое, красное, коричневое и лиловое. Листва поредела заметно, сквозь нее уныло просвечивало низкое мокроватое небо. И все было сыростью пропитано: ветки раскидистых дубов, порыжевшая трава, лесная дорога с поблескивающими зеркальцами стоячей воды в колеях.
…А дома, за те дни, что провалялся в грязном подвале, – ровным счетом ничего не случилось. В квартире все по-прежнему было, все так, как при последнем посещении, когда ночью писал жене открытку. Даже ящик письменного стола, где он рылся, ища конверт, так и остался полуоткрытым, забыл задвинуть. В почтовый ящик заглянул – пусто. Никто из сослуживцев к нему не спешил зайти на огонек, проведать, и он ни к кому не пошел. Внешне в доме с эркерами ничто не изменилось, профессорский корпус стоял незыблемо. «Куколка!» – усмехнулся профессор.
Вечером зашла дворничиха. Поохала – как это профессор в тюрьму угодил. Спросила, не надо ль чего, удивилась, что до сей поры профессорша не приехала, и высыпала последние институтские новости. Оказывается, кое-какие потрясения и с куколками произошли: Иван Карлыч, например, с белыми смылся; Благовещенской Лизочки скороспелый муженек, краском, «энтот, из калмыков, что ль, ай кыргизов», как тогда по весне ушел с войском, так и нету его… «Ну, она тут время не теряла, с каким-то охвицеришком снюхалась, убегла, мать-то, знаешь, в голос кричала, волосы на себе рвала…»
– Да ты, слышь, ел ли чего нонче-то? – спросила дворничиха. И услышав, что – нет, ничего не ел, сбегала домой, притащила хлеба, картошки, соленых огурцов.
И опять что-то защипало в глазах, запершило в глотке: «Экая доброта баба! Ну что я ей, а вот поди же…» Спросил про Стражецкого, где он и что с ним.
– В лесу, надо быть, где ж ему еще… ай в Дремове.
– Почему в Дремове?
И тут только узнал, за что дремовские бабенки привечали пана Рышарда. Решил, что завтра же сходит проведать старика.
Светало поздно, да еще день выдался пасмурный, с моросящей холодной мглой, и хотя, шел седьмой час утра, в лесу стояли ночные сумерки. Мокрая опавшая листва приглушенно шуршала под ногами; казалось, что кто-то, невидимый, крадется рядом, хоронясь в серой чаще молодого мокрого осинника, тихонько вздыхает: о-хо-хо… Скучен, нерадостен рассвет непогожего дня в осеннем лесу.
Чем ближе подходил к поляне, тем светлей становилось. Среди голых древесных стволов мелькнула буро-красная, почерневшая от дождей кирпичная кладка заводских стен; сторожка, навес, под которым спал, летняя печурка – все стояло на своих местах, но не было веселой зелени травы и листьев, не было солнышка, и поэтому все как-то по-другому выглядело, не так, – резко, черно, неуютно. Почему-то чайник валялся на земле, и крышечка от него далеко откатилась в лужу. И дверь в сторожку, распахнутая настежь, раскачивалась на ржавых петлях, поскрипывала басовито, рычаще, словно сама с собой разговаривала, ворчала на беспорядки вокруг: мусор, вороха опавших листьев, подмести некому, чайник вон в луже валяется, ржавеет…
А пан Рышард как-то странно, неудобно лежал на своем топчане, завалившись головой на грядушку; глаза его стеклянно таращились бельмами в потолок, и голубовато-белые костлявые пальцы судорожно вцепились в рваный овчинный полушубок. Лицо было спокойно, но чуть заметная гримаса кривила губы мертвого старика, и виделись в этой гримасе не то боль, не то страх, не то отвращение…
…Войдя на широкий двор малютинской усадьбы, Аполлон остановился, забыл, куда идти, в каком крыле дома жила блажная барыня. Пока раздумывал да соображал, розовый аккуратный старичок, откуда ни возьмись, спросил, покашляв, как бы в некотором замешательстве, не из города ли он, не господин ли товарищ профессор и не супругу ль свою, Агнию Константиновну, разыскивает…
– Ну да, ну да! – обрадовался Аполлон. – Как она тут? Дома? Никуда не выезжала?
Старичок еще больше закашлялся.
– Вон ведь, мать-перемать, дело-то какое, – сказал. – Пожалуйте-ка ко мне, в чуланчик мой. Все вам, сударь, доложу… Все как есть объясню в хрологическом порядку… мать-перемать!
12
Несмотря на то, что в городе снова восстановилась Советская власть, хозяин дома № 15 по Сапожному переулку, М. Л. Пыжов, пребывал в отличном настроении. Ему, по его мелкой природе, любая власть подходила, при любой он чувствовал себя одинаково хорошо. И в то время как все человечество корежило от великих потрясений, он преспокойно оставался все тем же домохозяином, владение которого по своей незначительности не подлежало национализации, а личная деятельность была до того ничтожна, до того незаметна с высоты строения новой жизни, что разглядеть ее вряд ли кому удавалось, за исключением разве известного нам милиционера Капустина: как и Полуехтова-старшего с его сомнительными пирожками, он беспощадно гонял с вокзальной площади и М. Л. Пыжова, торговавшего вразнос маковниками, табаком-махоркой и тыквенными семечками.
Причин же, по каким М. Л. находился в особенно хорошем настроении, было несколько. Первейшая из них заключалась в том, что наконец-то вместо неинтересного, пустого и убыточного жильца, платившего ничего не стоящими бумажками, Денис Денисычеву квартиру занял человек положительный и достойный, некто Дидяев, который обязался производить расчет дровами и сахарином. Отличный березовый полуаршинный швырок в количестве двух кубических саженей уже находился в крепком пыжовском сарае; первый взнос сахарина Пыжиха пустила на приготовление семи фунтов железной твердости маковых жамок, каковые в данную минуту М. Л., перестилая бумажками, укладывал в специальный чемоданишко. Война утихла, и можно было, благословясь, в толчее вокзальной площади начинать свою мелочную торговлишку, которая, ежели по правде, особых барышей не приносила, но иной раз давала возможность из пестрого потока спешащих, мечущихся дорожных людей выудить за бесценок кое-что, на чем можно было и поживиться.
Существовали и другие причины хорошего настроения М. Л. Пыжова. Похоронив Легенину старушку, он, пользуясь одинокостью Дениса Денисыча, произвел тщательное обследование его имущества. Против ожидания, он ничего стоящего не нашел у этой «музейной крысы». Мебелишка была старая, побитая шашелем; в многочисленных шкатулочках и укладках хранилась сущая дребедень: крохотные нарисованные на эмали портретики каких-то расфуфыренных дам и господ в париках с косичками, фарфоровые безделушки да с десяток икон такой черноты, такой безнадежной ветхости, что на растопку разве только…
Из предметов порядочных, полезных один лишь ковер турецкого тканья и старинные трехпудовые стоячие, в виде башни, часы, «кутафья», привлекли внимание Пыжова. Эти вещи тотчас перекочевали на половину М. Л. и до поры до времени приютились среди прочего пыжовского добра, ожидая выгодного покупателя. Да еще весь бумажный хлам из легенинской рухляди прихватил М. Л., сообразив, что годится на завертки в его мелком торговом предприятии.
Он ни минуты не думал, что совершает кражу – боже избавь! – вещички эти Денис Денисычевы засчитывались им как бы в возмещение расходов на похороны старушки Матвевнушки…
Уложив товар в торговый чемоданишко и приодевшись в затрапезную сиротскую одежонку, чтоб в случае чего, ежели сцапает милиция, разжалобить нищенским своим положением, совсем уж было собрался М. Л. идти со двора, как послышался робкий стук в дверь, да и не стук даже, а что-то вроде царапанья собачьего. Никто никогда не захаживал к Пыжову, чаев-разносолов он не водил ни с кем, и ежели кто и стучался ненароком в его обитую черной клеенкой дверь, так это нищие-побирушки, которых М. Л., сказать кстати, терпеть не мог.
Ну, конечно, побирушка!
Стоял на пороге щуплый мальчонка в каком-то немыслимом, подпоясанном солдатским ремнем капоте, в залатанных сапожишках, с котомочкой жалкой за плечами, держа в руках странный предмет – папку не папку, нечто вроде футляра из двух фанерных дощечек, аккуратно перевязанных бечевкой. Заячий, неумелой, видно, рукой сшитый малахай был великоват, наползал на глаза, светящиеся так доверчиво и кротко, что даже будто бы сиянье, исходило от некрасивого, исковырянного оспой лица нищего мальчонки.
– Проходи, проходи! – занудливым голосом закричал Пыжов. – Эка шляются тут бездомовники…
– Да нет, – тихо сказал мальчонка, – вы не подумайте… Я вот что…
И протянул бумажный листок, на котором рукою Дениса Денисыча начертано было: «Сапожный пер, д. № 15, Легеня Д. Д.».
– Ну-у? – удивленно воззрился Пыжов. – Это на что же тебе покойник-то понадобился?
Мальчонка вытянул шею, весь напрягся, вслушиваясь в слова Пыжова.
– Погромче, – сказал, – а то я с приглушью…
– Нету, говорю, такого, – повысил голос Пыжов. – Померши они.
И, обозлясь вдруг, что вредный же человек этот Легеня, и после смерти ему докучает, замахал руками на малого:
– Иди, иди! Некогда мне тут с тобой растабарывать!
Вытеснив его с порога, захлопнул дверь на аглиц-кий самозакрывающийся замок и, все бурча сердито, не добром поминая Дениса Денисыча, поплелся на вокзальную площадь торговать крепчайшим самосадом и не очень сладкими, на дидяевском сахарине, маковниками
Путь был не близкий. Пока шел – осень кончилась, пришла зима, замелькали, зароились белые мухи, и все гуще да гуще падали сухие колючие снежинки, откуда ни возьмись, взаправдашняя метелица закружила, да так, что – пришел на вокзальную площадь, а она вся белая, и черные люди на ней видны далеко и отчетливо, как вороны на снегу. «Это ни к чертовой, матери! – подумал Пыжов. – Сейчас проклятый снегирь возьмет на заметку…»
Но все обошлось благополучно, милиция не показывалась, и Пыжов, хотя и не без оглядки, конечно, дерзко примостился возле самых вокзальных дверей и торговал бойко, даже и не зазывая: покупатель нынче пер дуром, М. Л. только успевал отмеривать стаканами махру да культурно заворачивать черные, липкие маковники в аккуратные, правда исписанные, бумажки, вырванные из Денис Денисычевых тетрадок.
А метелица все шутила и пошучивала, прохладно становилось, сиротская одежонка не грела. И уже подумывал М. Л. сворачивать лавочку, топать до хаты, к Пыжихе, предвкушая комнатное тепло и смачный, парной дух суточного борща, как подковылял к нему на костыле бородатый красноармеец, раздевши, в одной гимнастерке, видно, из вагона только выскочил – поискать чего-нибудь из съестного. Но никого из торгашей уже не было у вокзала, один Пыжов от жадности непомерной держался в такую стынь; да и у него всего лишь с десяток маковников оставалось в чемоданишке.
– Давай их сюда! – обрадованно воскликнул красноармеец.
И пока Пыжов озябшими пальцами завертывал в тетрадочный листок последние маковники, бородач успел рассказать, что бывал уж тут, в этом городе, с месяц стоял весной на постое «у ограмадного тутошнего профессора», а теперь отвоевался, стал быть, едет домой по чистой по причине перебитой в коленке ноги; что «баба дома-то уже, поди, в отделку заждалась… Да, впрочем, баба – что, дерьмо, хотя и без них, паскуд, не проживешь… но главная вещь – деточки, и надо же им какого-никакого гостинчика привезть, а то ждут же папашку-то…»
И хотя сроду не бывало детей у Пыжова, а Пыжиху свою он и вовсе за человека не считал, тем не менее, из уважения к покупателю, поддакнул бородатому вояке насчет деточек и даже пожелал ему счастливой дороги и полного семейного благополучия.
Четыре долгих года топтал мужик землю, в какие дали ни закидывала его солдатская дорога, три пары сапог истрепал, седина прошила бороду белыми прочными нитками, а дня такого не было, чтобы хоть разок, хоть во сне не вспомнил бы родимую свою деревню Темрюково, весенний свист птички иванка, мирный дымок из черепянной трубы, веселые звонки играющих детей…
Но чаще всего детей вспоминал, как, придет денек, встретится с ними, как из вещевого мешка гостинец достанет, порадует. Да только вот время такое – война, скудость в харчах, обнищание людей… Какие гостинцы! В городе Ростове, в развалинах разбитого дома, подобрал жестяную коробку из-под чая, ярко, пестро разрисованную потешными фигурками китайцев, да в конторе разгромленного беляками какого-то учреждения – хитрую железную машинку, пробивающую дырки в бумаге, и все сложил в мешок – на гостинцы.
Нынче у вокзала маковых жамок прикупил, и в самый раз пришлась коробка с китайцами. Вернувшись в вагон, переложил маковники из бумажки в коробку и порадовался: эх, мать честная, теперь вот гостинец форменный!
Бумажку же, в какую Пыжов завернул ему покупку, расправил, разгладил ладонью и, как место его в битком, ровно селедками, набитом вагоне приходилось на самом верхотурье, у фонаря, приладился со скуки дорожной разбирать то, что было написано. Он сперва полагал, что это какая-нибудь приходо-расходная волокита, конторская бумажонка, какие во множестве, носимые ветрами, валялись на улицах городов по причине разгрома беляками ненавистных им советских учреждений. Но, усмотрев среди слов восклицательный знак, «нет, – подумал, – не волокита, та без восклицательных живет…».
Поезд полз не спеша, хоть пешком рядом иди, подолгу стоял на станциях, а то и на перегонах, в степи. Делать было решительно нечего, все спали кругом, а ему спать не хотелось ни капельки, потому что путь его подходил к концу. И так, с трудом, при скудном свете догорающего, вот-вот норовящего погаснуть огарка, он прочел следующее.
«…От погибели в едином шаге пребывал. Но все прошло, все позади осталось. И вот, одолев препоны, стоял на высоком холме родного Татинца, где некогда капище Телигино щерилось конскими черепами, из-за коих мертвыми деревянными очами глядели идолы…
Ныне тут хоромина высилась – низ о четырех, верх об осьми углах, и пять шеломов, что пятеро богатырей, над причудливой кровлей – один посередке, другие по сторонам. И кресты позлащенные, числом также пять, на каждый шелом по кресту, мерцали в низком предзимнем небе.
А вдали город был – знакомые стены, сизые дымы из татинецких очагов – родина, какой ничего нет краше и желанней…»
«Ах, и беспокойная ж наша русская нация! – подумал красный боец, аккуратно складывая прочитанную бумажку и пряча ее в карман гимнастерки. – Все ходим, все мечемся… Но родину, пепелищу родную никогда не забываем…»
Ему не спалось, раненая нога мозжила в коленке, к непогоде. За окошком вагона постанывало, поохивало, посвистывало. Октябрь гулял по степи, справлял свое дело.
Да и какой сон, когда до желанного Темрюкова с десяток лишь верст оставалось, и такой близкой мнилась встреча с женой, с детьми… В воображении рисовал себе, как старый Валет сперва не узнает, забрешет сипло, простуженно, как на чужого, а потом с радостным визгом станет кидаться на грудь, норовя лизнуть в лицо. «Да жив ли еще и Валет-то? – вздохнул красноармеец. – Ведь эка сколько годов утекло!»
И тут свечной огарок в фонаре пыхнул и погас. И сразу, с ходу поезд, резко затормозив, остановился. Все повскакали с мест, загалдели.
– Станция Березай, кому надо вылезай! – дурашливо, протодьяконским басом возгласил кто-то во тьме.
И прежде не раз этак же случалось останавливаться средь поля, от плохого топлива стыли котлы, но сейчас, кажется, не в котлах было дело. Привычным ухом, сквозь лязг буферов и галдеж встревоженных пассажиров, красноармеец уловил негромкие револьверные щелчки. Вдоль вагонов бежали, кричали люди. Бухнула дверь – и яркий свет резанул в глаза.
– Спо-кой-на-а! – тенористо крикнул вошедший в вагон человек с фонарем. – Без паники чтобы… Какая есть у кого золотишко… ай что из ценностев, прошу сдать немедленно! Под расписку, ясно дело… Симка! Пиши фитанец: кольцо золотое… Но-но! Сымай, сымай, папаша, а то с пальцем оторву!
Женщина завизжала: «Бандиты! Изверги!»
– Ну, цяво, цяво! – гугняво прикрикнул тенористый. – Не режут тебя ж то…
– Да нето Алешка? – свесив с полки головую всматривался красноармеец. – Алешка и есть…. Эй! Слышь… предводитель!
Задрав голову, Алексей Иваныч глядел наверх – кто это его окликнул.
– Суседа не признаешь? – насмешливо продолжал красноармеец, выпрастывая костыль. – В бандюги, стал быть, заделался? Ай, страм-то какой…
– Кто за целовек? – бешено крикнул Гундырь.
– Сволочь гнилая! – сквозь зубы, задыхаясь, сказал красноармеец. – Это в ту пору, стал быть… как мы ежечасно жизню свою за мировую революцию не жалели… Так на ж тебе, гадюка!
Костыль, скользнув по плечу Алексея Иваныча, грохнулся об пол.
– А-а… – тихо, ласково протянул Гундырь. – Во-он оно, значится, кто ты есть… Ну, с приездом, с приездом, сваток… со счастливым возвращеньицем!
И, не целясь, из крохотного офицерского браунинга, всадил в земляка четыре пули.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































