Текст книги "Прозрение Аполлона"
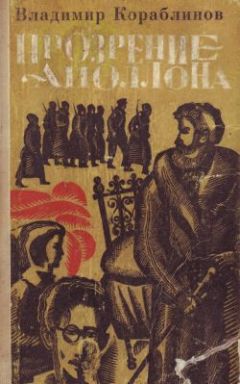
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
С каждым днем пушечная перебранка делалась все слышней, все отчетливей. Наконец прошел слух, что уже и в Камлыке побывала конная разведка белых; выходило, пустяк и до Баскакова, какие-нибудь пятнадцать верст, безделица.
И тут почему-то замолчали пушки, наступили тихие, безмятежные дни.
Веселый милиционер Тюфейкин занимался делом мирным и полезным – с женой Настасьей и сынишкой копался на огороде, собирал урожай («Война войной, тентиль-вентиль, а жить-то надо!»). Все в это утро веселило его: крупная овощь на огороде, теплынь, тишина, отсутствие происшествий по волости. Он уже какой день дивился – Алешка Гундырь словно сгинул, ни слуху ни духу. Приходило в голову: а жив ли? Может, подранили тогда, возле скирд и, хотя убечь-то убег, конечно, да там и околел на своих болотах, как кобель бешеный… А может, и затаился, с ним, тентиль-вентиль, с чертом ухо востро держи…
Сдвинув на плешивую макушку красноверхий милицейский картузик (за эту красную отметину милиционеров тогда называли снегирями), из-под ладони глянул на солнце. Время к обеду шло, можно и передохнуть маленько. Крикнул: «Шабаш, ребята, перекур!» – и пошел напиться. В конце огорода из-под колодинки тонким жгутиком бил светлый холодный ключ; тут была небольшая копанка. Наполнив ее, ключ шибко, звонко бежал вниз по извилистому оврагу – далеко, до самого большака, и там, порядочно разлившись, нырял под деревянный мосток, а уж дальше тек неспешно, именуясь речкой Сенютинкой.
Напившись и поплескав ледяной водой на разгоряченное лицо, Тюфейкин присел на кучу ботвы отдохнуть, привычно принялся вертеть свою диковинную, без табака, цигарку. Пригревшись на ласковом солнышке, лениво размышлял о том о сем. Например, что жизнь крестьянская при Советской власти образуется хороша, надежна; что вот пережить бы эту войну – и дела пойдут как по маслу… А то нехватки много – ни ситцу, ни керосину, пустая кооперация – одни полки… Ну, конечно, дай только побьем беляков, сразу полегчает.
Еще удивлялся Тюфейкин, до чего ж завистны бабы на работу: ведь сказано – перекур, а Настёнке это вроде бы и не касается, все копается, не разогнется.
Мальчишка на старую яблоню залез, заприметил на самой верхушке чудом уцелевшее розовое, налитое яблочко; норовит достать, а высоко, сучья наверху тонки, не дай бог, обломятся… «Эй, слазь, постреленок! Кому говорят, ведь расшибешься, паршивец!» Ну что ж за упрямый малый, характерный! Хоть кол ему на голове теши – все ништо…
Овраг рассекал рощу надвое.
Восьмеро вооруженных всадников молча ехали вдоль говорливого ручья. В эту узкую, глубокую расщелину, поросшую диким колючим терновником и бурьяном, никогда не залетал ветерок, тут была парная духота.
Часам к двенадцати, когда солнце выкатилось на середину неба, стало и вовсе невтерпеж. Всадники расстегнули воротники рубах, завистливо поглядывали на ручей: вот бы хоть маленько освежиться!
– Ну, мать честная, что за баня! – спешиваясь, сказал старшой, широкомордый благообразный казак с бородищей-лопатой и аккуратно, под горшок, подрубленными волосами. – Давайте-ка, ребята, трошки ополоснемся, а то, ну прямо сказать, никакого терпежу нету…
Он умылся из ручья и, перекрестясь, прилег в холодке.
Быстро поскидав гимнастерки, казаки кинулись к воде. Ручей был мелок, воробью по колено, только что, верно, ополоснуться. Напились, набрали во фляжки студеной воды, из пригоршней поплескали на потные, разгоряченные лица, на головы, на гимнастерки и прилегли покурить.
– Эх, война! – вздохнул один, молодой, голубоглазый. – Чтоб ей, анафеме, провалиться…
Он не курил, лежал на спине, глядел в высокое, чуть по-сентябрьски полинявшее небо, ровное, пустое – ни облачка, ни птицы.
– Ты что? – строго спросил старшой.
– Да что, – не отрывая взгляда от спокойной синевы, ответил голубоглазый. – Дюже, братцы, наскучило… С души прет.
– Прекрати, – сказал старшой. – Какая-никакая, а война. По военному времю, знаешь, что за подобные разговорчики полагается?
Голубоглазый знал. Все знали. Не один случай был на памяти, когда такого вот, разговорчивого, выводили куда-нибудь на пустырек, где и кончалась его нескладная, суматошная жизнь, где наконец-то обретал он долгожданный и теперь уже вечный покой.
– А ведь это ты, Канюков, не впервой язык распущаешь, – продолжал старшой. – Намеднись кто брехал, что у бога, дискать, все равные – хучь пущай белый, хучь пущай красный… а? Кто, я спрашиваю? Ты! Смотри, милок, не добрехаться б тебе. Вот погляжу, погляжу, да и лопнет моя терпенье…
Молчал Канюков, глядел в небо. Там, откуда ни возьмись, двое коршунов схватились драться: столкнувшись, разлетались далеко в разные стороны и, описав в небе огромное полукружие, опять налетали друг на дружку, сталкивались, камнем падали вниз и снова разлетались, чтобы сойтись в бою.
– Теперь опять-таки возьми во внимание – кто ты такой есть? – монотонно, скучно бубнил бородач. – Что ты, значится, за птица? Ты, Канюков, есть перебежчик, вот кто. Вчерась – там, нонче – тут… Да ты с нами в баню-то ходил ли?
– Не-ет, – удивился голубоглазый, – А при чем баня, господин урядник?
– А при том, Канюков, баня, что на тебе ишшо грязь – и та красная. Понял? Твоя сейчас какая должность? Не языком балабонить, а на деле показать свою усердию. Для чего я тебя, дурака толстопятого, и в разведку-то взял… Допер ай нет?
– Так точно, господин урядник, допер…
– А допер, так встать!
Канюков поднялся, стал навытяжку перед бородатым. Где синева небесная? Где вольные, парящие над миром птицы? Нету ничего. Мочальная борода, тусклые белесые гляделки, шея гладкая, бычья…
– Ну, ладно, – миролюбиво, но все так же скучно, сказал старшой. – Покурили? Айдате, ребятушки…
«Снохач, сволочь, видать по всему…» – прыгая на одной ноге, не сразу изловчась попасть в стремя, чертыхнулся про себя Канюков.
Тупик оврага был крут. Кони, горбатясь, оседая на круп, далеко, судорожно выкидывая передние ноги, напрягаясь всем телом, рывками одолевали глинистую кручку. Наконец все восьмеро выскочили из оврага. Перед ними были черные вскопанные огороды; кучи ботвы и неубранной картошки рыжели и розовели на черном; вдалеке мелькали бабьи платки.
А прямо перед всадниками, развалясь на ботве и, видно, задремав, надвинув на лицо красноверхий картузик, лежал милиционер.
– Папашка! – отчаянно закричал Тюфейкин-младший с яблони. – Казаки, папашка!
Милиционер вскочил и, пригибаясь, кинулся бежать к хатам.
– А ну, Канюков! – подмигнул бородач.
Необыкновенно долго, мучительно долго тянулся этот вечер. Зизи молчала замкнуто, сурово, отчаянно дымила вонючими папиросками. Она пришла из конторы поздно; ее сопровождал коренастый, немолодой уже человек с серым, буроватого оттенка лицом, усеянным мелкими синими пятнышками. В черном городском пальто, в кепочке с пуговкой, в брюках, выпущенных поверх сапог, он походил на средней руки мастерового, на типографского наборщика или шахтера, судя по нездоровому цвету лица. Агния Константиновна знала его: это было начальство Зизи, председатель сельского Совета товарищ Корчагин, действительно бывший шахтер. Он притащил большой мешок, спросил: «Куда?» Зизи молча откинула крышку сундука, выбросила оттуда какую-то платяную рухлядь, показала – вот сюда, мол. И когда товарищ Корчагин сгрузил в отверстую пасть сундука свою ношу, завалила корчагинский мешок теми же своими юбками и накидками, какие только что выбрасывала.
– Пожалуй, так-то ладно будет, – сказал председатель. – Вас, Зинаида Платоновна, надо полагать, не тронут, дворянка все ж таки, помещица… – сверкнул крупными зубами, засмеялся. – Ну, счастливо оставаться, скоро свидимся, я так мыслю…
Деликатно, едва касаясь, твердой, негнущейся ладонью пожал обеим женщинам руки, козырнул по-военному и ушел.
И лишь когда уходил, заметила Агния, что городское черное пальто товарища Корчагина перепоясано пулеметными лентами и винтовка через плечо.
– Что это за мешок? – спросила, кивнув на сундук.
– Да так… Дела. Документы, печать, – не сразу ответила Зизи. – Завтра, кажется, генералы пожалуют, Сегодня оставили визитную карточку. Слышала про Тюфейкина?
И на весь вечер замолчали. Сидели, не зажигая огня. Не о чем им было говорить, каждая думала о своем. Далеко отодвинулись, исчезли из поля зрения «кипарисовые ларцы», супруги Мережковские, Петербург, – вся та легковесная, выдуманная жизнь, что связывала их в юности. Эта жизнь была, конечно, изящна, мила, но она давно кончилась, о ней и думать забыли. Далее шла другая жизнь, подлинная – у Зизи в сельсоветских делах, в мелких хлопотах по деревенскому хозяйству, а у профессорши и вовсе какая-то незначительная, ограниченная квартирой в профессорском корпусе, вечной мигренью и противоборством с чудачествами мужа. (Странно, между прочим, но ее совершенно оставили головные боли, неужели деревенский воздух?)
Вскоре до Агнии донеслось ровное, чуть хрипящее дыхание Зизи. «Вот счастливица, – подумала, – сразу взяла и уснула…» И вдруг что-то глухо стукнуло на чердаке, над головой, скрипнула потолочная доска, с легким шуршанием сверху посыпалась земля… И еще стук. Явственные шаги. И сыплется, сыплется с потолка…
– Зизи? – громко прошептала профессорша. – Слышишь, Зизи? Кто-то на чердаке… Да проснись же!
Ей сделалось страшно, она хотела крикнуть – и не смогла, что-то перехватило в горле.
– Зизи…
Она беззвучно шевелила непослушными, пересохшими губами, а шаги уже топали в сенях, и ей было слышно, как кто-то раза два-три подергал за скобу и, чуть помедлив, со страшной силой рванул дверь. Крохотный железный крючок, негромко звякнув, упал на пол, и дверь распахнулась.
С далеко вперед протянутым фонарем в проеме, невидимый из-за бьющего в глаза света, стоял человек.
– А-а!.. А-а-а! – дико, дурным голосом вскрикнула Агния.
– Ну, цяво, цяво, – гундосо, ворчливо прозвучало от двери. – Ну, цяво айкаешь? Не режут пока ж то… Давай, стара транда, подымайся, дело есть…
Утром, часов в пять, едва рассвело, в окошко к Зизи деликатно, согнутым в суставе пальцем, постучался Фотей Перепел. Он затевал до обеда перебрать осталец еще не ссыпанной в погреб картошки, ему нужен был ключ от погребицы. Он раз и другой постучался, ему не ответили. «Вот, мать-перемать, дрыхнут, – сказал, – барыни… Мать-перемать!»
Он толкнул дверь, она оказалась незапертой. Вошел в комнату и остолбенел на пороге: какие-то бумаги были раскиданы по всему полу, какая-то одежда, рухлядь. Возле сундука, бесстыдно заголенная, раскинув руки, лежала профессорша. Из-под кучи подушек на постели виднелась седая вскосмаченная гривка Зинаиды Платоновны.
Обе были задушены.
А часам к восьми с песнями, с гайканьем и присвистом по селу пошла-поехала удалая разбойничья конница генерала Шкуро. И закудахтали куры по дворам. И кого-то поволокли за сарайчик расстреливать… И завыли, запричитали бабы.
9
Вторую неделю жил Аполлон Алексеич в лесу у Стражецкого, наслаждаясь чистым воздухом и абсолютной свободой. Не надо было ни подлаживаться к капризным и болезненным настроениям Агнии, ни раскланиваться с сослуживцами и при встречах поддерживать с ними неинтересные, глупейшие разговоры о политике, ни читать газет и даже не думать. Лес, безлюдье, тишина первозданная – что может быть лучше?
Он тогда пришел ночью, в сторожке пана Рышарда было темно и тихо. Профессор постоял возле двери, прислушался – ни звука, лишь где-то глухо, видно в печной трубе, монотонно, скучно сверлил сверчок.
Долго прислушивался Аполлон Алексеич: тишина мертвая, один сверчок. Наконец, когда ухо привыкло к унылой дрели, за дверью стали различаться и другие звуки: шлепала капля из рукомойника, попискивала, шуршала мышь; изредка, как плохо натянутая гитарная струна, дребезжало разбитое, склеенное бумажкой стекло в оконной раме. А человека так и не было слышно.
– Пан Рышард… Пан Рышард! – негромко позвал профессор и легонько постучал в окно.
Ни звука в ответ. Могильное молчание.
«Да жив ли? – с тревогой подумал Аполлон. – Статочное ли дело, чтоб старики этак спали – ни всхрапа, ни оха… Что ж тут мудреного, если и умер, – восьмой десяток, не шутка, одинокая, неустроенная жизнь…»
И только подумал так – в каморке послышалось бормотание, быстрое, невнятное, приглушенное.
– Пан Рышард! – снова окликнул Аполлон.
Бормотание прекратилось, минуту стояла тишина, и вдруг пошел храп – со взрывами, с захлебыванием, с присвистом…
Профессор постоял, подождал еще немного и, махнув рукой, пошел искать пристанище.
Он устроился под навесом, на куче какого-то строительного хлама. Минуту-другую с интересом послушал далекую перекличку молодых совят и заснул крепко, здорово, без сновидений, словно умер на несколько часов, с тем чтобы на рассвете чудесно и радостно воскреснуть.
Но он спал так сладко, что воскресение из мертвых произошло далеко не на рассвете.
Стражецкий проснулся не намного раньше: солнце уже поднялось над верхушками деревьев и заглядывало в дребезжащее оконце. Болела голова и казалось, что темя покрыто сеткой мелких трещин, как лак на старой картине.
Было плохо.
Ох, эти ужасные первые мгновения после тяжелого, нездорового сна…
Мысли… мысли… мысли…
Неясные образы. Обрывки воспоминаний.
Зачем он здесь, в этой неуютной, грязной сторожке?
Где та тихая, зеленая уличка в милом сердцу тысячелетнем Сандомеже? Тот дом под красной черепичной крышей, весь в цветах, весь в зелени? Маленькое, никому не мешавшее счастье учителя чистописания Рышарда Стражецкого?
Ничего нет. Дым и грохот войны. Горящие поля окровавленной Польши. Безрадостная, серая Россия. Заплеванные станции. Холодные бараки беженцев.
И вот – сторожка…
Дрожащей рукой потянулся к черной бутылке, поглядел на свет – пустая. Понюхал горлышко, сморщился, помотал головой.
– Э, пся крев… Не оставил на утро, лайдак!
Басовой струной задребезжало окно. Стражецкий вздрогнул, отер грязным платком запотевший плешивый лоб. Да, то так: новый ненавистный день наступил, надо вставать, двигаться, жить.
Проше бардзо.
И он сходил к ручью, умылся, набрал в чайник студеной воды, разжег сложенную из десятка кирпичей печурку. И уже в чайнике начало попискивать, посвистывать – вот-вот закипит, тогда только профессор изволил продрать глаза и, что-то благодушно бубня, отплевываясь, жестоко скребя в спутанной бородище, вышел из-под навеса. Словно в бочку, еще не проснувшимся голосом прогудел:
– Рад приветствовать вас, пан Рышард!
Весь мятый, весь в мусоре, в репьях, в соломе…
– Крепко ж вы дрыхнете, уважаемый! Ночью стучал-стучал, звал, а вы как мертвый.
Стражецкий оторопел: профессор?!
Аполлон уселся на толстый пень-дровосеку, блаженно щурясь под ласковым солнышком, таскал из бороды мусор. Стражецкий вертелся у печки, стараясь быть от профессора подальше, не дышать на него. А тот сидел на дровосеке, громоздился идолом. Жмурясь, зорко поглядывал медвежьими глазками, посапывал, принюхивался.
– Зашибать стали, пан Рышард?
– Э-э… зашибать! – слабо отмахнулся Стражецкий. – На моем месте и вы бы… пшепрашам, пан профессор…
– На вашем месте? – задумчиво повторил Аполлон. – На вашем месте, пан Рышард, я давным-давно поджег бы всю эту чепухенцию, – он сделал широкий, округлый жест, – да и зашагал бы в свой родимый Сандомеж.
Стражецкий испуганно вытаращил голубоватые слезящиеся глаза.
– То как же, пане? Поджечь? Уйти?
– Вот именно, – сказал профессор. – Пешком. Через все кордоны и заставы. Где ради Христа попросил бы, а где и уворовал. Где напрямик, открыто, а где и ползком, по-ужиному… Бабенки наши, старухи деревенские, бывало, своим ходом куда только не забредали: и в киевские пещерки, и к Зосиме и Савватию, на Соловки… Что ж вы, хуже старушек, что ли? До вашего Сандомежа не сможете добраться?
Стражецкий моргал ошалело.
– Кипит, – указал профессор на чайник. – Что будем заваривать, пан Рышард?
Пили розоватый, вкусный настой шиповника. Аполлон Алексеич блаженствовал.
И потекли дни.
Они именно неспешной низинной рекой потекли, а не побежали, не замелькали, не понеслись – так тихо, незаметно один сменялся другим, без шелеста календарных страниц, без навязчивых, вечно беспокойных газет, без колокольного звона, отмечающего воскресенья
Аполлон, как и первую ночь, спал под навесом, на воле. Попробовал было в каморке – нет, не смог, задохнулся Стало необходимостью встречать сон лесными шорохами, совиным криком, глухим гулом бог знает откуда налетевшего ветра. Все звуки были привычны и дружественны.
Но однажды он проснулся как бы от подземного толчка. Приподнялся на локте, прислушался. Было тихо, как всегда. Профессор подумал: наверно, во сне представилось. Повернулся на другой бок, но не успел еще задремать, как толчок повторился. Где-то далеко, на краю земли, словно гора обвалилась.
– А ведь это война, – сказал вслух – Докатилась…
И стал думать о войне, о ее нелепости здесь, в самом сердце России. О себе самом, о позиции, какую, хочешь не хочешь, придется избирать, когда вдруг станет, как таблица умножения, бесспорно, что нельзя существовать так, вообще, вне политики, когда сама жизнь в упор спросит: а с кем ты, человек, называющий себя Аполлоном Коринским? «Ну как это – с кем? С нашими, конечно…» И тут некий ехидный и как будто знакомый голосишко подковырнет: «А кто это, пардон, собственно, – ваши? – Голосишко корчился, трясся от смеха. – Так вы, может быть, дорогой профессор, уже и заявленьице товарищу Лесных настрочили?»…
– Молчать, стерва! – гаркнул Аполлон. – Чудом ты тогда, гаденыш, из моих рук ушел… Но гляди… гляди, потаскушка!
– С кем это вы тут, пан профессор? – удивился Стражецкий, заглядывая под навес.
Оказывается, он тоже услышал и проснулся, вышел из каморки послушать, что это гремит вдалеке, – уж не пушки ли?
– Пушки, пан Рышард, пушки, – сказал Аполлон. – И не миновать нам с вами войны… Теперь это ясно, как мармелад.
– Пшепрашам, пане, – вздохнул Стражецкий, – никак понять не можно все эти ваши дела – революция, война, магазины пустые…
– Где уж вам понять наши русские дела, – сказал Аполлон. – Это, пан Рышард, очень большие и серьезные дела.
Война приближалась медленно.
После тревожной ночи снова была тишина, одни шорохи лесные да вздохи ветра и вопли совят.
Пребывание Аполлона в лесу оказалось целительным для Стражецкого, он перестал «зашибать». Конечно, ему намного веселей сделалось от сознания, что он не один, что живой человек рядом, это так; но самое, пожалуй, полезное заключалось в том, что Аполлон ему, как говорится, дыхнуть не давал. Каких он только дел не придумывал! Сперва привели в божеский вид сторожку: отскребли, отмыли – куда же лучше? – так нет, профессору все мало, – давай белить. Была нора звериная, стала игрушка.
Стражецкий порылся в сундучке, вытащил на божий свет недурную лодзинскую олеографию с картины Яна Матейко «Коперник», сапожными гвоздиками прикрепил к стене над изголовьем своего топчана.
– Добже, добже! – похвалил Аполлон. – В хopoшем обществе будете жить, пан Рышард. Это ведь, я так понимаю, не просто картинка, это кусочек родины, верно?
Затем взялись наводить порядок на строительстве: подметали, жгли мусор, в аккуратные штабеля складывали оставшийся кирпич и доски; на тропе, круто спускавшейся к ручью, вырубили порожки. Где ж тут было думать о выпивке!
– Ну, пан профессор, – растроганно сказал Стражецкий, – вы мне жизнь вернули… Дзенкую.
– Не за что, – засмеялся Аполлон. – Вы что, думаете, на этом конец? Не-е-т, пан Рышард, давайте топор точить, завтра с утра пойдем дрова на зиму запасать. Ведь это срам, в лесу живете, а на дворе – ни полена…
– Так, так, – покорно согласился Стражецкий и весь вечер, что-то напевая, шмурыгал бруском по широкому лезвию тупого, заржавленного топора.
Но пойти в лес с утра не удалось: пришел Денис Денисыч. Сидел, рассказывал о поездке в Камлык, о своих приключениях с бандитами.
– Позвольте, позвольте, – всполошился Аполлон. – Камлык… Камлык… Так ведь это же где-то недалеко от Баскакова? Так, кажется?
– Пятнадцать верст, – сказал Денис Денисыч. – Я теперь там все знаю. Азиятчина: Камлык, Садаково, Темрюки, Татарские Сакмы…
– Да-да-да… – задумчиво бубнил, хмурился профессор, вспоминая о незапертом чердачном люке в сенцах, сокрушаясь о легкомыслии чудно́й баскаковской барыни. – Да-да-да… История. Пренеприятнейшая, Денис Денисыч, история. И на кой черт, извини, понадобилось тебе брать с собой эти записки? Я, признаюсь, с огромным интересом прочел обе тетради – и ту, что сперва взял, и ту, что в Чека побывала…
– Вон как? – прямо-таки расцвел Денис Денисыч от похвалы. – С интересом, говоришь?
– С огромнейшим. Но помнишь, что я тогда, еще при первом чтении заметил? О языке?
– Да, да, слушаю…
– Попроще, попроще надо, милый друг. Слишком уж архаично иногда. Чересчур. Стоит ли? Я понимаю – эпоха, колорит, так сказать… Но вот беда – читать трудновато, эти разные там словечки, «язы» да «юзы»… Ей-ей, поправь, лучше станет.
– Да, да… Я и сам думал. Конечно, ты прав, Аполлон Алексеич, еще много надо поработать, – Денис Денисыч конфузился, егозил, но был счастлив и задорно смекал про себя, что черта с два он будет поправлять архаику, черта с два-с! – Но в общем-то, в общем-то, Аполлон Алексеич, а? Как оно в общем-то?
– Так ведь занятно же, говорю… Чертовски занятно! И все-таки… все-таки страшно подумать, какая махина! Тысячелетняя эпопея… Эк замахнулся!
– А тебе, Аполлон Алексеич, никогда не приходила в голову такая мысль, что человек хоть раз в жизни, а должен же, понимаешь, должен замахнуться?
Прищуривался, улыбался, щупленький, дробный, в чем только дух держится.
– Да ведь и сам-то ты, – продолжал Денис Денисыч, – сам-то только ведь и делаешь, что замахиваешься… Далеко за примером не ходить, – указал на кирпичные стены начатого строительства. – Разве что война вот помешала.
– Да, да, война…
Хорошо, незаметно прошел день. Денис Денисыч выглядел как-то по-особенному счастливо и весело.
– Ах, как же у вас чудесно! – в какой раз принимался он расхваливать лесное житье Аполлона. – Безлюдье, первобытность и этот трогательный Матейко на стене в каморке…
– Вот тут и пойми человека, – шутливо развел руками профессор. – Чуть не убили, рукопись потерял, страху натерпелся, а радуется, как младенец…
– Да как же не радоваться! – прямо-таки подпрыгнул Денис Денисыч. – Ведь я какое сокровище нашел! Ах, Аполлон Алексеич…
И он рассказал о камлыкском «чуде».
– Нет, об этом невозможно так, словами, это видеть надо. Я ведь, за жизнь многое повидал, но такое…
Часов в пять он собрался домой.
– Провожу немного, – вызвался Аполлон.
И вот тут-то снова, как тогда, ночью, громыхнуло все в той же стороне. Но то ли так чист был воздух, то ли ветерком оттуда тянуло, только показалось, что нынче намного ближе придвинулась военная гроза.
Аполлон сперва лишь до шоссе думал проводить Дениса Денисыча, но, когда загремело вдали, тревожной мыслью перекинулся в баскаковскую глушь: не случится ли так, что война отрежет Баскаково от города и Агния, беспомощная, слабая Агния окажется за линией фронта и будет подвержена всем тем страшным случайностям, какие неминуемо принесет с собой эта дурацкая междоусобица. Он вспомнил, что собирался написать жене насчет чердачного люка, и решил сделать это обязательно нынче же, не откладывая. Необходимо, значит, было дойти до института – ни бумаги, ни чернил, ни, тем более, почтового ящика во владениях пана Стражецкого не водилось.
После лесного приволья неуютно, одиноко показалось профессору в пустых комнатах. Так душно, так скучно было в квартире, так противно пахло пылью, клеенкой и железными трубами печки-буржуйки, что желание писать жене приостыло. К тому же в чернильнице оказались не чернила, а какая-то грязная кашица, которую пришлось разбавлять водой, и, пока разбавлял, пока по веем ящикам стола шарил, ища конверт, возиться с письмом и вовсе расхотелось. В нескольких строчках черкнул о Ритином отъезде, о чердачном люке и, словно отбыв неприятную повинность, наскоро запечатал конверт и собрался в обратный путь.
Без четверти десять пробило на институтских курантах, когда Аполлон запер дверь и вышел на улицу. Чья-то тень мелькнула, прижалась к стене у подъезда.
– Кто это? – окликнул профессор.
– Аполлон Алексеич? – робко, испуганно прошелестел Гракх, отделяясь от стены. – Вы слышите? Слышите?.. – Уцепился за полу Аполлоновой накидки. – Ка-а-кой ужас!
– А? Да-а, – рассеянно отозвался профессор, гремит…
– Так жутко… так невыносимо жутко быть одному в эти долгие ночи! – Лицо Ивана Карлыча белело, как маска, лишь темный рот кривился. – И обреченно ждать… ждать…
– Что-с? – не понял Аполлон. – Кого ждать?
– Когда наконец это приблизится вплотную… и ядра будут рваться над головами…
– Ах, ядра… га-га-га!
В тревожной, настороженной тишине нелепое ржание профессора прозвучало особенно грубо, кощунственно.
– Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки…
Он галантно-насмешливо приподнял легкомысленный свой соломенный картузик «здравствуй-прощай» и зашагал в темноту.
«Боже, какой хам! – подумал Иван Карлыч, прислушиваясь к слоновьему топоту уже невидимого профессора. – И конечно, конечно, он красный, что бы там ни говорили… Это его фрондерство – для отвода глаз, не больше. А мы все самым глупейшим образом попали в ловушку с изъявлениями солидарности, жали руку… Глупцы!»
Когда шаги Аполлона совершенно растворились в тишине, Иван Карлыч поднялся к себе наверх. Прошел по пустым комнатам. Как мертво, как одиноко!
Вот кресло-качалка, в котором обожал дремать его юный друг. Вот оттоманка, покрытая персидским ковром, где спал… Вот трюмо, перед которым так любил покрасоваться…
В будуаре включил приглушенный розовый свет. На крохотном письменном столике, в бархатной рамке, фотография: ах, этот мужественный подбородок, эти полные, изящно очерченные губы! Эта прядь волос, спадающая на невысокий лоб…
Ивану Карлычу холодно сделалось от одиночества Накинув клетчатый плед, уютно примостился на хрупком диванчике, пригорюнился и задремал незаметно. Его разбудил страшный грохот на улице. Он вскочил так стремительно, словно его подбросила какая-то демонская сила. Диванные пружины взвыли кликушескими голосами. «Неужели? – ахнул Иван Карлыч, леденея от страха и восторга. – Неужели началось?» Но странно: ни выстрелов, ни криков – лишь трескотня тележ ных колес по булыжной мостовой.
Погасив свет, осторожно прильнул к холодному, равнодушному стеклу окна. Ночь, тьма, замирающий вдали грохот телеги…
Бархатным басом стенные часы провозгласили двенадцать. Боже мой, сколько же еще ночи впереди! Сколько еще невидящими глазами глядеть в полные зловещей тайны, словно шевелящиеся потемки… Какая длинная, бесконечная вереница мыслей, туманных видений потянется через эту одинокую, похожую на антикварную лавку комнату, тесно заставленную пуфиками, жардиньерками, столиками, поставцами с безделушками, засохшими букетами, шкатулками, запыленными бронзовыми канделябрами в виде пастушек, чертей и бессовестных, непристойных вакханок…
Какая тоска!
А профессор шагал по лесной, потрескивающей сучьями черноте, бубнил на мотив известной солдатской песни:
Катягся ядра, сви-ищут пу-у-ли,
Нависли хла… нависли хладные штыки…
И думал о том, как это умеют или, верней сказать, как могут иные люди жить так отчужденно от жизни, как этот печальный Пьеро – Иван Карлыч. Ядра… а? Этак ведь нынче и самая раскисейная девица не скажет Последняя война, слава богу, всех образовала в смысле хотя бы терминологии: трехдюймовка, шестидюймовка, снаряд, «чемодан»… А тут на тебе – ядра!
Да, да, вот живет такой человечек, да и не живет, собственно, а существует, подобно личинке в куколке. Но у той хоть в перспективе красивые крылышки, беззаботное порхание, какие-то радости свои житейские… А этот? Куколка! Да и он ли один такой? Не весь ли почти профессорский корпус?
И Аполлон живо представил себе: на трех этажах в благопристойных квартирах – с гостиными, роялями, коврами, ореховыми буфетами, никелированными самоварами и плюшевыми семейными альбомами – все куколки, куколки… Куколка – толстый розовый Благовещенский, куколка – лысый, как коленка, Икс, куколка – брюхатый, похожий на Собакевича Игрек, с министерскими бакенбардами-вениками одноглазый Зет…
И весь корпус профессорский, огромное здание, несколько вычурное, в духе модерна предвоенных лет – с башенками, стеклянными эркерами, с облицовкой цветными плитками – весь этот профессорский ковчег не что иное, как гигантская, фантастическая каменная куколка, прочно отгородившаяся от жизни, от революции, от тех событий, которые вот уже второй год потрясают весь мир…
Лес заметно поредел, пошел кустарник. За ним поляна, строительная площадка, длинный штабель кирпича, хибара Стражецкого, прилепившаяся к похожему на романтические руины, меньше чем на половину возведенному остову завода. Пан Рышард уже спит, конечно, но Аполлон растолкает его и непременно расскажет про куколок.
Ему сделалось смешно, и он гмыкнул в бороду, но тут же и осекся: в какой-нибудь сотне шагов всхрапнула лошадь и чей-то голос негромко выругался: «Э, сволочь… стой, не балуй!» – «Пужлива, – сказал другой. – Ну, ты ее придерживай, пока я…» Последнее слово профессор не расслышал: «пока я…» А что – пока? Затем – шорох, шуршание, глуховатый скрежещущий стук о доски тележного кузова…
– Ай, батюшки! – пробормотал Аполлон Алексеич. – Вон ведь что… Я из-за этого кирпича две пары сапог истоптал, а вы… Ну нет, голубчики… не-е-ет!
Встрепенулся ветер, верхушки деревьев зашептались, завздыхали, по лесу пошел гул. В нем все звуки враз растворились, он был на руку ворам. Но он и профессору помог подкрасться незаметно почти к самой телеге; какие-нибудь пять шагов отделяли его от тех двоих, что возились у кирпичного штабеля. Одного из них, какой брал кирпич, Аполлон различил хорошо – невелик, коренаст, в картузе, Другой, что придерживал пугливую лошадь, скрывался в кустах густо, в человеческий рост вымахавшего чернобыльника, да его еще и лошадь загораживала. Тот, в картузе, был ближе, его ловчей было схватить… А как же с другим-то? «Ну, поглядим, – сам себе сказал профессор, – может, и этого успею…»
И кинулся на первого.
Крик был страшен.
Так ни человек, ни зверь не кричит. Так, должно быть, миллионы лет назад кричало странное косматое существо, которое неуклюже, как бы падая, передвигалось на двух задних руках и уже не было зверем, но еще и человеком не сделалось.
Ужас и боль трепетали в крике. Оглушенный им, профессор не слыхал, как затарахтела телега во тьму, без дороги, ломая, круша кусты; как что-то вопил тот, другой, – ускакавший, непойманный… Аполлон одно лишь держал в голове: не выпустить бы это отчаянно сопротивляющееся тело, вертлявое, скользкое, как налим. Он прижимал к себе вора, волок его как охапку соломы и никак не мог сообразить, где же у этого человека руки, где ноги, где голова, – так он вертелся и дергался, норовя вырваться из объятий профессора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































