Текст книги "Прозрение Аполлона"
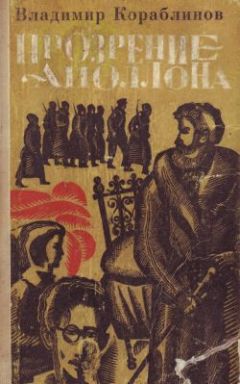
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
А рук, казалось, было множество: вот одна залезла в бороду, схватила, рвет клок волос; вот другая ногтями скользнула по щеке, больно царапнула; вот подобралась к горлу, стискивает кадык, душит…
– Эй, нет! – рявкнул Аполлон. – Это к чертовой матери! Это… шалишь!
Изловчившись, облапил и стиснул неизвестного, и тот вдруг обмяк и, замолчав, мешком повис на руках профессора. Так он его и доволок до сторожки, где в дверях стоял с фонарем пан Рышард, зевал, почесывался.
– То вы, пан профессор? – спросил еще не проснувшимся голосом. – А я сплю, слышу – телега… Что это вы такое тащите? Ай! Так то ж чло́век…
Наверно, жуток был Аполлон – расхристанный взлохмаченный, исцарапанный в кровь, со своей необыкновенной ношей. Фонарь задрожал в руке у Стражецкого.
– Посветите! – коротко, строго приказал Аполлон.
Стражецкий поднес фонарь к лицу пленника и вскрикнул удивленно:
– Езус Мария! Пан комендант…
– Позвольте, позвольте… Какой комендант? Что вы за чушь несете!
Профессор опустил безжизненное тело человека («Эх, крепко ж я его придавил, – подумал сокрушенно, – как бы не повредил чего…») на кучу щепок, взял из рук пана Рышарда фонарь.
– Товарищ Полуехтов! – свистнул удивленно. И лешим заржал во тьму: – Га-га-га-га!..
Полуехтов вздрогнул, открыл глаза, застонал. Слезы текли по его запачканному, испуганному лицу.
– Ну, что же мне с вами делать, тов… то бишь господин Полуехтов?
Комендант молчал, жмурился от света фонаря, охал.
– А? Пан Рышард? Какую казнь мы ему придумаем? Может, посоветуете, как нам поступить с этим, с позволения сказать, гомо сапиенсом?
Полуехтова вдруг начала бить нервная дрожь. Он уже навзрыд плакал, нахально торчащие усики обвисли.
– Ну, вот тебе, истерики еще нам не хватало, – недовольно пробурчал Аполлон.
– А я бы, пан профессор, пшепрашам, – сказал Стражецкий, – я бы его отпустил, только…
– То есть как это, позвольте? Если б он ко мне в карман залез, так я его, разумеется, отпустил бы. Дал бы хорошего пинка и отпустил, – прибавил профессор. – Но ведь кирпич-то…
– Пшепрашам, пан профессор, вы не дали мне договорить…
– Нуте?
– Отпустил бы, но только с условием. Во-первых чтоб завтра же было возвращено взятое…
– Ну, взяли-то они, положим, безделицу – я помешал.
– Неважно. То есть принцип. И второе – чтоб немедленно подал прошение об уходе… Лайдак, жулик!
– Вы, пан Рышард, Соломон, – сказал профессор. – Слышите, господин ворюга? Вернуть кирпич и убираться из института ко всем чертям! Коммунист! Идею только компрометируете…
На следующий день десятка три кирпичей были возвращены и аккуратно уложены в штабель, а заявление об уходе «в связи с семейными обстоятельствами» вручено ректору института.
И еще неделя прошла.
Заготавливали дрова, валили сушняк, таскали к сторожке. Аполлон ворочал как медведь за троих. Пан Рышард загорел, посвежел еще больше. С профессором у него установились легкие, полушутливые, но вполне дружеские отношения. Аполлон привязался к старику, но любил беззлобно посмеяться над шляхетской гордостью Стражецкого, гордостью всем польским – польской историей, польским искусством, польскими обычаями. Даже своим маленьким Сандомежем.
Пан Рышард отшучивался:
– То правда, горжусь. Э, Сандомеж! Сандомежу тысяча лет, и я есть гражданин этого города и горжусь его стариной. А вы, пан профессор, пшепрашам, знаете, сколько лет вашему Крутогорску?
Нет, профессор не знал.
– Так, так, – торжествующе сказал Стражецкий. – Не знаете. То худо.
«Действительно, – подумал Аполлон, – полжизни прожил в Крутогорске, а не знаю… Нехорошо. Стыдно»
Вечерами они уютно чаевничали на свежем воздухе За разговорами время текло незаметно. Быстро темнели небо, огоньки далеких звезд загорались в раз навсегда заведенном порядке: первая самая яркая, над потухающей зарей; за ней – вторая, чуть левее старой сосны, возле трубы, над крышей, вспыхивали сразу две, и затем, как-то вдруг, все небо усеивалось звездами и, серебристо пыля, Млечный Путь перекидывался небесным большаком через всю вселенную.
Из лощины, где бежал ручей, тянуло холодком. Профессор щелкал крышкой тяжелых старинных часов, говорил: «Ого!» – и, решительно поднявшись, отправлялся в свое логово, под навес. Утренние зори становились все прохладнее, но ему не хотелось забиваться под крышу, в духоту сторожки. – так вольно, так глубоко дышалось под открытым небом. А к далекой воркотне пушек привыкли, перестали замечать.
Но однажды среди ночи в городской стороне часто-часто застучало, зататакало, словно кто-то, озоруя, на бегу тараторил дрыном по частоколу. Аполлон встал, прислушался: пулемет. Пан Рышард вышел из сторожки, крикнул:
– Слышите?
А утром, чуть свет, пришел встревоженный Денис Денисыч с новостью: город занят белыми.
Он отвел Аполлона в сторонку и как-то особенно, таинственно, почти шепотом сказал:
– Я, знаешь ли, нарочно пораньше выбрался, предупредить…
– Вот тебе на! – удивился Аполлон. – А чего это меня предупреждать?
– Подумал, не опасно ли для тебя… Может быть, лучше – вот тут, знаешь, лесочком, верст восемь всего – пробраться в Дремово, там еще наши держатся…
Профессор недоуменно пожал плечами:
– С какой это стати мне в прятки играть?
Денис Денисыч покачал головой.
– Ну, смотри, – сказал, – мне казалось, что надо бы тебя предупредить. А мне идти пора, я ведь на минутку. У меня горе: старушка моя слегла. Не дай бог…
Он не договорил, ушел.
Через два дня Аполлона Алексеича арестовали.
10
Гостиницу «Гранд-отель» построили в середине прошлого века, и когда-то простодушные крутогорцы восхищались ее истинно русским, боярским стилем; а нынче она со своими кружевными подъездами, пузатыми башенками, теремочками на крыше с флюгерами-петушками была просто смешна, как смешон показался бы человек в боярском опашне и горлатной шапке, важно прогуливающийся по Пролетарскому проспекту среди красных косынок, кожаных курток и замызганных шинелей.
В «Гранд-отеле», бывало, останавливался народ преимущественно торговый и деловой – купечество, расторопные коммерческие агенты столичных фирм, коммивояжеры по-новомодному, подрядчики, биржевые спекулянты и всяческие сомнительные дельцы из той породы предприимчивых людей, про которых именно и сложилась на Руси поговорка, что «эти и отца родного продадут».
Купечество, избиравшее номера «Гранд-отеля» своей резиденцией, по большей части было из средних, из кондовых, из тех, что еще носили допотопные сюртуки и бороды, не кончали коммерческих институтов, не мотались по заграницам и не лезли с суждениями о символистах и акмеистах, о музыке Дебюсси или полотнах Матисса. Бойкое купечество новейшей формации, то есть те, что учились в институтах, обожали заграницу и любили потолковать о Дебюсси, в «Гранд-отеле» не останавливались. Для них в Крутогорске в самые предвоеяние годы воздвигли гостиницу «Бостон», где все было «шик-модерн», калориферы парового отопления, японские бамбуковые креслица, телефоны, ванны и белые рояли в трехкомнатных номерах «люкс».
А в «Гранд-отеле» обитала почтенная солидность и были тяжелые плюшевые драпри, дубовая мебель, жарко натопленные голландки, иконы, лампады и скверный цыганский хор в ресторане.
Но почему-то именно «Гранд-отель» облюбовала белогвардейская контрразведка, разместив в обоих номерных этажах и глубоких подземельях свои многочисленные кабинеты и пытошные застенки. Верней всего, обширные подвалы прельстили господ контрразведчиков: очень уж глубоки были, толстостенны, – сокровенное, темное место, могила.
Тут в недавние времена располагались гостиничные склады. И, хотя вот уже второй год подвалы пустовали, в разных их помещениях все еще держались запахи тех товаров, что когда-то хранились здесь; открывалась тяжелая, обитая железом дверь – и крепко шибал в нос застойный дух рогожных кулей, селедки и прогорклого масла; за другой дверью тошновато пахло керосином и свечным салом; в дровяных подвалах – дубовым корьем, березовой щепой отдавало с кислинкой, не без приятности. Угольные же отсеки ничем не пахли, но толстый слой антрацитной пыли говорил сам за себя. Человек, заглянувший туда, обязательно получал черную отметину на лице или одежде, хотя бы он ни к чему и не прикоснулся. Там самый воздух был насыщен угольной чернотой, едкие пылинки антрацита накидывались, как живые твари, и норовили поставить на тебе свой знак, пусть ты и побыл-то там всего лишь минуту.
Что же говорить о тех нескольких десятках людей, которых загнали сюда насильно и которые вот уже третьи сутки валялись здесь на грязном и холодном цементном полу, получая в день одно-два ведра воды – и для питья и для умывания… Люди эти через несколько часов переставали узнавать друг друга.
В один из таких угольных подвалов и был водворен профессор Аполлон Алексеич Коринский.
Тут было довольно темно – одна-единственная узенькая отдушина под сводчатым потолком, да и та запыленная, затянутая густой паутиной и заделанная толстой железной решеткой с какими-то, как в церковных окнах, затейливыми завитками и выкрутасами.
– Воды давай! – закричали несколько голосов. – Воды-и-и!..
Конвойный солдат молча захлопнул тяжелую дверь, втолкнув Аполлона.
Co света, с яркого солнечного дня профессор сперва ничего не мог разглядеть в потемках. Чуял шевеление каких-то живых существ, а что это были за существа – понял лишь только когда глаза притерпелись и стали кое-что различать в густом полумраке. И он тогда удивился, и ему даже смешно показалось: люди, каких он разглядел, были все черные, как арапы, только зубы да влажно поблескивающие белки глаз выделялись на их закопченных лицах.
А вонища какая стояла! На что Аполлон не брезглив, привычен был ко всяким ароматам, но тут и он поморщился и даже легонько прижмурился: едкий, противный дух щипал глаза. Еще маленько приглядевшись, увидел у самой двери две вонючие бочки с доской, положенной поперек, и, возмутившись, плюнул раздраженно.
– И как это вы только такую пакость терпите! – пробурчал, обращаясь к какой-то человеческой тени, приблизившейся к нему из мрака.
В глубине подвала засмеялись.
– Ничего, папаша, принюхаешься – сказал тот, что смеялся.
– Тут, браток, такие порядки, – отозвался кто-то, совсем невидимый.
– Живодерня, – встрял в разговор человек в милицейской шинели.
– Навроде последней пересадки – сказал весельчак. – Денек-другой посидим на чемоданах – да и айда на тот свет прямиком.
А тень все вертелась возле Аполлона, видно приглядывалась. Профессор уже окончательно освоился с темнотой, заметил: на черном незнакомце очки поблескивают, и, хоть и закопчен до крайности, а что-то знакомое угадывалось в чертах лица, в очках, в бороденке клинышком, в слегка сутуловатой, щуплой фигурке.
– Не узнаете – спросила тень. – Да хотя где ж тут узнать. – Не дожидаясь ответа, продолжал: – Все черные, все одинаковы, как кошки.
– Простите? – сконфузился Аполлон
– Ничего, ничего – сказал очкастый. – Идемте чего ж, в самом деле, у параши-то…
Он провел Аполлона в дальний угол, под самую отдушину. Здесь все-таки немного светлей было да и не так смрадно. Какой-то хлам виднелся на полу – старые рогожи, разбитый фанерный ящик, обломок железного листа с тусклым, полинявшим золотом букв «…ранд оте»… – по-видимому остаток бывшей гостиничной вывески.
– Живой, Степаныч? – Очкастый наклонился над кучей какого-то тряпья, под которым угадывалось тело скорчившегося человека.
– Ж-ж-и-вой… – послышался из-под рогожи старческий голос. – П-п-по-пить бы… ясочка…
Человека трясло, у него зуб на зуб не попадал.
Очкастый кинулся к двери, забарабанил кулаком в обитые железом доски Но никто не отозвался на стук.
– Ну, сволочи! Воды им жалко… оглохли!
– Что с ним? – спросил Аполлон
– Их благородия на допросе постарались.
Старик под рогожей застонал:
– Всю нутрё отбили… паскуды…
– За что ж его так? – почему-то шепотом спросил Аполлон.
– С листовками поймали. Расклеивал по городу. Ну, ладно, – сказал очкастый, расчищая в хламе место для профессора, – давайте устраивайтесь все-таки… Не думаю, чтобы тут вас долго продержали, но уж ночь-то наверняка коротать придется… А у вас, простите, из вещичек совсем ничего нету с собой? Одна накидка?
Аполлон развел руками.
– Пустяки, – сказал, – я человек невзыскательный. Мне на голом полу не в диковину… лишь бы в хорошем обществе. А общество, как я догадываюсь, тут избранное… га-га-га-га!
Под гулкими сводами подвала запрыгал, заметался жеребячий гогот профессора.
– Ну, борода! – сказал кто-то одобрительно. – Геройский дед, форсу не теряет…
– Такие-то вот дела, товарищ Коринский, – сказал очкастый. – Я, между прочим, давно был уверен, что вы с нами на одном полозу едете, но чтоб вот так, на одной рогожке спать пришлось, это, знаете…
Он не выдержал, рассмеялся, закашлялся. Аполлон ничего не понимал: почему на одном полозу? На какой рогожке?
– А дорогу к институту проведем все-таки! Ей-богу, проведем! – Захватив в кулак бороденку, очкастый игриво сунул локтем в бок Аполлона. – Сам в камнебойцы пойду, а дорогу проложим!
– Батюшки! – изумился профессор. – Так это вы? Товарищ Абрамов?
– К вашим услугам, товарищ Коринский, – шутливо-церемонно раскланялся предгорсовета. – Очень рад вас здесь видеть… Простите, я хотел сказать, – поспешил пояснить Абрамов, видя недоумение профессора, – хотел сказать, что нет ничего приятней убедиться в том, что не ошибся в человеке. Неловко выразился, простите… Но тут действительно собралось избранное общество, как вы изволили заметить…
– И вы в самом деле думаете, что я… – Аполлон запнулся, подыскивая нужное слово.
– Ну, конечно, – быстро сказал Абрамов. – Иначе зачем бы они вас сюда приволокли? У этих господ нюх слава те господи!
– Но позвольте, позвольте…
Аполлон пристроился на железном листе с золотыми буквами, подмял под себя рогожу; скинул крылатку и, аккуратно свернув, положил в изголовье. В словах Абрамова разумелся явный намек на его, Аполлоново, сочувствие большевикам. Разумелось покушение на его, Аполлонову, независимость от всяких там партийных платформ, политических убеждений и прочих скучных вещей, сковывающих подлинную человеческую свободу. И он приготовился к словесной битве, предвкушая поражение противника и торжество собственной победы
Он давно ждал такого спора.
С того самого апрельского вечера, когда товарищ Лесных огорошил его предложением вступить в партию, Аполлон готовился к спору. Все ждал, что вот зайдет товарищ Лесных, напомнит ему о вечернем разговоре, спросит: «Так как же, Аполлон Алексеич?» – и вот тут-то он ему и выложит… Популярно объяснит, что такое большевики или меньшевики, конституционные демократы или монархисты… Что такое, черт возьми, политика вообще!
А то ходят, как сомнамбулы, по краю пропасти с закрытыми глазами, не отдавая себе отчет в своем недуге, а воображают, что в этом-то их сомнамбулизме и есть нужная человечеству истина!
Товарищ Лесных так почему-то и не пришел, но вот сейчас подвернулся этот.
– Нуте-с, – с драчливым вызовом начал профессор, обращаясь к Абрамову, – вы, милостивый государь, меня, кажется, за большевика принимаете? Я вас правильно понял?
– Ну, что вы, – равнодушно позевнул Абрамов, – какой вы большевик… Вы, сударь, путаник. Шалун.
– То есть как, позвольте?.. – опешил профессор. Такого он никак не ожидал. К нему отнеслись, как к мальчишке, дали понять, что вызова его не принимают, его мнениям значения не придают и спорить с ним, конечно, всерьез не собираются.
Такое опрокидывало все его боевые позиции.
Он хохотнул воинственно, но сам вдруг почувствовал деланность, фальшь этого вроде бы как презрительного, высокомерного «ха-ха». После подобного афронта – какие же споры? Его, видите ли, оценивают с точки зрения всяких там партийных догматов, судят по букве законов, созданных Марксом, этим божеством, фетишем русского большевизма…
Но махать кулаками и лезть в драку именно теперь, именно в подвале, среди насильно согнанных сюда и может быть, даже обреченных людей, было бы просто смешно и нелепо. Аполлон это понимал. С минугу он сопел, подавлял в себе знакомого ему демона, пытался подчинить его разуму. И, подчинив (удивляясь тому, что в первый раз удалось победить собственную стихию) сказал спокойно и серьезно:
– Я, видите ли, товарищ Абрамов, из ваших же слов заключил: на одном полозу… и что недаром-де приволокли сюда… ну и так далее…
– Совершенно верно, – кивнул Абрамов, – на одном полозу. И в том, что взяли не кого-нибудь из ваших ученых коллег, а именно вас, тоже, будьте покойны, у этих стервецов свой бесспорный резон имеется. Вы для них человек далеко не безопасный. Несмотря на все ваше фрондирование и… простите меня, профессор, этакий гимназический анархизм…
– М-м… любопытно, – сказал Аполлон.
– Что именно? – спросил Абрамов.
– Да вот то, что -так прямо и говорите мне про меня.
Абрамов засмеялся.
– Ну, вы, профессор, дитя, ей-богу!
Пришлось опять немножко повозиться со своим демоном, но на этот раз он подчинился без особого сопротивления.
– Да-а… вон что! У вас, товарищ Абрамов, прелюбопытная манера спорить…
– Но погодите, профессор, мы же еще, собственно, и не начинали спора.
– А у меня, знаете ли, пропала всякая охота его начинать!
И Аполлон решительно повалился на свое железное ложе, повернувшись спиной к Абрамову, давая понять что разговор окончен.
Зажмурившись, притворись спящим, он стал думать о себе, о том, что с ним произошло. С той минуты, как его арестовали и повезли сюда в вонючем, оглушительно стреляющем автомобиле, Аполлону как-то и в голову не приходило поразмыслить над своим положением.
Сперва всякая чепуха привязывалась, мелочь. Например, что забыл сказать Стражецкому, чтоб кирпич перетаскал поближе к сторожке; что палка с серебряным рубликом осталась под навесом, как бы не пропала; что, если вдруг Агния приедет, а его нет – она с ума сойдет…
Затем дорожные пустяки отвлекали внимание: дохлая лошадь у железнодорожного переезда, сладковатая вонь мертвого тела; слободские мальчишки, бегущие за автомобилем; поп на паперти и черная пасть распахнутой церковной двери с мигающими в глубине огоньками свечей; старичок расклейщик у афишной тумбы макает квач в ведерко, мажет по лохмотьям старых афиш, что-то собирается налепить, мелькнуло набранное крупно слово «приказ»… Возле гостиницы «Бостон» – какие-то дамы в шляпках, с белыми зонтиками и господа в мундирах различных ведомств… и чуть ли не Гракх Иван Карлыч, выходящий из подъезда гостиницы… Зачем? Что он тут делает? Странно.
Во дворе «Гранд-отеля», куда въехал автомобиль, поразило огромное количество крестьянских возов. Это было похоже на базар, да, в сущности, и было базаром: позднее стало известно, что все мужики вместе со своим нехитрым базарным скарбом – яблоками, глиняными горшками, метлами и даже угольями – были согнаны во двор контрразведки потому, что прошел слух, будто именно среди крестьян, приехавших на базар, скрывается председатель губревкома некто Шумилин. Сгрудились мужики на тесном дворе, галдели, христом-богом просили их благородия, чтоб отпустили ко двору, – «не ближний-де свет добираться-то…» Смирные деревенские коняги стояли, понурясь, – им все равно было, где ни стоять, но стоило въехать во двор автомобилю с его выхлопами и гудками, как поднялось невообразимое: трещали тележные оглобли, рвались постромки, бесились коняги. И это отвлекло мысли Аполлона.
А потом – крутые, осклизлые каменные ступени вниз куда-то, прохладная темнота подвала. Двое военных с кокардами на заломленных фуражках принялись щупать карманы, лапать, обыскивать. Наконец приземистая амбарная дверь… и мрак, и вонь… и шевелящиеся в потемках люди… и глупая перепалка с Абрамовым… Подумать о себе было решительно некогда.
И лишь сейчас, устроившись на гремящем железном листе, подобрав под бока пропыленную углем рогожку, пришел в себя, ощутил ровное течение жизни и впервые задал себе вопрос: так что же все-таки произошло? Зачем он здесь? Кто велел привезти его сюда, в этот темный и грязный угольный подвал?
И почему его заперли на замок?
Почему он лежит в этой вонючей дыре рядом с Абрамовым, председателем городского Совета, большевиком, политическим деятелем, лежит, как бы приравненный к этому человеку, как бы почитаемый сообщником Абрамова в его взглядах, в его политической деятельности.
Непостижимо! А впрочем… впрочем…
– Стоп! – сказал профессор. – Стоп-стоп-стоп…
Он редко размышлял о себе. Никогда не пытался сам с собою обсудить свои поступки, свое поведение, свои симпатии. Единственный раз тогда, ночью, когда война загремела вблизи и стало ясно, что скоро придется решать вопрос: с кем ты? И он тогда же, не колеблясь нимало, ответил: «С нашими, конечно», подразумевая советских. Но какая же это политика, господа? Симпатия, не больше. Или даже, верней сказать, деловые соображения. Да-с, вот именно: деловые соображения.
Он любил свое дело и справлял его, как ему казалось, на совесть. Чего же еще?
Его давняя мечта – опытный завод. С тысяча девятьсот двенадцатого года хлопотал о его строительстве, писал докладные в министерство, выпрашивал денег. Докладные прятались под сукно, денег не давали А вот пришла новая власть, пришли большевики – вопрос о заводе был решен враз, и началось строительство, которому он отдал все свои силы, все знания, все буйство своей природы.
С точки зрения господ большевиков, ну того же, допустим, Абрамова, не получалось ли так, что вот, дескать, до революций, при старом режиме, профессор Коринский был скован, не раскрывал в полную меру свои способности, а вот стала Советская власть – и он раскрыл их. И этим самым доказал свою любовь к новому строю. Свою приверженность большевизму.
Но ведь это же чепуха! Дало бы ему царское правительство денег – так он и при царе построил бы. Это его дело. Оно вне политики, и нечего ему приписывать подвиги, которые он не совершал.
Его воззрения на свое место в жизни, в науке, в домашнем обиходе ничуть не изменились: в тысяча девятьсот девятнадцатом он мыслит так же, как и в девятьсот, допустим, десятом, и ни к кому не желает подлаживаться в своих мыслях, в своих воззрениях Понятия добра и зла, справедливости и бесчестия вечны, он ничего не желает пересматривать. Он идет своей дорогой. Он – сам по себе.
Однако почему после октябрьских дней все сослуживцы отвернулись от него, стали избегать с ним встреч? Лишь после шумной стычки с чекистским следователем пришли, поздравляли, жали руку, как человеку, политически наконец-то ставшему мыслить с ними заодно. Как блудному сыну – так, что ли?
По-ли-ти-чес-ки!
Но он всегда презирал эту самую, черт бы ее побрал, политику!
Впрочем, восторженные поздравители тут же и шарахнулись прочь, стоило только пройти слуху, что на него «заведено дело» в Чека.
Да он и сам, сказать по правде, был уверен, что ареста ему не миновать.
И вдруг вместо чекистов неожиданно является товарищ Лесных, говорит: подавайте заявление!
Денис Денисыч таинственно предупреждает: не лучше ль на время скрыться в Дремово… Там – наши.
Теперь вот – Абрамов: «на одном полозу»…
Черт знает что!
Профессор ничего не понимал. От непривычки думать о себе устал, запутался и незаметно уснул.
Заняли белые город, и улицы провоняли нафталином. Фраки, смокинги, визитки, мундиры, черные, синие, зеленые, ковры, меха, шляпы, купеческие сюртуки и поддевки – вся эта без малого два года пролежавшая в сундуках рухлядь теперь спешно проветривалась, выколачивалась, разглаживалась, опрыскивалась духами и приготавливалась к банкетам, приемам, парадам, молебствиям и прочим обязательным праздничным церемониям, предполагавшим отметить так долго ожидавшееся возвращение к старым порядкам и полное поражение окаянной Совдепии.
К вечеру первого же дня владычества белых генералов на старой торговой площади, на так называемых Красных рядах, была воздвигнута виселица – голенастое зловещее сооружение, не виданное городом со времен царя Алексея Михайловича.
В церквах, словно на пасху, звонили во все колокола; на открытой эстраде городского сада серебряные трубы военного оркестра наяривали бравурный марш «Под двуглавым орлом»; по вечерам с треском и шипением в крутогорских небесах расцветали причудливые розы бенгальских огней. С увешанного коврами балкона арутюновского дворца довольно еще молодой, с длинным, испорченным оспой лицом генерал произносил по бумажке речь. Барыни в шляпках, похожих на цветочные клумбы, пищали «ура», гимназисты кидали вверх форменные фуражки, почтенные господа в вицмундирах и сюртуках потрясали тростями и зонтиками. Верноподданнейший Крутогорск ликовал, праздновал победу, шумел. Одни каменные львы, все еще полосатые, не успевшие вылинять за лето, обиженно молчали.
Город весело гудел, в городе начиналась новая жизнь.
Но что же, собственно, было нового? Да ничего. Наоборот, из всех щелей настырно полезло все слишком привычное, старое, дореволюционное: красно-сине-белые флаги, буква «ять», погоны, аксельбанты, орленые пуговицы чиновничьих мундиров, дамские лорнетки, черт знает откуда взявшиеся полицейские на углах и почти уже позабытое словечко «господа».
В гостинице «Бостон», где обосновалась штаб-квартира его превосходительства, с утра до вечера толклись те, кому предстояло восстанавливать исчезнувший при большевиках старый порядок: денежные тузы, коммерсанты, предприниматели всех рангов и мастей, чиновники, отставленные от своих постов «хамами-большевиками», высшее духовенство и всякий пестрый народишко, норовящий беспроигрышно сыграть «на моменте»…
Все теснились в кричаще-шикарной приемной его превосходительства, все горели желанием сообщить его превосходительству нечто сугубо важное и всемерно полезное высокому делу «спасения обожаемого отечества»…
Знакомые лица мелькали здесь: папенька институтского коменданта колбасник Полуехтов, бог весть откуда вынырнувший табачный фабрикант Филин, рыботорговец Бутусов, профессор Гракх Иван Карлыч, в парадном вицмундире ведомства народного просвещения, при шпаге… Даже толстая мохнатая морда недавно выпущенного из Чека авантюриста-сахаринщика Дидяева – и та промелькнула.
Его превосходительство играл в демократию, принимал всех, но ни с кем особенно не задерживался. Простреливал входящего холодным волчьим взглядом, чуть наклонял длинную набриллиантиненную голову: «Э-э… чем могу-с?» – выслушивал, нетерпеливо дрыгая, выстукивая ногою дробь, и, бросив два-три слова или отдав адъютанту приказание, снова наклонял голову, давая понять, что аудиенция закончена. Так, фабриканту Филину обещал поддержку в восстановлении его бесценной картинной галереи, но поездку в имение «Камлык» посоветовал отложить…
– Пока не стабилизируются новые порядки, – генерал наклонил зеркально блеснувшую голову. – Честь имею, господин Филин…
Ивану Карлычу, явившемуся как депутату от группы профессорско-преподавательского состава института, сказал:
– Весьма, весьма… – и что-то насчет единения всех научных сил во имя крестового похода за возрождение матушки России…
Папенька же Полуехтов как человек дела представил его превосходительству списочек лиц особо неблагонадежных «по их крайней приверженности к большевицкой партии».
Среди двух десятков фамилий значились железнодорожный милиционер Капустин, беспощадно гонявший Полуехтова-старшего с его подозрительными пирожками, и профессор Коринский, человек, будто бы находящийся в близких сношениях с большевистскими заправилами…
Генерал удивленно поднял брови:
– Ах, вот даже как! – и передал списочек адъютанту. – Проследите, голубчик…
Итак, малиновые трезвоны. Парады. Молебствия. Синее погожее небо. Золотые переливы хоругвей. Бум! Бум! – духовая музыка.
– Ур-р-р-а-а!
– Уррра-а благодетелям! – крепко подвыпившие верноподданные.
– Мно-о-га-я ле-е-е-та!.. – луженые глотки дьяконов.
Трехцветные флаги под веселым ветерком. Ковры на балконах.
– У-р-р-р-а-а-а!..
Тосты. Поцелуи.
И залпы летящих в потолок пробок из покрытых паутиной и плесенью бутылок «Мадам Клико» и отечественного «Цимлянского».
Весело, празднично.
Еще бы! В газетке «Телеграф» сообщают:
ПОБЕДОНОСНЫЕ ВОЙСКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ!
БЕГСТВО МОСКОВСКИХ КОМИССАРОВ!
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД СОЮЗНИКОВ ПРОТИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
УЛИЧНЫЕ БОИ В ПЕТРОГРАДЕ!
НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ТАМБОВ!
Но, словно в насмешку над ярким и шумный праздником, на колонне у входа в зал благородного Дворянского собрания – желтоватый листок:
«КРУТОГОРСКАЯ КОММУНА»
Орган Крутогорского губкома РКП (б)
С КРАСНЫХ ФРОНТОВ
Из оперативной сводки
от 13 сентября:
Партизаны освободили в глубоком тылу колчаковцев город Минусинск.
*
Части Советской 1-й армии Туркестанского фронта соединились в районе станции Мугоджарская с туркестанскими войсками.
*
БЕЛЫЕ БАНДЫ, УМЕРЬТЕ ПРЫТЬ!
БИЛИ ВАС. БЬЕМ И БУДЕМ БИТЬ!
Небольшой листок, чуть больше тетрадочного. Шестой день хозяйничали в городе белые, и шесть раз появлялись на стенах домов, на заборах эти желтоватые, написанные от руки листочки. Крохотные, как объявления «сдается квартира». С фиолетовыми кляксами расплывающихся чернил. С уголками, грязными от хлебного мякиша.
Грозным оружием желтеньких листков была правда. Каких-нибудь десять – двенадцать строк из очередной оперативной сводки, боевой лозунг – всегда в стихах, – и летели к чертям и «бегство комиссаров», и победные реляции «нашей славной, доблестной»…
Страшны казались скупые, суховатые строчки сообщений Российского Телеграфного Агентства, но еще страшней было то, что в покоренном городе, где внешне восстановлено все, что представляло собой Россию дореволюционную, царскую, продолжает жить и ежедневно заявляет о себе непокоренная идея коммунизма.
Его превосходительство, крайне возмущенный подобной дерзостью, приказал немедленно ликвидировать «очаг большевистской заразы». Контрразведка из кожи лезла, чтобы найти этот «очаг»; полиция, солдатские патрули сбились с ног, бегая по городу и срывая с заборов и стен листочки «Коммуны»… Но проходили сутки – и город снова пестрел свежими выпусками подпольной газеты…
«Очаг большевистской заразы» состоял из трех человек: редактора Ремизова, литсотрудника Ляндреса и курьера Дегтерева. Редактор находился в восьми верстах от города, на станции Дремово. Литсотрудник Ляндрес, так и не помирившийся с отцом, по-прежнему ютился у Степаныча. Что же касается курьера Дегтерева, то он, как ему и было положено по должности, пребывал всюду.
Это были обыкновенные хорошие люди. Редактор Ремизов, вечно хмурый, суровый, словно боящийся показать людям свою человеческую доброту (а добр и бескорыстен он был удивительно, редкостно), недавно вернулся с Восточного фронта. Вместо правой руки у него болтался пустой рукав гимнастерки, – достала-таки его под Красноярском колчаковская пуля! – но он быстро научился писать левой. В августе девятнадцатого ЦК направил его в крутогорскую газету. Когда стало очевидным, что город не удержать, губком партии предложил Ремизову организовать выпуск подпольного листка «Народу у тебя маловато, – сказал предгубкома, – ну да что поделаешь, обходись теми, что есть…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































