Текст книги "Прозрение Аполлона"
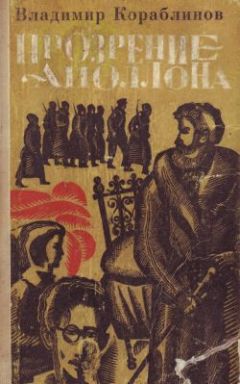
Автор книги: Владимир Кораблинов
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Они не знали, что в ветвях дерева, возле которого они вдруг остановились, уже хлопотал, первым, прежде других прилетевший соловей; он еще не пел, он только собирался попробовать свой голос в эту ночь. Не знали они и того, что сию минуту под ногами у них, шевельнув мертвый пожухлый кленовый лист, проклюнулся первый, самый жадный до жизни, зеленый гвоздик подснежника…
Но, верно, в самом воздухе, прохладном и влажном, в самом молчании весенней ночи такая чистая, молодая таилась радость, такое великое торжество воскресшей и помолодевшей природы, что и эти пожилые, усталые люди словно бы вдруг помолодели, окрепли, сделались чище, естественней, человечнее. И странные, несообразные слова вдруг произнесла профессорша. Она сказала:
– Поцелуй меня, Поль… – и робко, неловко, по-девичьи как-то приникла к мужу.
– Вот тебе раз! – сконфузился и даже растерялся Аполлон. – Что это так… ни с того ни с сего…
Но обнял и, неуклюже нагнувшись, поцеловал Агнию, мазнул влажной бородой по ее холодной щеке.
И вдруг жутко зашуршало рядом, в опавшей пахучей листве, словно какой-то невидимый, хоронящийся во тьме соглядатай подкрался так близко, что – протяни руку и дотронешься, и снова замерло, будто и не шуршало.
– Поль, ты слышал? – шепотом спросила Агния. – Что это?
– А? – рассеянно отозвался Аполлон. – Да ну… мало ли. Еж, барсук, может быть. Тут, говорят, барсук где-то живет.
Они стояли, обнявшись, под старым кленом, слушали дивную тишину. Затем, когда издалека, со стороны города, донесся, приглушенный расстоянием, колокольный перезвон, они и колокола послушали. И долго, может, час, а может, и два простояли они, и было им так хорошо, как бывало очень давно, в годы молодости.
И как-то легко, словно бы силою волшебства, зачеркнулось, забылось то дурное, темное, что мучило всю зиму и, главное, всю эту сумасшедшую весну, – голая, холодная жизнь, неустройство, отчуждение Риты и несносный Ляндрес, солдаты в квартире, морковный чай, теснота, неприятная шумиха из-за Оболенского, приезд Ипполита и его ссора с профессором… наконец, эта дурацкая афиша, Лебренова «скоморошина» с именем Маргариты… Ох, да многое! И вот все прошло, слава богу, и ничего нет, лишь радость жизни, лишь ночь, удивительно черная, пахучая, с далеким торжественным звоном городских церквей…
– «Час заутрени пасхальной, звон далекий, звон печальный, глухота и чернота…»
– Что? – не понял профессор.
– Так, – мечтательно сказала Агния. – Вспомнила… Наверно, уже поздно, домой пора.
Над городом узенькой длинной полоской переливчато светилось розовое зарево – там в церковных оградах жгли смоляные бочки; с хоругвями, со свечами крестным ходом шли вокруг Храма; там на улицах шумел, дымил вонючими факелами безбожный карнавал. Там колокола плясовую гремели во славу господа: «Христос воскресе из мертвых» или перебранивались сердито с горластой бесшабашной песней:
Исус Христос
До копья продулся в штос,
А божья мать
Пошла мылом торговать…
Но ничего этого не слышно было здесь, в поле, лишь далекий гул праздничного трезвона.
Молча возвращались домой Коринские. По дороге их мимолетный дождик прихватил, зашумел в верхушках деревьев, зашлепал по земле, по прелым листьям. Сразу чудесно, тонко запахло грибами. И в эту именно предрассветную минуту в темной чаще свистнула колдовская лешева дудка, потом еще… еще… Потом, будто балуясь, чмокнуло языком в зеленый влажный листок, щелкнуло и затихло.
Это учился, пробовал голос первый соловей.
Аполлон Алексеич скоро и легко заснул и спал хорошо, спокойно на черных с золотом «брокгаузах», на этот раз даже не замечая неудобства от неровности и каменной жесткости своего подвижнического ложа. Засыпая, он думал, что нет лучше лекаря, чем природа – воздух, лес, влажное дыхание земли. И по тому, как на Агнию исцеляюще подействовала ночная прогулка, по тому, как она тихо, умиротворенно, скоро заснула на своей девичьей кроватке, заключил, что этой ночью ее болезнь переломилась, пошла на поправку. Совсем уже задремывая, усмехнулся: недаром заболевшая собака не куда-нибудь – в лес, в поле бежит, ищет лекарственную травку… Хорошо бы и людям этак-то, по-собачьи, не у чванных, важных докторов, не в дорогих заграничных лекарствах искать облегчения болезней, а у матери-природы, в ее воде, в ее лесах, в солнце и ветре, в чудодейственных соках земли.
Утром он поздно проснулся, часов в десять, лежал, зажмурясь. В сомкнутых веках бушевал оранжевый хаос, и Аполлон понял: погожий, безоблачный день, комната полна солнца. Услышал знакомый шорох шелка, легкие шаги жены. Притворяясь спящим, сквозь узенькую щель чуть приоткрытого глаза разглядел Агнию. Свежая, аккуратно причесанная, улыбаясь и что-то невнятно напевая, она хлопотала возле стола, накрытого белой, с задубевшими, слежавшимися складками скатертью.
«Так, так, – сказал себе профессор, – прекрасно… Улыбаемся и напеваем. Несмотря на то, что Ритка опять, кажется, не ночевала дома…»
И он встал, поздоровался с Агнией, похристосовался, как всегда испытывая неловкость от этих пасхальных поцелуев, ответив на ее «Христос воскресе» не очень-то остроумным «гип-гип-ура». Но искренне, с удивлением похвалил празднично убранный стол, где на тарелке, на бумажных кружевцах, красовался подгоревший куличик, с десяток писанок пестрело в вазочке, и даже какая-то заливная рыбка виднелась, разукрашенная морковными звездочками и тонкими стрелками зеленого лука.
– Батюшки! – изумился профессор. – Яйца! Рыба! Послушай, откуда такое несметное богатство? В пайке, кроме таранки да сахарина, я что-то ничего не припомню…
Оказалось, что писанки подарила дворничиха, подлещика принес тот самый пожилой солдат, дневальный, который в памятный вечер, когда у Коринских отняли кровати, так хорошо поговорил с профессором о бабах, а потом восхищался его «агромадностью». Смастерив пару вентерей, этот бывалый русский солдат чуть ли не всю роту кормил рыбой. Вчера пришел, смущенно потоптался у двери: «Вот, хозяюшка барыня… к праздничку…»
– Ну, не прелестно ли? – Агния радовалась, как девочка, хохотала, вспоминая, как он еще сказал: «Твой-то, прохвессор-то, совсем, видать, слабовато вас харчит, одна картоха… А ты баба гладкая, тебе приварок требовается послажей…»
Так позавтракали, попили чаю. Время за полдень перевалило. Риты все не было, а профессорша словно и думать о ней забыла – ни слова, ни намека. Наконец Аполлон Алексеич не выдержал, походил взад-вперед, погудел в бороду «тореадора» и сказал с деланным равнодушием:
– Куда ж это Ритка запропастилась?
Агния и бровью не повела.
– Ах, боже мой, – сказала только, – кажется, не в первый раз…
И, помолчав немного:
– Ты знаешь, Поль, я много думала… Она – взрослый человек, ей двадцать первый пошел, ведь имеет же она право жить так, как ей хочется, как она находит нужным. Я во многом была не права по отношению к ней, – вздохнула профессорша. – Все как на ребенка смотрела, а она – самобытная, сильная… И ей, знаешь ли, тяжел наш родительский гнет. Она рвется к жизни самостоятельной, интересной для нее…
Аполлон даже гудеть перестал. «Фу ты, черт! – поглядел изумленно на жену. – Да ведь она переродилась совершенно… Этакие мысли! Браво, Агнешка, браво!»
– Эмансипированная женщина, – в каком-то экстазе продолжала профессорша, – это огромная сила… Это такой творческий порыв, какой вам, мужчинам, и не снился! Имена таких женщин, как мадам Аврора Дюдеван, как Мари Складовская… наконец, как наши – Башкирцева и Софья Ковалевская…
Аполлон торжествовал. Его идея лечения человеческих недугов силами природы – воздухом, лесом, водой – брала очевидный верх. «Нуте, нуте, хваленые доктора, невропатологи, психиатры и прочая ученая братия, с вашими мудреными лекарствами, массажами и душами Шарко… Какая всем вам цена за дюжину? А вот постояла весеннюю ночку в сыром лесу, продрогла, послушала, как трава растет, и пожалуйте, все как рукой сняло! Выздоровление! Полнейшее и чудесное выздоровление!»
Аполлон Алексеич трубил победу.
Но дальнейшие события показали, что рано все-таки трубил.
Был до семнадцатого года в чиновничьей, обывательской среде обычай, даже как бы ритуал – ходить на пасхальной неделе по знакомым и родственникам с визитами. Ритуал этот, если полистать выцветшие страницы старых газет и еженедельников, давал богатую пищу газетчикам и журналистам, и едва ли жил на Руси такой юморист, какой не изобразил бы эти пасхальные визиты в самом смешном виде. Делалось же это так: приходили, чинно прикладывались к хозяйкиной ручке, поздравляли, опрокидывали у пасхального стола рюмку водки, закусывали и, потоптавшись еще немного, откланивались и брели по следующему адресу, где все повторялось снова: прикладывались, поздравляли, опрокидывали… и так далее.
Обычай этот бытовал и в профессорском корпусе, и квартира профессора Коринского не была исключением – хочешь не хочешь, и тут принимали визитеров. Но после революции все пошло по-другому: к Коринским перестали ходить с поздравлениями сперва потому, что Аполлона Алексеича втайне подозревали в большевизме и несколько опасались; а после истории с Оболенским, полагая, что сидеть профессору в Чека обязательно, вообще старались держаться подальше, и не то что с визитом, а и, встречаясь на улице, поспешно переходили на другую сторону и делали вид, что не замечают.
Агния Константиновна поэтому никого и не ждала, не готовилась к приему гостей. Несмотря на только что высказанные мужу неожиданно здравые суждения о жизни дочери, ее все-таки начинало беспокоить такое длительное отсутствие Риты. Нет, она вовсе не думает отказываться от своих слов: эмансипация, прогрессивная роль женщины и прочее… Но дело-то почти к вечеру, уже половина второго, а Ритки все нет. Ну, хорошо, спектакль, эта дурацкая «скоморошина»… ну, карнавал еще там какой-то безбожный (хотя это ужасно, ужасно!), обо всем Агния Константиновна была предупреждена дочерью и поджидала ее не раньше утра – в десять, допустим даже, в одиннадцать… Но ведь уже почти сутки прошли, как Рита ушла из дому, и придумать какие-то объяснения такой задержке казалось просто невозможным. Часы показывали без четверти три», Агния себе места не находила. От той умиротворенности, что так чудесно снизошла на нее ночью, и следа не осталось, чувство тревоги и страха нарастало с каждой минутой. Где Рита? Что с ней? Подумать только, так отбиться от дома, так пренебречь матерью… Это чудовищно, это немыслимо, это… это… Агния и слов не находила.
Воображение черт знает что рисовало: таинственный редакционный диван – – Ляндрес – – спектакль – – голая Рита, лишь чашки на груди – – зловещий Лебрен – – безбожный карнавал… Демоны воображения кинулись на Агнию, терзали ее, выматывали последние силы. Хоть бы Аполлон был дома, все-таки с ним легче: груб, примитивен, но от него исходит такая целебная волна здоровья, такое спокойствие… А он позавтракал и ушел в лес, к пану Стражецкому, понес кусочек кулича и пару писанок: «Надо порадовать старика, очень уж одинок…» Добрая душа Поль, за его звериной внешностью…
Она не успела додумать, что же именно за его звериной внешностью, потому что в дверь деликатнейше постучались и нежданно-негаданно в комнату впорхнула мадам Благовещенская.
– Христос воскресе Христос воскресе ах милочка Агния Константиновна какой чудный день я не могла усидеть в душной квартире такое солнце дивная очаровательная весна (она без точек, без запятых говорила, лишь время от времени переводя дыхание) очаровательная весна говорят ночью первый соловей пел в Ботаническом мы не слышали возвращались из театра на бричке и так колеса стучали и молодежь без умолку трещала какой же соловей все восхищались спектаклем как жаль что вы не поехали чудо чудо сплошная злоба дня ах этот Лебрен всякие Ллойджоржи Пуанкаре Распутин и Риточка ваша была бесподобна этот костюм шемаханский так ей к лицу прелесть особенно знаете в том месте где поет «сброшу чопорные ткани» в зале прямо-таки все с ума посходили аплодисменты ужас какие аплодисменты ну немножко откровенно знаете бедра коленки все наружу но что ж такое сейчас это предрассудки мой Мишель говорит культ тела возврат к античности хи-хи-хи не правда ли поздравляю поздравляю…
Агния Константиновна растерялась. Словесная погремушка мадам Благовещенской ее опрокинула, растоптала, безжалостно повергла наземь. Профессорша лежала во прахе, беспомощная, жалкая, униженная. «В зале все прямо-таки с ума посходили… бедра наружу, коленки…» Горох сыпался, сыпался, раскатывался по полу – под кровать, под шкаф, во все уголки комнаты. Большая синяя муха билась в голове о черепную кость, жужжала, металась. С необыкновенной яркостью, виденная давным-давно, еще в молодости, вспыхнула известная картина: обнаженную девушку-рабыню бесстыдно разглядывают цезарь и его приближенные… Боже, какой ужас!
– Но ведь на ней, конечно, было трико? – слабым, умирающим голоском зачем-то спросила Агния.
– Ну, что за вопрос, еще бы без трико! А вы все-таки, я вижу, ухитрились куличик испечь… – Мадам Благовещенская круто повернула разговор, полагая, что то, что надо было ей сделать, уже сделано, да и преотлично: очень много воображающая о себе профессорша одернута, спесь у нее посбита, – с этаким срамом небось не очень-то нос задерешь!
– Ах да, куличик, – пролепетала Агния. – Прошу вас, кушайте, пожалуйста…
Мадам кушала, хвалила, стреляла глазками по сторонам. Жуя, спросила как бы невзначай:
– Что это, милочка, нынче праздник, а вы в одиночестве… А где же ваши? Аполлон Алексеич? Ритуся? Бедная девочка, наверное, спит после вчерашней ночи…
И вот тут Агния не выдержала пытки и разрыдалась.
Профессор в сумерках лишь вернулся от Стражецкого. Глянул на жену и сразу понял – что-то случилось; заплаканное лицо, невидящие стеклянные глаза. На белой своей кроватке сидела, поджав ноги, жалко сцепив у горла длинные хрупкие пальчики. «Обязательно с Маргариткой что-то, – решил профессор. – Ну, знаете… Если так близко принимать к сердцу… Да и что, собственно, принимать? Ведь только что утром сама говорила…» Мысль оборвалась оглушительным дребезгом извозчичьей пролетки по булыжнику мостовой. Чей-то бас спросил за окном:
– Тут, что ли?
– Здесь, здесь! – откликнулись голосом Ляндреса. – Ах, да осторожней, товарищ… Ведь это же барышня, а не мешок с картошкой…
Затем в соседней комнате, где солдаты, – странные звуки шагов: бухающие тяжелыми сапогами и еще какие-то, словно заплетающиеся, шаркающие, неровные.
Наконец Ляндрес (действительно, Ляндрес!) чудно, задом как-то, ввалился в комнату, придержал дверь, и следом за ним бородатый мужик в брезентовом дождевике ввел Риту. Она еле шла, шаркая, загребая ногами, держась за бородатого, бессильно обвиснув на его руках.
Трудно рассказать, что в эти мгновения перечувствовала Агния Константиновна, какие только страшные мысли не взметнулись в ней: несчастный случай… попала под поезд… самоубийство… шальная пуля…
И самое ужасное наконец: пьяна!!
Пьяна, как последняя тварь… как уличная потаскуха!
– Ну, дак куды ж ее класть-то? – равнодушно спросил бородатый мужик.
И Агния с криком кинулась к дочери, в неистовстве, в отчаянии, готовая и проклясть, и растерзать, и оплакать…
Но Ляндрес цепко, неожиданно сильно схватил ее за руку и, словно ножом пырнул, сказал одно-единственное коротенькое жуткое словцо:
– Тиф…
И, словно в бреду, словно прерывистое предсмертное дыхание, медленно, кошмарно потянулись длинные дни весны и лета тысяча девятьсот девятнадцатого.
И был среди этих задыхающихся в духоте и пыли дней тот, когда она умирала.
Пульс не прощупывался, мутной пленкой подернулись помертвевшие глаза; бледные пальцы шевельнулись, пошарили по одеялу; сухие, потрескавшиеся губы приоткрыла, словно что-то хотела сказать… но ничего не сказала, лишь странный, ни на что не похожий, послышался звук – не то стон, не то храп…
И вытянулась. Затихла.
Припав к изголовью, беззвучно плакала вконец измученная Агния. Аполлон Алексеич стоял, стиснув холодный железный прут кроватной спинки, весь вытянувшись вперед, к умирающей дочери; не слыша своего голоса, громко шептал:
– Ты что, Ритка? Ты что?..
В комнате были еще двое: тщедушный лысый старичок в старомодном длинном сюртуке, в золотых очках доктор Ширвиндт и взъерошенный, с покрасневшими глазами Ляндрес. Доктор стоял у стола, посапывая, бормоча, качая головой, возился со шприцем, с какими-то склянками. Бедняга Ляндрес сидел у двери на кончике стула, весь в напряженном ожидании, готовый в любую минуту вскочить, мчаться в город, доставать для больной что угодно, какими угодно средствами, вплоть до…
«Вплоть до преступления!» – отчаянно подумал Ляндрес. Он и сам был словно в бреду. Все, что сейчас ему виделось – Рита, лежащая в забытьи, может быть умирающая, профессор, Агния, доктор со шприцем, – все это будто бы существовало реально и в то же время не могло, не должно было существовать вот так – со смертельной болезнью, с плачем, со всеми приметами близкого конца… Рита! Рита! Раскрасневшаяся на ветру, с прядкой волос, прилипших ко лбу, в тесной кожаной курточке, не застегивающейся на груди… Какая свежесть! Какая сила! «Весна, Революция, Рита…» Что? Она умирает? Ах, оставьте, пожалуйста, какой невероятный вздор! Как может умереть сама Жизнь? Но вот этот ужасный стон… или хрип? Эта мертвая неподвижность тела, сделавшегося под одеялом таким плоским и вытянутым, таким непохожим на ту, что бежала по ослепительным лужицам, разбрызгивая сахарные льдинки, на ту, что была для него воплощением горячей и сильной Жизни, единственной, неповторимой… Нет, нет, она не должна, не может умереть! Что нужно для ее спасения? Какое-то редкостное лекарство? Куриный бульон? Он готов сейчас же достать все, хоть из-под земли, хоть со дна океана! Все что угодно – курицу, лекарство, белый хлеб, любой ценой достать, даже вплоть до…
Сухой, негромкий звон разбитого стекла. Старичок Ширвиндт растерянно смотрит на мелкие осколки шприца. «Ай-яй-яй! – бормочет. – И как это так господь бог устроил некрасиво, что кому надо жить, тот умирает, а кому умирать – тот, таки-да, живет».
Тяжелыми, волочащимися шагами идет к кровати. Отстранив плачущую Агнию, садится в изголовье, пристально всматривается в лицо девушки. Осторожно, как хрупкую драгоценность, берет ее руку в свою и так сидит с минуту, полузакрыв глаза, как бы прислушиваясь к чему-то, что никому не дано слышать, кроме него самого.
– Vis medicatris naturae…[1]1
Целительная сила природы (лат.).
[Закрыть] – говорит негромко, но торжествующе, устало откидываясь на спинку стула. – Девочка будет жить, она победила.
Затем медленно подымается и, оборотясь в угол, туда, где поблескивает золотой фольгой крохотная иконка, широко, истово и даже, может быть, слишком преувеличенно истово, крестится. Как все выкресты, он любит при случае показать свою приверженность православной вере.
Она словно была слепой и прозрела, словно впервые увидела все и всему обрадовалась.
Радостно удивлялась – какая листва у тополей, с лицом, с изнанкой, зеленая и серая; какие разные оттенки у травяной зелени – утром, в полдень, вечером; сколько запахов, каждая вещь в комнате пахнет по-своему – кровать, шкаф, отцовские еноты, книги. А голоса птиц… а шум ветра, дождя… а ночной сверчок… И как это она прежде, до болезни, ничего не видела, не слышала, не замечала, и сколько, стало быть, прозевала, не взяла от богатства окружавшей ее жизни! И твердо знала, что теперь-то уж ничего не упустит, все заметит, всему порадуется.
Ее остригли, и когда к концу лета отросли волосы, она стала похожа на юного царя Петра Первого: черная гривка, круглые, крутые щеки, острый, с ямочкой подбородок и брови вразлет.
Целыми днями, как велел Ширвиндт, гуляла, бродила по Ботаническому саду, по лесу, всегда с альбомчиком в холщовом переплете, с черной коробочкой акварели «Пеликан» в кармане все той же неизменной кожаной курточки. И рисовала, рисовала с жадностью, словно ела, проголодавшись. Все было чудесно в этом мире: облако над рекой, мостик из грубых плах, поросших снизу зеленовато-седым мохом, лохматый куст татарки, песчаная, цвета макового молока тропинка в зарослях орешника, серый длинный, наполовину разобранный забор с выцветшими аршинными буквами «Сад…т…о Кар…с…н» – «Садоводство Карлсен».
Она выжила, осталась среди живых. Это было великое счастье, бесконечный, каждодневный праздник.
Но Агнии сделалось совсем плохо. Во все время Ритиной болезни она удивительно стойко, мужественно держалась. По суткам не спала, сидела возле дочери, ловя каждое движение ее губ, прислушиваясь к ее дыханию, догадываюсь, что надо сделать – поправить ли подушку, подать ли питье. Пренебрегала опасностью, словно была уверена, что не достанет ее страшная зараза, что непреоборимо материнское заклятье, положенное на смертельную болезнь. Это было перенапряжение всех сил, душевных и телесных, это было исступление.
И верно, тиф не коснулся Агнии, ничуть не задел; больше того, даже так одолевавшие ее всю жизнь мигрени прекратились. «Чудо! – Набожно сложив ладошки, старик Ширвиндт возводил очи горе. – Чудо!» Так он громко восклицал и крестился и кланялся золотой иконке, а про себя думал: «Как бы только тебе, матушка, не пришлось расплачиваться за это чудо… Придется, ох, придется!»
И Аполлон Алексеич, с восхищением и даже с некоторым страхом глядевший на подвиг жены, тоже, как и доктор, понимал, что такое даром не проходит, что отдачи не миновать.
И в самом деле, стоило призраку смерти уйти из профессорской квартиры, стоило Рите подняться на ноги – и с Агнией началось: плач, бессонница, видения, неотступная тоска и предчувствие каких-то надвигающихся бед.
И снова был приглашен знаменитый невропатолог с живчиком на виске, и снова он долго простукивал и прослушивал профессоршу; снова советовал заграничные теплые воды, душ Шарко и перемену обстановки. Но, как ни первое, ни второе применить было невозможно, пришлось остановиться на третьем – на перемене обстановки, то есть на поездке в деревню.
И вот в начале августа Коринские быстро, решительно собрались и отправились к Зизи, в Баскаково.
Село лежало в низине. Подъезжая к нему по большаку, путник вдруг замечал какую-то черную точку вдали, прикидывал: что бы это: куст? Стожок? Шалаш на гороховом поле? Временами в этой точке словно бы что-то тускло поблескивало, какой-то свет вспыхивал и померкал, вспыхивал и померкал, и было удивительно и непонятно: что же это чернеет, что поблескивает? И вдруг оказывалось – уже в самой близи, – что чернела давно не крашенная маковка схоронившейся в глубоком логу колокольни, а сверкала заржавленная позолота креста.
И открывалось Баскаково внезапно: все было поле, поле и – вот тебе, под ногами внизу – село, залегшее в ложбине, как бы затаившееся от стороннего взгляда. Длинный порядок изб вытянулся в одну линию вдоль большого озера; сады, риги, колодезные журавли, корявые раскоряки ветлы над тихой озерной водой; а у въезда, у околицы, – древний камень в бурьяне, в чертополохе, и на нем какой-то непонятный вырублен знак – змея или буква, но не наша буква, не русская, татарская, что ли… А что удивительного? Тут, по этим полям, было время, и Батыга хаживал, и Мамай. Надо, думать, с тех пор и стоит камень.
По большаку – столбы с проволокой. Нежно поет ветер, как струну трогает проволоку сильным дыханием. Проволока звенит. День и ночь над дорогой ее ровный, чуть колеблющийся звон, как бы подчеркивающий несокрушимость окрест лежащей тишины.
Чистота воздуха, синее озеро, тишина, высокое ясное небо – вот что было Баскаково.
Агнию Константиновну здесь сразу как-то заворожило. Диковатые бурьянные дорожки помещичьего парка; старый дом – не сказать бы «дворянское гнездо» (ампирные колонны, цветные стекла, черные портреты предков, нежный таинственный, звенящий лепет хрустальных подвесок на люстрах – ничего этого не было), но все-таки еще крепостные строили: длинный, вместительный, с узенькими высокими окнами и довольно мрачный из-за поросшей сизоватой мшиной тесовой крыши, из-за облупленных, побуревших от времени стен. Столетние, скорченные своими древесными болезнями скрипучие вязы стояли вокруг дома, как старики на сельской сходке. Кусты одичавшей сирени заглядывали в окна. Крыльцо было расшатанное, с провалившимися досками и поломанным балясником, но зато над его козырьком пялилась упраздненным ятем, цветисто, по-базарному намалеванная вывеска «СЕЛЬСОВЕТ» с пятиконечной красной звездой и желтыми длинными лучами как бы восходящего солнца.
Аполлон, увидев это произведение деревенского искусства, пришел в восторг. Задрав бороду, долго разглядывал, похрюкивал по-кабаньи.
– Вот сукин сын! – сказал восхищенно, разумея художника.
И, спохватившись, примолвил в сторону дам «пардон!» по поводу грубого словечка, нечаянно вылетевшего из дебрей дремучей бороды.
– По-оль! – простонала Агния.
А Зизи, пыхая крепким махорочным дымом, грязной ручкой махнула равнодушно:
– Ничего, не беспокойтесь.
Она была седоватая, стриженная «под горшок», в нагольном, остро, кисло пахнущем овчинном кожушке, в смазных сапогах. Кто бы узнал в ней ту Зизи Малютину, которая еще лет десять назад, в петербургскую бытность, благоухала тонкими дорогими духами, бредила готикой средневековья, сочиняла мистические стихи:
Приди, приди! В сиянье орифламмы
Провижу Твой приход… —
и собиралась принять католичество, но затем вдруг как-то сразу ударилась в «древлее благочестие», окружила себя черными иконами дониконовского письма, ременными лестовками, старопечатными книгами, которые едва ли пыталась читать, а только благоговейно касалась их серых шероховатых, странно, старинно пахнущих листов.
Ей перевалило за тридцать, когда поэт Жозеф Судьбинин объяснился в любви и сделал предложение. В отличие от ее лестовки, он носил янтарные четки, но, как и она, метался, блуждал в полупьяном, фантастическом, уродливом и очень узеньком мире петербургской богемы предвоенных лет.
Все шло к тому, что они поженятся, нарожают детей и в семейных заботах решительно покончат с мистической нежитью. Но Жозеф вдруг застрелился, оставив ей прощальные стихи.
Зизи не плакала, замкнулась в себе. Она решила уйти вслед за Жозефом, замышляла самоубийство (яд или вскрытые вены), однако не решилась, смалодушествовала и, вдруг собравшись, уехала в свое Баскаково, чтобы там как бы духовно похоронить себя, заняться мужицким трудом, превратиться в мужичку. Мистическая дурь сменилась дурью опрощения, игрой в деревенское затворничество.
Но это только сперва была игра, а потом все сделалось всерьез, стало ее подлинной жизнью. Полтораста десятин тощего, неухоженного поля еще покойным Малютиным-папенькой сдавались в аренду лавочнику Дубасову. Молодая же помещица решила сама вкусить от плодов земных, порвала с Дубасовым и затеяла хозяйничать. И казалось, тут, на баскаковских полях, эта петербургская пустышка должна была бы выглядеть белой вороной, инородным телом, не очень смешным анекдотом. Ничего подобного: со свойственной русскому человеку способностью врастать в любую жизнь Зизи отлично вросла в баскаковскую, в земледельческую и оказалась не хуже своих соседей-помещиков, – приобретала машины, бранилась с приказчиком Фотием, за вечную свою приговорку «мать-перемать» прозванным Перепелом, нанимала и рассчитывала рабочих, договаривалась с батюшкой молебствовать о ниспослании дождя.
Однако два года подряд были неудачны: не ко времени дождило, не ко времени засушивало, посевы пожрали уйму труда и денег, а принесли сплошные убытки.
Осенью девятьсот шестнадцатого Зизи продала лавочнику всю землю и хозяйственную справу – молотилки, веялки, плужки и прочее – и стала одиноко существовать в маленькой угловой комнатенке большого скрипучего, гулкого дома.
Время, прожитое в деревне, не принесло ей достатков материальных, но обогатило духовно: она уразумела, что́ разум, и что́ сила нашего народа, и что́ его подлинная красота. И она почувствовала себя малой частицей того мира, что был вокруг нее, и сделалась счастлива по-настоящему.
Кроме всего, она еще научилась ругаться посоромно и могла запустить матерка не хуже любого сквернослова. Поэтому-то так безразлично и сказала Аполлону на его «сукина сына»:
– Ничего, не беспокойтесь.
Аполлон привез Агнию, переночевал да и уехал.
Сидя у окна в битком набитом вагоне рабочего поезда, глядел на лесочки, красные путевые будки, зажелтевшие поля, ветряные мельницы, дальние белые колоколенки и рыжие крыши деревенских изб. Все это кругами, кругами как бы проплывало мимо, уплывало и вновь приплывало и, сделав круг, опять уплывало… Навевало сон, мягко, не настойчиво ворошило воспоминания о вчерашнем вечере, о ночи в запустелой усадьбе баскаковской барыни.
Чудна́я, чудна́я была барыня!
Мужик-барыня. Зверь-барыня.
Барсучиха.
Но это, может быть, даже и лучше для Агнешки: диковатая обстановка должна благотворно подействовать на ее разгулявшиеся нервы, заглушить боль от всего испытанного за последние месяцы. Все, кажется, складывалось как нельзя лучше.
Да, так вот, вечер-то вчерашний…
Побродили по разгороженному, заросшему лопухами и крапивой, похожему на лес старому парку. В тесной, с низенькими потолками комнатешке пили чай, заваренный смородиновым листом, разговаривали, вспоминали. Агния все наводила Зизи на то стародавнее, петербургское, что было их молодостью и что казалось профессорше самым интересным и значительным в ее жизни: увлечение Мережковским, паломничество ко Льву Толстому, знаменитая башня Вячеслава Иванова (они обе бывали там), но Зизи посмеивалась снисходительно, была сдержанна, старалась уходить от этих воспоминаний, переводила разговор на свое, нынешнее – на деревню, на мужиков, на сельсоветские дела. Она простодушно гордилась тем, что в новой жизни обрела назначение, приносит пользу, секретарствует, буквально с головой завалена всяческой писаниной – справки, протоколы, списки. Особенно списки самые разнообразные: власти велят учитывать лошадных и безлошадных, количество коров, овец, свиней, кур и гусей в каждом дворе; и сколько у кого корней яблонь, груш, вишен; и даже – кто на каких инструментах играет! А недавно, представьте себе, пришлось переписывать всех курящих и составлять на них длиннейшие списки… Тут профессор заметил, что пристрастие к бумажке испокон века было отличительной чертой русской администрации, и к случаю рассказал о порядках заграничных: там у них все это гораздо проще, в гостиницах даже паспортов не спрашивают, верят на слово…
В таких незначительных разговорах, при тусклом, мигающем свете масляной коптилки, скучновато и монотонно проплыл вечер. Спать улеглись рано: поезд уходил в семь утра, и, чтобы поспеть на него, Аполлону Алексеичу надо было подыматься никак не позже пяти: до станции считалось три версты, но версты были старинные, не мерянные.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































