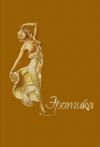Текст книги "Свингующие пары"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Пошла в парикмахерскую, и вышла через пятнадцать минут, представляешь, написала она мне короткое сообщение.
Это норма, написал я.
Не для женщины, сладкий, написала она, и у меня встал, хоть я и стоял посреди людной улицы.
Но наш с Лидой роман в ту пору входил уже в ту стадию, когда ты, – словно тяжело больной, – перестаешь стесняться, ломаешься и отбрасываешь последние условности: шаркаешь, не тянешь спину, и тяжело кашляешь, сплевывая кровь в несвежий платок. Если бы она прислала мне свое фото ню, я бы мастурбировал прямо посреди улицы. Я хотел Лиду весь день, все ночи, и особенно сильно я хотел по утрам.
Это как самый бестолковый секс в моей жизни, написала она.
Как-нибудь расскажи мне о нем, написал я.
Хи-хи, написала она.
Как же ты теперь выглядишь, написал я.
Идиотская стрижка под горшок, из-за которой я похожа на мальчика, написала она.
С твоими-то грудями и задницей, написал я.
М-м-м-м, написала она.
Сегодня, написал я.
Нет, не получится, написала она.
Нет, ты не поняла, написал я.
Я не спрашивал, написал я.
Сегодня, написал я.
Огляделся. Листья, кружась, падали на мостовую, вымощенную самой дорогой и бестолковой плиткой, которая зимой становилась скользкой, как каток. Людей было много, они спешили куда-то под низким небом Кишинева, чтобы стать движущимися фигурами на ретро-снимках города, которые делали сейчас, – сами того не понимая, – молодые люди с фотоаппаратами и в ярких одеждах. Таково было поветрие моды в тот год среди молодежи, фотография. Даже и мы с Лидой не избежали его, так что, когда она, наврав что-то на работе, сорвалась и прибежала, запыхавшись, – в квартиру, найденную мной в считанные минуты, – ее ждала фотосъемка. Это было безумие, мы оба знали, но остановиться никак не могли. Я повалил Лиду на пол и сделал несколько снимков, она потекла, едва увидела меня за этим занятием. Я еле дверь успел закрыть, в подъезд, судя по голосам, заходили жильцы.
Дай хотя бы раздеться, сказала она.
Раздевайся, сказал я.
Глядя на меня, она приподнялась, и стала расстегивать рубашку. Я обожал ее белые рубашки, носить их считалось чем-то вроде дресс-кода, как я понял. Все ее подчиненные, которые постарше, и на машинах подороже, были в таких белых рубашках, и все поглядывали на меня со значением, выходя из своих «джипов», и семеня на высоких каблуках в новое, светящееся, здание концерна, где Лида развлекалась, чтобы Диего чувствовал себя еще и мужем деловой женщины. Все они были заинтересованы мной, как и каждая женщина, которая видит писателя, знает о том, что он писатель, и понятия не имеет, что это значит – жить с писателем. Так что на первых порах нашего романа я был спокоен.
Я знал, что и без Лиды без молочка не останусь.
Вернее, утешал себя этим. Потому что, когда выяснилось, что я могу остаться без ее молочка, никакого другого мне не захотелось. Но это случилось позже, и я не знал об этом, вожделенно глядя на крутые бедра сорокалетних женщин в дорогих меховых накидках. Они возбуждали меня не меньше своих владелиц. Да, Лида была здесь на своем месте. Крутобедрая, задастая, с не очень длинными, но приятно полными, ногами, большим бюстом и задорными ямочками на щеках. Она была похожа на абрикос. Такая же спелая. А когда я разрывал ее, то чувствовал на своих пальцах мякоть – буквально волокна, – абрикосовую мякоть и запах цветущего дерева, запах земли. В ней была и порода, – да, не так много, как в Алисе, но была.
В Лиде было что-то, что позволяло предполагать – она каждое утро уделяет себе не меньше полутора часа.
Так она и делала. В отличие от Алисы, которой достаточно было проснуться, да провести рукой по лицу, чтобы выглядеть сказочно, Лида тратила на себя время. Она ухаживала за собой. Если бы меня спросили, что значит ухоженная женщина, я бы ткнул в нее пальцем, еще до нашего знакомства.
Ну что ты так смотришь, сказала она.
Она не могла оторвать от меня взгляд, и что-то было в нем, что-то, из-за чего руки у нее задрожали, и она не смогла расстегнуть пуговицу. Лида знала, чем это чревато, так что зашептала умоляюще – нет, нет, – но было поздно, потому что я встал над ней и разорвал рубашку, и стянул с рук, безвольно протянутых мне, наверх. Она сдалась, даже не начав бороться. Мне нравилась Лидина покорность. Слишком неуступчива была Алиса, слишком с характером. И мне требовалась передышка. Я нуждался в белоснежной мягчайшей перине на сотне теплых матрацев. Я, как принцесса из сказки, нуждался в миллионах перин, чтобы избавиться от одной единственной горошины, прожигающей мне ребра во всех смыслах. Чтобы забыть Алису, я нуждался в Лиде.
Я понял, что постоянно думаю о них обеих.
Отбросил рубашку, и сфотографировал Лиду несколько раз, что представлял себе все утро. А потом взял за руку и потащил за собой в комнату. Там, конечно, было огромное зеркало. Но как раз сегодня это было то, что надо. Я заставил Лиду встать на колени, – все еще в юбке – и обслуживать себя. Я принуждал ее, как последнюю шлюху. И если поначалу она сопротивлялась, то потом вошла в транс, и все время и силы уделила лишь моему члену. Она провела полную ревизию, после чего показала высший класс. Все это время я фотографировал. Особенно удачным мне показался снимок, на котором она прижималась щекой к моему члену, глядя куда-то в сторону, чуть высунув язык, и показывая обручальное кольцо.
Если бы международному движению адюльтера и свинга потребовался символ, я бы отправил им это фото.
Лида продолжала, ослепленная вспышками. Я понял, что у нее совершенно отсутствующий взгляд, что она в состоянии грогги, что она боксер, пропустивший удар.
Что же, она расплачивалась за утро, проведенное мной в таком же состоянии.
Я гладил Лиду по голове свободной рукой, сначала легко, а потом все жестче. Мне нравилось ощущать, какие жесткие у нее волосы, нравилось принуждать, хотя сосала она легко, охотно и всегда даже чуть охотнее, может быть, чем раздвигала ноги. Снова отличие между ней и Алисой. Моя супруга, хоть и была любительница выжать все, видела центр мира между ног, в то время, как Лида была не столь категорична.
Я сделал еще снимок, отложил фотоаппарат, и ухватился за голову Лиды. Мне представилось, что она гигантский Мюнхгаузен, застрявший в болоте своей лжи, хвастливый барон, оторванная голова богатыря, лежащая на земле, и мне надо обязательно вытащить ее, пусть она и тяжела, как пушечное ядро. Когда я очнулся, Лида едва не задыхалась, так что я схватил любовницу за талию, бросил на диван и велел, наконец, раздеться. После чего с тщательностью сумасшедшего сделал все то, о чем мечтал утром. С точностью до сантиметра, с выверенностью до секунды. Если бы она была тушей коровы, я бы получил приз как лучший мясник.
Примерно к середине воплощения всех моих грандиозных замыслов у нее зазвонил телефон.
Она испуганно забилась подо мной, но я не дал ей сорваться с крючка. Пришлось Лиде, изогнувшись, вытаскивать из сумочки телефон, и принять звонок. К счастью, это был не муж, который – как она часто утверждала, – обладал почти что сверхъестественными способностями и звериной интуицией. Как и положено всякому представителю латинской культуры, нередко с презрением парировал я. Нам белым, нет нужды ничего угадывать, потому что мы – владыки мира. Она не обижалась. Она настолько привыкла к импульсивности мужа, к его горячности, страстности, переменчивому характеру, что была, бедняжка, совсем дезориентирована. И от того, что она прямиком из барабана стиральной машины, – все еще с кружившейся головой – попала в руки мужчины, который принялся стегать ее раны, ее язвы Христовы, понятней картина мира для Лиды не стала. Часто глядя на Лиду, я видел рослую, грудастую славянку, сдуру вышедшую замуж за какого-нибудь сирийца. С одной стороны, это меня печалило. С другой, таким бабам только черные и нужны, знал я, тщательно выбривая щетину со своих синеющих в зеркале щек. Вроде меня. Невысокие смуглые живчики. Стоит голубоглазой, пышной, русоволосой женщине найти себе статного блондина, как она превращается в мегеру. Подчиняться, сосать и ползать на коленях. Вот и все, чего они заслуживают, как-то сказал мне ее муж, с непередаваемо милой гримасой.
Ему как раз отсасывала статная блондинка из университета Молдавии.
В смысле, она там что-то преподавала, а в свободное от лекций и проверок тетрадей время гостила на вечеринках с доме над городом со своим мужем, крупным, медленным мужчиной, явно терявшимся в обилии голой плоти. Не так ли, спросил меня муж Лиды, похлопав профессоршу по щеке. Я кивнул, боясь рассмеяться и выдать себя. Интересно, боялся ли рассмеяться он, думаю я сейчас.
Да, мама, сказала Лида, и охнула, потому что я подал вперед.
Это была ее мать. Нервическая, вечно грызшая заусеницы женщины, которая, – без сомнений, – была хороша, как и Лида, но растратила пыл своей юности в несчастливом браке с мужчиной, который рано обрюзг. Отец Лиды. Чтобы ему не скучно было стареть самому, жена постаралась догнать его, и максимально быстро. Она даже костюмы спортивные стала носить, что при ее фигуре – великолепной до сих пор – было настоящим самопожертвованием. Мне кажется, она подозревала о нас с Лидой, и это ее очень пугало. Мать Лиды страшила перспектива развода дочери. Мысль о том, что Лида перестанет быть Иностранкой и супругой Консула, и останется в нашей убогой Молдавии, была для матери невыносима. Само собой, о свинг-вечеринках, которые устраивали Синьор и Синьора Консулы, она ничего не знала. И не стала бы знать, даже ткни вы ей в лицо пленку с записью всего, что творилось в доме дочери и зятя.
Лида, постанывая время от времени в сторону – тогда она прикрывала трубку, – что-то невнятно бормотала матери.
Я приподнялся и поглядел на ее грудь. Она была вся в красных пятнах. Я положил голову на них, и представил себя на поле маков. Где-то внизу неумолимо стучал в глубины Лидиной пизды мой железный дровосек, рыча, драл ее юбки мой лев с соломенным сердцем, и слюнявил ее соски безголовый Страшила. Я знал, что если спущу сейчас в нее, то она залетит, но она взяла с меня слово никогда не кончать ей в матку.
Ох, милый, сказала она как-то, я еблива как кошка.
Что еще ты мне расскажешь, сказал я тогда.
Я из тех девчонок, которые залетают, стоит к ним прикоснуться пальцем, сказала она.
Случалось и такое, шутливо пожаловалась она.
Ах ты сучка, смеясь сказал я, да что же это был за палец, если ты залетела.
Она по секрету сказала мне, что Диего сделал себе операцию. Что-то там подтянул в этой сложной схеме веревок и тканей, сосудов и нитей, и теперь по его каналам не плывут шхуны, и шлюзы никогда не открываются. Звучало это смешно. Что-то вроде «перетянуть канатики». Почему-то мне при этим словосочетании пришло в голову что-то, связанное с жуками и усиками. Словно Диего был жучок, – бегавший и ощупывавший все своими усиками, – а их затем взяли да и перетянули. И бедняга свалился на спину, смешно барахтается, дрыгает лапками, и не может встать. Я, конечно, никогда бы так не поступил. Я оставлял за собой право обрюхатить любую из своих партнерш. В конце концов, если женщина не испытывает страха вообще, то она не испытывает и любви.
Дайте женщине быть в опасности ежесекундно, и она привяжется к вам, как заложник к террористу.
Так что я, приподнявшись над Лидой, зашипел и стал накачивать так стремительно, что она бросила без объяснений трубку и запричитала. Нет, нет, не в меня, ныла она, пока я долбил ее, распластанную, и, уверен, сучка получала от этого самое острое наслаждение из всех, какие когда-либо испытывала.
Я уже завелся и хочу в тебя, сказал я.
Придется в зад, жестко сказал я.
После этого она сказала еще пару тысяч раз слово «нет», и заткнулась, лишь когда я велел ей заткнуться и грызть подушку. Что она и сделала, пока я раздирал ее, ощущая исходящий от ляжек, пизды и задницы, аромат абрикосового джема, фруктового повидла и чашечки английского чая с молоком, запаха полыни, примостившейся за оградой сада, и жужжания ленивых, – осоловевших от обилия летней пыльцы, – пчел.
…Лида закричала, и, страдальчески морщась, соскользнула с моего члена, когда я позволил ей сделать это.
Думаю, она почувствовала в себе что-то вроде жала.
И, наполненная этим лечебным ядом, охала и стенала, перебираясь из комнаты в ванную, откуда вышла уже эластичная и розовая, как отмытая после употребления кукла. А я все не мог успокоиться, потому что три часа, – сто восемьдесят минут, все свое утро, – посвятил воображаемой ебле с ней и это так меня расколошматило внутри, что я был словно упавший с 29—го этажа монтажник. Вместо почек и печени у меня было кровавое месиво и кровяные медузы из сосудов и полопавшихся тканей плавали во мне, сочась через глаза и член слезами и смазкой.
Становись раком, и покажи, велел я.
Она показала, и, ей богу, все выглядело так, будто она в этом смысле оставалась еще девственницей. Задница в считанные минуты закрылась и приняла прежний вид. Меня озарило, я понял, что это она, Лида, была инициатором этого скорого и противоестественного соития. И это не я поимел ее, а ее задница, – нескромный мясной цветок, – раскрылась росянкой, чтобы втащить меня туда, и размесить попавшего в ядовитую ловушку зверька, до состояния кашицы, чтобы росянка могла насытиться. Моя сперма была кислотной добавкой, без которой она не переваривала добычу, эта задница. Мы работали в паре.
Я наспех оделся, и выскочил на улицу, купил ей рубашку.
Когда вернулся, она сидела на диване, и снова разговаривала по телефону. На этот раз, с мужем. Но так как мой член не был в ней, Лида не беспокоилась. Она владела собой, когда ее не трахали. Кивком указав на диван, она договорила, после чего отбросила телефон. Она была в колготках и бюстгальтер. У меня опять встал и я возблагодарил Бога за то, что оставлял Лиду на несколько минут. В противном случае мне – из-за чересчур небольшого перерыва, – не захотелось бы ее снова. И уже проводив женщину взглядом, я бы понял, что хочу еще и это желание будет поджаривать меня весь день. А мне и адского утра хватило.
Лида встала передо мной на колени и в который раз за день насадилась на меня ртом.
Что он хотел, сказал я.
Она вынула член изо рта, и, оглаживая его пальцами, сказала.
Он снова устраивает вечеринку, сказала она.
И он попросил меня пригласить и вас с Алисой, сказала она.
Как думаешь, они трахаются тайком, сказал я, ну, как мы.
Или он вспомнил о нас случайно, а, как думаешь, сказал я.
Она пожала плечами, держа член во рту, – я завелся еще больше, – и принялась обрабатывать меня бездумно, как корова, которая ест траву. Я почувствовал дрожь, но было еще слишком рано. Значит, телефон, понял я. Глянул в окно, расчерченное светом из-за жалюзи, – кажется, выступило солнце, – и, щурясь из-за зеленых пятен, посмотрел в телефон. Это было сообщение от Диего. Как всегда и все, – с ним связанное, – оно было Чересчур.
«Текила, начос, и ебля амиго – прочитал я приглашение.
Ниже были указано время. Никакого указания места. Где именно, и так было понятно. Я написал, что мы придем, и поблагодарил. Телефон снова завибрировал. «Не за что», написал он. Я не стал отвечать, потому что он был из породы людей, которые стараются всегда оставить за собой последнее слово. Ответь я, и переписка грозила бы стать бесконечной. Так что я отключил телефон. Лида насадилась на меня так глубоко, как могла – а могла она глубоко – и мой член расцвел в ее горле грибом Хиросимы. Я спустил.
Со смертельным стоном обожжённой насмерть девочки она втянула все в себя.
***
Схема пизды, сказал он.
А ну как же, сказал я.
Понимаю теперь, почему у тебя возникла такая стойкая репутация, сказал он.
Извращенца, сказала, смеясь, Алиса.
Мне это кажется вовсе не извращенным, напротив, даже в чем-то трогательным, сказала Лида.
Я полностью с вами согласен, синьора, сказал я.
Ох уж эти галантные мачо, сказала Лида.
Это немного из другой культуры, сказал Диего.
Мы стояли по углам небольшого столика, стеклянного, но покрытого непрозрачной льняной скатертью. Все глядели на столик, на террасе – нашем обычном месте для встреч – было светло из-за снега, легшего на крышу, парк, и деревья. Периной? Шубой? Нет. Скорее, рукой юноши, неловко заброшенной на плечо подружки в кинотеатре. Снег белел, и из-за этого глубокая ночь казалась нам лишь сумерками. Мы завороженно глядели на столик, – то ли участники тайного сборища, то ли порочные русские князья, собравшиеся на спиритический сеанс в преддверии революции, то ли группка юнцов, решивших хорошенько оттянуться, пока родители уехали в горы. Кататься. Мы, кстати, и поехали в горы кататься, – все вчетвером, – но это случилось чуть позже. Когда снег, – как вкрадчиво сказал Диего, – стал достаточно надежным партнером. Даже не знаю, какое слово он выделил больше. «Партнер» или «надежный». Не в духе Диего было выделять два слова в связке равнозначно. Он всегда подкидывал кость, всегда указывал след, за ним всегда вился дымок намека.
Мне показалось, что он акцентировал внимание на «надежности».
Алиса, напротив, поставила на «партнера».
Оба, – каждый по-своему, – мы оказались правы, и узнали об этом уже в следующую осень.
Но тогда была зима, снег выпал, ночь была сумерками, светила на снег Луна – вся в серебре своего горна, спрятанного за круглой, чуть сгорбившейся, спиной. Хорошо прорисованными тенями выступали на фоне белого неба – белого, как Земля, его зеркальное отражение, – ветви и стволы деревьев в парке. Лишь иногда слышался шорох, но то были даже не белки, крепко спящие в ожидании дневного прихода сердобольных горожан с орехами, семечками, и прочей снедью, которую избалованные пушистые грызуны даже не ели, а прятали, чтобы не найти, и бестолково метаться в поисках ореха, зарытого минутой раньше. То снег осыпался с одной из веток, и дерево мягко опускало груз оземь, чтобы снова подставит ладони небу. Но оно не было щедро в ту ночь, – снег выпал в предыдущие недели. И небо лишь хранило толстый снежный покров холодными ветрами, дувшими сверху вниз.
Какой-то новый, невиданный ветер открылся мне тут, в Молдавии, сказал Диего ворчливо.
Всякое бывало, но чтобы с неба да в землю, сказал он.
У нас, русских, это называется пятый угол, сказала Алиса.
Лида, улыбаясь, объяснила Диего значение выражения на своем беглом, хрипловатом испанском. Удивительно, но ее рот, – полный сладкой ваты и сиропа, – словно начинал перекатывать комочек колючей проволоки, когда она начинала говорить на языке своего мужа. Может быть, то вековые вопли туземцев, преследуемых собаками Писарро, прорывались сквозь нёбо моей любовницы? Я всмотрелся в Лиду. Она была весела, – редкое зрелище, обычно жена консула хранила на лице умиротворенное выражение, – и на виске показались несколько капелек пота. Значит, понял близорукий я, она достаточно вспотела. Как, впрочем, и все мы. Завернутые лишь в простыни, напоминавшие римские тоги, – эпохи упадка, и исчезновения с рынка китайских шелковых тканей, – мы сидели вокруг столика, и пристально смотрели на ткань, покрывавшую его.
На ней была изображена карта пизды.
Был один из вечеров, когда мы, – расслабившись настолько, насколько позволяли нам совместные воспоминания, – предавались бесконечным разговорам ни о чем, доставлявшим нам столько удовольствия. Мы топили камин, разрешение на который стоило целого состояния – но Алиса жаждала поразить дымом из своей трубы товарок по Вальпургиевой ночи, и, ей Богу, ей это удалось, – и от тепла, напоминавшего нижний температурный предел финской сауны, на висках наших жен выступали капельки пота. У Лиды еще и на груди. Алиса даже в такие моменты умудрялась почти не потеть. Про нас с Диего и вспомнить стыдно. Два плотных, крепко сбитых мужчины, мы потели отчаянно, и наши простыни были мокрыми, едва мы садились за столик, – уставленный всякой съедобной мелочью, которую мы и за еду не держали: оливки, чипсы, соусы, какие-то маленькие свернутые лепешки, с начинками из редких вида, несчастных засоленных рыбок, креветок, масел, взбитых в пену с икрой этих рыб, – чтобы посмеяться над женщинами, которые называли это едой.
А нельзя ли чего посолиднее ставить на стол, сказал я как-то Алисе.
Еда педиков и алкоголиков у нас на вечерах, сказал я.
Она, посмеявшись, объяснила – «чего посущественней» накренит градус встречи в едва ощутимую пропасть. Сытые, осоловелые глазки, легкая, – почти не припрятанная – отрыжка, – тайком расстегнутая пуговица рубашки, легкий наклон в кресле, чтобы избежать давления ремня на чресла. Тяжелая пища на ночь убивает.
Тяжелая пища в ночь вечеринки убивает безжалостно, сказала она.
К тому же, вы и на это накидываетесь, как собаки на мусорку, сказала она.
И, конечно, была права.
Мы с Диего, понемногу, нехотя, лишь пробовали сначала все великолепие в маленьких вазочках, которыми был уставлен стол… по чуть-чуть, чтобы поддержать компанию. Потом, где-то под конец вечера, со стыдом понимали, что подмели все подчистую. Хотя и он и я предпочитали приходить на эти вечера сытыми. У нас даже появилась традиция совместного похода куда-то поесть, пока Лида и Алиса приготовят все для вечеринки у нас в доме. Но даже и после этого мы сметали со стола все, пока наши женщины, – с веселым презрением эльфов, – глядели на своих чавкающих волосатых боровов. Женщинам достаточно было за один вечер обсосать один ломтик высушенного и проперченного картофеля – буквально разложить до молекул под языком, – или горошиной перекатывать во рту оливку. Они не ели, а пробовали. Мы заглатывали, а они слизывали. Как ни странно, это предавало нашим маленьким сборищам некоторое равновесие.
Мы с ними уравновешивали друг друга, и если иногда мы были тяжелы, как чересчур обильно выпавший снег, то они были достаточно гибки, чтобы сбросить с себя нас. Но не целиком, не полностью, нет. Только лишь частью, в меру.
Женщина – синоним «меры», сказал как-то торжественно Диего, и мы за это немедленно выпили, чокнувшись.
Каждый потянулся со своего края стола, и я увидел небритые подмышки Диего, которых он не стыдился, а, напротив, это всячески подчеркивал. Щеголял волосней, словно японский гимнаст на Олимпийских Играх где-то в Лондоне. Мокрое пятно под плечом Лиды, и такое же у Алисы – наконец-то ты потекла, сучка, – мокрую верхнюю губу Лиды… Как я упоминал, в такие вечера мы взяли за правило не трахаться, хотя были практически раздеты. После террасы нас ждала гигантская ванная с бегущими из нее пузырьками, – Диего постоянно отпускал скабрезные шуточки про пузыри и воду, – часто мы лежали там вчетвером, совсем голые, и с наслаждением чувствовали на груди давление всех полтутора тысяч литров воды, что требовал этот Левиафан сантехники. Он, – как и камин, – был следствием чрезмерной настойчивости, жизнелюбия и самодовольства Алисы.
Я знал, что из-за этого, – по сути, – бассейна, на нас жаловались муниципальным властям жильцы дома.
Не все, лишь самые ревнивые, претендовавшие на то, чтобы числиться в среде местной знати. Конечно, им в праве посещать наш дом было отказано. Даже если кто-то из них приходил пожаловаться, – может быть, вода, начавшая стекать по потолку или какая другая мелочь, – Алиса могла встретить его в мокрой простыне, и величественно указать на лестницу. Если же у нее было плохое настроение, она просто-напросто не открывала дверь. Отдаю должное мастерству рабочих, установивших нам мини-бассейн, – если у соседей что и текло, то не от нас, и, сдается мне, они всего лишь хотели глазком заглянуть в наши с Алисой сказочные покои.
Пускай смотрят в террасу, извращенцы гребанные, смеясь, говорила Алиса.
Она ненавидела так называемых простых людей. И хотя литературу она ненавидела еще, может быть, сильнее, но я в глазах жены в любом случае был существом высшего, – нежели остальные – порядка. Скажем, она презирала меня, как богиня – титана. А людей для нее попросту не существовало. Поэтому она лишь терпела Лиду. Мы понимали, что Лида у нас в доме – лишь благодаря своему мужу. Моя жена изредка милостиво обращалась к Лиде, но так, что ни у кого сомнений не оставалось: именно что милостиво. Лида знала, что ее лишь терпят, как терпели на Олимпе Ганимеда. И потому взгляды, которые она бросала на Диего, были робкие, и доверчивые. Взгляд человека, который просит не подвести. Диего это лишь забавляло.
Мы, мужчины, знаем… начинал говорить он, после чего резко обрывал фразу.
Получалось, мы, мужчины, знаем. Все на свете, от снега и ветвей, до Луны и женщин. Это так развеселило меня, что я предложил Диего в считанные минуты доказать, насколько он заблуждается.
Мачист ты несчастный, сказал я ему, веселясь.
Мачизм это чуть севернее, отвечал он, заинтересованно всматриваясь.
Лида с Алисой тоже вглядывались, каждая со своего угла. Это Алиса нас так всех рассадила. Она говорила, что никому из нас печальная перспектива не вступить в брак уже не грозит, стало быть, и бояться острых углов нечего. Тем более, что они и не были острые: столик был как будто оплавлен, за ним приятно сиделось. Я в который раз почувствовал благодарность Алисе за то, что она создала наш дом.
Понятно это становилось только в присутствии гостей.
Когда я закончил, Диего посмеялся, а Алиса разозлилась. Лида ничего не сказала. Мне кажется, она особо и не поняла. Я нарисовал на столике символ Инь-Янь. То есть, забавляясь, сказал Диего, ты утверждаешь, что в пизде есть немножечко и мужчины. А как же, сказал я. Пизда с мужским характером и с женским. Это надо обдумать, предложил Диего, и я потянулся за ирландским виски, удивительно мягким, удивительно уравновешенным – как наши вечера, которые мы проводили до утра, накачиваясь виски и ликерами, но удивительно не пьянея, а лишь погружаясь все глубже в негу откровенности, слегка давящую, но такую теплую и приятную. Совсем как воды нашего маленького безбрежного моря – бассейна с неприлично всплывающими пузырьками. Безбрежного – потому что у ванной не было краев – и она была встроена в пол так, чтобы выглядеть естественным водоемом.
Господи, когда же ты работать успеваешь, сказал я, глядя, как Диего глотает красный из-за ночного света, а вообще-то коричневато-розовый, виски.
Это и есть работа дипломатического работника, малыш, ответил он, смеясь. Свинг, да попойки, сказал он. Да шпионаж, добавил я наобум. Алиса слегка нахмурилась. Даже когда она выглядела – и звучала – вызывающе некорректной, она оставалась в рамках. Если, конечно, речь шла не обо мне. Со мной она могла себе позволить немного пантакратиона. Во всех других случаях, – даже когда она совершенно отключала сознание, – что-то оставалось в ней, что-то, что всегда останавливало Алису на самом краю.
Она могла нахамить так, что оскорбленные присылали цветы и приглашения на самые закрытые приемы.
Поэтому Алиса особенно не любила, когда я допускал промахи. Это – фраза про шпионаж, – было из числа промахов. О делах порядочные люди не говорят. Так что я хихикнул, чтобы все можно было списать на неудачную, – рожденную тремя глотками виски вместо положенных двух, – шутку. Диего рассмеялся. Малыш, сказал он, – он всегда называл меня так, хотя разница между нами была всего в несколько лет, и я был выше на несколько сантиметров, да и выглядел чуть покрепче, – малы…
Черт побери, я старше тебя на пару лет, выше на столько же сантиметров, какого дьявола ты называешь меня малышом?! притворно возмутился я, Алиса закатила глаза, Диего снова рассмеялся – довольный, а Лида просто молча показала мне большой палец. Распни его, распни, простонал смеющийся Диего. Да нет, добей, поправил я, ухмыляясь.
Это просто признак мачизма, стремление хоть на сантиметр но оказаться выше других, сказал я.
Ничего подобного, малыш, сказал Диего. Я просто люблю тебя, как друга, сказал он. Почему бы вам тогда не потрахаться, сказала Алиса, теперь уже рассмеялась Лида, а я пошел красными пятнами. Наш друг, сказал весело Диего, совершенно лишен двойственности латинской культуры, позволяющей и так и этак. Для двузадого Януса ты хорошо усвоил русский язык, сказал я. Для двузадого ануса, сказала Диего, и снова заржал. Алиса и Лида захихикали и я, сколько не сдерживался, не сумел не улыбнуться. В этом была сила Диего. Он, – как радио в сельском автобусе, – мог рассказать самый пошлый и отвратительный анекдот, который вы когда либо слышали, причем множество раз в жизни, но вы все равно смеялись.
Как и весь автобус.
Так что я посмеялся вместе с Лидой и Алисой. Подбородок Лиды подрагивал, она чуть прикрывала рукой рот, а другой тянулась к тарелке с какими-то водорослями, причудливо совмещенными моей женой с кусочками печеной утки, – такое же странное сочетание за этим столом, как и мы все, подумалось вдруг, – и я бросил взгляд на ее подмышку. Мне вспомнилось, как и лизал ее там, заставив заложить руки за голову. Диего, поймав мой взгляд, приподнял стакан и снова глотнул. Мне пришлось налить ему снова, и допить свой виски, чтобы не отставать. Алиса взяла салфетку и прикрыла ей нарисованное мной пятно. Сказала.
Все это херня, милый, литература, сказала она.
Отображение отображения, сказала она.
Знаешь, если тебе захочется нарисовать схему пизды, ты просто загляни в мою, сказала она.
Или в Лидину, сказал Диего галантно.
О, сдаюсь, сдаюсь, сволочи вы такие, на следующем вечере, непременно, пробормотал я слабо. Но ведь и вы неправы, попробовал я отступить достойно. Все, что я имел в виду, лишь метафорическое описание, так сказать, сущность идеи, переданная словами.
Скорее, образами, радостно подхватил Диего.
Совершенно верно, сказал я, благодаря глазами.
Вместо ответа Лида встала и сбросила с себя простыни, под аплодисменты Диего и мои смущенные похмыкивания. Но, конечно, я был счастлив. Даже Алиса выглядела довольной. Наша крестьяночка раскрепостилась, сказала она мне позже, вспоминая этот вечер. Лида, в свете Луны, на фоне парка, должно быть, выглядела еще одним причудливым трафаретом: стволом сосны, игрой природы и паразитами-наростами сделанный похожим на женскую фигуру. И даже чуть выпуклый живот не ломал этой ассоциации. Просто кора от холода чуть вздулась.
Продашь туристам карту, дорогая, взвизгнул слегка Диего.
Кто знает дорогу, тому и указатели не нужны, сказала Лида.
Повернулась к нам спиной, – я обратил внимание на то, что ягодицы не провисли, – и пошла, осторожно, как подвыпивший человек, ступая, вниз. Мы услышали всплеск в бассейне. Кто со мной, крикнула она слабо снизу. Я приподнял бокал, и отпил слегка. Алиса встала, и, сбросив простыню, тоже покинула нас.
Черт побери, сказал Диего, выпьем еще, а потом пойдем вниз.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.