Текст книги "На шаткой плахе"
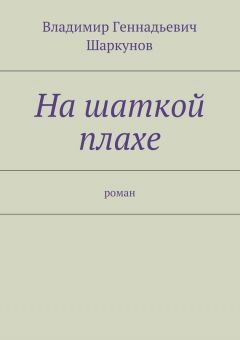
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Шли месяцы, медленно собираясь в год, другой… Из «старичков» в камере остались я и Пиля, остальные четверо «припарковались» во время переброски из камеры в камеру, которую устроил режим.
Радион давно откинулся, но грев, как обещал, не сделал. Мудило. Помелом щелкал, что утка клювом, а коснулось дела и… На кого, на кого, а на него я надеялся как на самого себя. И напрасно Пиля пытался убедить меня в том, что Радион оказался жертвой обстоятельств. Мол вдруг, если его не встретили родственники, тогда менты будут сами сопровождать его до места жительства, потому что всякий крытник, выйдя на свободу, в обязательном порядке цеплял надзор и каждый получал его индивидуально в силу своего морального и психологического разложения, но никак не меньше года. Буквально это значило, что поднадзорный должен с пяти часов вечера и до восьми утра находиться в стенах своего дома, и каждый понедельник являться в мусарню для отметки. В любое время с проверкой мог заявиться участковый. И, не дай бог, если после второй, третьей проверки, поднадзорного не окажется дома (мало ли, может в клубе на танцах) его автоматически, без состава преступления, (отсутствие поднадзорного – есть преступление) арестуют и водворят в СИЗО – год лагеря с усилением режима ему обеспечен. Но я не желал понимать, что там могло произойти, я просто костерил Радиона последними словами, убежденный в его наплевательском отношении к нам. В конце-то концов, он мог уболтать ментов по месту жительства и вернуться на пару дней, обратно сюда. Тем более, что канал передачи у нас был налажен стопроцентно – не надо шевелить извилинами. Передай грев и все дела. Нет, я был убежден, что поступил он так сознательно, а стало быть по-свински. Мудак, и все тут!
…Режим козырем расхаживал по тюремным коридорам и, нередко, демонстрировал свое самодовольство крытникам без выбора, посещая ту или иную камеру. Убедившись, что тюрьма признала, пусть и не совсем пока, но все ж впитывала его «конституцию», он, в кои-то веки позволил крытникам некоторые послабления. Стали, как в прежние времена, давать книги раз в десять дней. Надо заметить, что библиотека тюремная имела много редких книг, каких и на воле-то не сыскать. Можно было записываться к медику, в том числе, к зубному врачу.
Я, благодаря такому послаблению, умудрился закрутить любовь с Валей. И как мне казалось, любовь не шутейную, с ее стороны, разумеется. Если кто-то из нашей камеры записывался к врачу, я сидя на корточках у кормушки, пока она разъясняла «больному» как, по сколько и в какое время принимать таблетки, плел ей такие кружева про свои искренние чувства, что она на некоторое время теряла над собой контроль и от смущения и даже некоторой стыдливости ее лицо розовело. Она позволяла касаться ее рук и не только, если конечно, поблизости не было контролера. Иной раз, в силу непредвиденных обстоятельств, (например: не далеко от камеры стоял дубак, с неохотой наблюдавший за работой медика) высказать свои сокровенные, загодя отшлифованные слова Вале, не представлялось возможным. Но зечара я был битый, и поэтому у меня все было предусмотрено. На этот случай я заранее писал письмо, листах на шести, лишая себя сна в ночь накануне прихода Валентины. Улучшив момент я кратче протягивал ей письмо и она быстро прятала его в карман халата.
Не знаю, что подвигло Валентину на такой шаг, какие чувства ей управляли, да и вообще, на кой ей это было надо? Но тем не менее, вскоре она прописала мне горячие и витаминные уколы, и самое важное, диетическое питание в течении месяца. То есть она сделала мне диагноз больного. (Здоровые в этой обители были разве что клопы). Диета, понятно, делилась на всех, а вот уколы я принимал один. Лучше б наоборот. На уколы меня водил контролер. Врачебный кабинет Вали находился в конце коридора. И пока она улыбаясь всаживала иглы в мое «могучее» тело, дубак все это время стоял в дверном проеме кабинета, (другой бесцеремонно садился на кушетку у выхода), и одним глазом косил в нашу сторону, чтобы я, не приведи бог, не распустил руки. Но мы лишь вполголоса разговаривали, так, чтобы дубак не смог расслышать о чем. Я обратил внимание на то, что Валя намеренно затягивает с процедурами, по долгу возится с ампулами, шприцами. Зачем спрашивается? Не похоже, чтобы ради разговоров, ведь говорили мы настолько тихо, что почти все время приходилось переспрашивать сказанное. Чутье мне подсказывало, что за этим кроется какая-то тайна. Но какая? Иной раз она настолько вызывающе близко ко мне приближалась, что я почти угадывал носом в ямку ее пышной груди. А поскольку я не из полена строган, меня начинал забирать легкий приятный зноб. Но всякий раз сила разума брала верх над силой животного пробуждения. И к тому ж, присутствие дежурного заставляло меня тормозиться в своих худых помыслах. Валентина не единожды оказывала мне такое халявное внимание, ее ничуть не смущало присутствие дежурного. Но дать волю рукам я остерегался.
Вскоре случилось и вовсе непонятное. В течении дня на процедуры меня не вывели, при том, что Валентина была на работе, мы слышали как она делала обход некоторых камер. И вдруг, кто бы мог подумать, спустя минут сорок после вечерней проверки, лязгнул замок, открылась дверь камеры и мы, предварительно вскочив на ноги, ожидая увидеть в такой час если не самого режима, то наверняка ДПНТ со сворой, с изумлением вытаращились на возникшую в проеме Валю, как всегда в белом халате и с румянцем, никогда не сходившим с ее щек.
– Ну, ты на уколы идешь? – спросила она, глядя мне в глаза и приветливо улыбаясь.
Сокамерники обрадовались за меня, и пока я приходил в себя после нежданно-негаданно явившейся гостьи, в один голос, затараторили:
– Давай шустрей, не то Валюша передумает! Не стой, как заторможенный, греби, да повеселей!
Оказавшись в коридоре, я подивился, Валентина сама, как профессиональный дубак, закрыла двери камеры невесть откуда взявшимися у нее ключами. Дежурный нашего поста находился метрах в тридцати от нас у коридорной разгородки, и, не обращая на нас внимания, разговаривал со своим коллегой, на посту у которого уже приступили к мытью полов бабенки из следственных камер. Я был шокирован таким оборотом дела.
– Пошли, – мельком взглянув на меня, сказала Валентина, и слегка размахивая рукой, в которой держала ключи, зашагала в направлении своего кабинета.
Привычно заложив руки за спину, я, в двух шагах сзади следовал за ней.
Какие могут быть процедуры за два часа до отбоя, думал я, как магнитом прильнув взглядом к подергивающимся в такт ходьбы ягодицам. Коль уж так она поступала, то мне ничего не оставалось, как предположить, что процедуры будут несколько иными. Внутри у меня не зажегся, а вспыхнул пожар желания. Ай да Валя, ай да процедурщица!
Она была на голову ниже меня, зато на пять лет старше. Мужа у нее не было, но был сын пяти лет, с которым она жила вместе с матерью под одной крышей в доме, который построил ее отец, рано ушедший из жизни. Неужто она и вправду намеревалась найти своему сыну отца из числа заключенных? Тем более из такого прожженного контингента как мы, светлое будущее которого для большинства из нас будет до конца дней своих находиться под неусыпным оком часового на вышке? С ее стороны, как я кумекал, на лицо отсутствие здравого смысла. Это ж каким надо быть снайпером, чтобы попасть в яблочко.
Ну, да как бы там ни было, мы дошли до кабинета, она открыла дверь и посторонилась, пропуская меня. Я вошел и как обычно сел на туборь у стола, где лежали разные медицинские прибамбасы. И тут я вдруг серьезно испугался. А что, если сейчас, оставшись вдвоем, она в корень обнаглеет, и ей захочется мужика? Ведь не просто ж, красного словца ради, она устроила мне лечение в это время? Как мне в таком разе быть? Я, признаться, в любви дилетант, и у меня нет надлежащего опыта, в столь интимном деле с женщинами. В свободном мире я прожил восемнадцать лет. Меня, можно сказать, пацаном вырвали оттуда, и теперь я, если дойдет, вляпаюсь мордой в грязь. Это не я пыхал жаром, это кичился тот, который во мне сидит. Однако изворачиваться и краснеть, как не крути, придется мне. «Господи, отнеси тучу мороком», так будто говорила моя мамка, предчувствуя приближение чего-либо нехорошего.
После того как Валя подошла к столу и приступила к обычной, в таких случаях, подготовительной работе врачевания, я повернулся, чтобы посмотреть на дверь кабинета. И, о чудо, она оставила ее настежь отворенной. Господь услышал меня! Я спасен! Но как оказалось, Валю ничто не смущало, она и на этот раз продолжала вести себя «подабающе». Мне неизбежно приходилось попадать лицом в ее грудь. А когда она делала горячий укол, обязательно садилась напротив и нагло просовывала свою пухлую коленку между моих, костлявых. Руки у меня так и чесались.
Послышался шум шагов в крытой галерее, которая напрямую связывала второй этаж тюрьмы с административным зданием. Ее, галерею, сработали за неделю. Видимо нового хозяина не устраивал подъем на второй этаж по узкой, железной, винтовой лестнице, вот он и дал указание на постройку.
Шедших было, как минимум, трое. Брякнули двери галереи, и шаги поднявшихся на этаж уже слышались совсем близко по коридору. Мы вместе с Валей смотрели в проем открытой двери. Прошли четверо: «полковник» – старшина, единственный из корпусных, откровенно ненавидящий нашего брата, за что и был отмечен кличкой от слова полкан, ДПНТ, опер – молоденький лейтенант и сам хозяин. Все, в том числе и Бизон, проходя смотрели в открытую дверь медицинского кабинета. И ведь прошли. Бизон даже не удосужился поинтересоваться у врача, какого рожна в это время она в тюрьме, да и к тому ж ведет безнадзорный прием.
Мне не верилось, как же так? Бизон прошел, словно не замечая. Такого не должно было быть, не мог он пройти мимо, не в его это манере. Нет, тут что-то не то. За этим явно что-то кроется? Я «присел на измену». Уж не вляпался ли я в говно? Не является ли этот кабинет, поставленной на меня ловушкой? Е-мое! Меня будто ледяной водой окатило. Они ж провоцируют меня, а я, бычара, и уши развесил. Вот же мрази! Это «семляк» мне капкан поставил, больше некому. Под раскрутку пустить хочет, чтобы я еще лет этак десять в этих жерновах перемалывался. Вон почему Валюша себя так охотно, с пылом подавала. Проститутка кумовская! Блядина вертухайская! Кобыла заезженная! Кряква подсадная! Не-е, ну и валет. Любви ему захотелось, казанова гребаный! О-ой в какой же омут я нырнул? Надо выплывать, да пошустрей, не то затянет на дно…, э на дно я не хочу. Не надо мне туда. Не-хо-чу…
Я встал и молча пошел к выходу.
– Ты куда? – окрикнула Валя, растерявшись.
– В камеру.
– Подожди, я сейчас.
– Не заблужусь, – холодно сказал я, и заложив руки за спину (это движение делается машинально – приученность), зашагал по коридору в направлении своей камеры.
Девки уже швабрили пол на нашем посту. Завидев меня, обе, медленно попятились к стене.
– Что шугаетесь, шаньги сдобные? – бросил я им походя, – мне самому страшно.
Сзади приближался шлепоток Валиных тапочек.
– Ты ково испугался-то? – поравнявшись со мной, спросила она. – Тебе нечего бояться у меня в кабинете.
– Ты знаешь, – я ее уже возненавидел, – я, как-то, больше тяготею к коллективу.
– Что-то я тебя не поняла, – она или дурочку включала, или же таковой являлась, чего я в порыве любовном не разглядел. – К какому коллективу?
– К камерному, Валя, к камерному!
Она, раскрыв рот, остановилась. На встречу шел дежурный. Валя, спохватившись, крикнула ему, почти не своим голосом:
– Петя, закрой этого в девяносто восьмую!
Утром я уже питался из общего котла. Вдруг сразу как-то выздоровел. На процедуры меня не выводили, чему я был непомерно рад-радешенек. Слава богу, пронесло. С этого дня к кормушке, если нарисовывалась Валя, я не подходил. Расхотелось любить и быть любимым.
16
Средь нашего брата бытует мнение, дескать, срок быстрее идет на убыль, когда перевалит за половину. Я в этом не уверен. Ведь если судья отмерил тебе десятку, то по истечении половины она никак не обратится в пятерку, оставаясь десяткой до самого звонка. По-другому не бывать. Глупо полагать, что вторая половина срока растает, как апрельский снег. И не менее глупо подменять действительность миражом. Ну, если кто-то, таким образом, успокаивает душу, обнадеживает себя, его дело.
Вот и у меня за половину перевалило. И что из того? Срок как тянулся, так и тянется, словно нескончаемая, могучая бурная река по пересеченной местности, которая несет меня от самого истока, крутя в тугих воронках, шмякая о каменистые берега перекатов, норовя утопить в своих мутных водах, чтобы я никогда не увидел устья. Поглядим, авось доплывем.
К этому времени я потерял счет «пятнашкам», которые отбухал в изоляторе. И к тому же успел шесть месяцев отсидеть в БУРе. Опера пугали – крытая по тебе ревом-ревет, если избежишь раскрутки. Раскруткой они начали стращать меня, после того, как я размозжил чан одному «катале» и тот надолго попал в больничку, где ему, «ремонтируя» голову, в нескольких местах наложили швы. Но иначе, увы, я поступить не мог. И не только не мог, я права не имел.
Андрей, так звали этого клоуна, был мой земляк. Как земляк? Взять географически, он из поселка, который находился в двухстах километрах от моего места жительства. Знал я его так себе. Жил он в десятом отряде, в другой локалке. По жизни мужик, и как мне казалось никуда нос не сует. Когда обращался, я выручал его то чайком, то куревом. Как земляку отказать? Не по-человечески это будет.
И как-то в промзоне, в одну смену попали, он нашел меня и после минутного пустопорожнего разговора спросил:
– Зема, ты чайковским не богат?
– Слушай, Андрюха, мне не в жилу тебе отказывать, но ты пойми правильно, сами на мели сидим. Веришь, у самих кропаль остался. Со дня на день должны подтянуть. Апозжа подскакивай, если все срастется, базара нет, поделюсь.
– А может это, Миха, бабками располагаешь? Если имеются, я махом сгоношу с чайком. У меня с вольняшками-водилами подвязки конкретные. Сейчас вон, в цехе два «Камаза» грузятся. Чо дак, я б прям сейчас лукнулся, а завтра к обеду уже б все правильно было.
Бабки у нас на этот момент имелись. Куда деваться, надо землячка выручать. Я сходил в бугельную (отдельное, с дверью, в цеху помещение с пятью сварочными кабинами) и нырнул в курок в своей кабине. Когда отдавал Андрею два четвертака очень серьезно его предупредил:
– Андрей, хоть ты и земляк мой, все ж помни, – не подтянешь чая, вернешь бабки. На все про все, неделя сроку тебе. Это на тот случай, если у тебя с чаем облом получится. И не в обиду будет сказано, закрутишь юлу, за бабки спрошу по полной программе. Лады?
– Миха! – он на радостях начал убеждать меня. – Ты чо, братан! Мне какой смысл косорезить? Если что, я сам гриву подставлю. Будь спок, все будет «абдельмахт»! Отвечаю!
– Короче, я тебя предупредил. А уж как ты сработаешь – сам решай. Делай по-человечески. Да гляди, чтоб самого не прокатили. Ну, все, бывай. И, главное, не унывай.
На этом мы разбежались. Мне хотелось надеяться на порядочность Андрея. И в то же время какая-то совсем мизерная, как заноза, частичка недоверия закралась в мое сознание. Уж больно он ретиво вел себя в этот раз, чего раньше за ним я не замечал. Впрочем, это его личная беда. Но если он задумал поиграть с огнем, обвести меня вокруг пальца, как овцу стриженную, то его ждет наказание. По-любому, отвечать ему тогда придется сполна и к тому ж по законам зоны – неписаным, жестоким босяцким законам.
Как оказалось, не зря я сомневался в Андрюше. Выяснялось, что порядочность, как понятие, для него не существовала. Он пропитался лагерной гнилью, прикрывшись маской мужика, и пропитался насквозь, иначе, как гнида, его не назовешь.
Обо всем этом я узнал спустя два месяца. Не так-то просто выцепить человека в зоне, и тем более такого, который понимает, что встрял, и ему ничего не остается, как только «гаситься», чтобы оттянуть на какое-то время неизбежно ожидаемое возмездие.
Я по-тихому, словно бывалый сыскарь, наводил справки об Андрюше. И вот какая картина в связи с этим у меня нарисовалась. Земляк мой слыл у себя в отряде картежником. И как я выяснил, картежником не ахти каким. Долги все ж умудрялся отдавать, тем более, что играл он не всегда на бабки, чаще на шмутье и ларек. И тот полтинник, который я ему самолично вручил, он отдал в счет карточного долга. Да подойди он, ко мне по-людски со своей бедой, я б по-земляцки выручил его, и возможно, помог бы избавиться от карточной зависимости. Через карты народу пострадало – уйма. Многих опустили, других петухами сделали. В этой системе, в отдельных случаях, могут простить долг денежный, но долг карточный – никогда. И несмотря на то, что об этом все знают, все одно ныряют в этот омут. Всяк надеется, что уж его-то не коим образом такая участь не постигнет. Дескать, я такой катала, что сам любого вгоню в долг. А между тем, карты – игра далеко не каждому по мозгам. Картами в совершенстве, владеют лишь единицы. И, как правило, всякий истинный катала, стопроцентный шулер и мухлер. Вот такие вот деятели и втягивают начинающих, дают им по-первости раза три-четыре выиграть и даже урвать хороший куш. А те лопухи, уверовав в силу своего «таланта», опьяненные легким выигрышем с упоением проглатывают наживку. Что и приводит в оконцовке этих окрыленных карточных гениев в гребешковый ряд. И счастье тому, если катала простит. Случалось, что прощали. Но только при одном условии – если проигравший больше никогда не возьмет в руки «стос». А ежели он проигнорирует это и вновь будет замечен со стирами в руках (просто, без игры с кем-то), могут и на перо посадить, если не на стальное, то на кожаное – верняк.
Долгохонько мы «охотились» на Андрюшу, прежде чем выцепили его. Зная, что кара неизбежна он словно маг исчезал из поля нашего зрения. Но вот и для него настал момент истины. Добровольно он не желал идти к нам в бугельную. Пришлось применить силовые методы воздействия. Пока я отвлекал его внимание на себя, заверяя, что с ним обойдутся без «нагрузки», Радион, со всего маху, жогнул ему по спине ломом. Андрюша с вырвавшимся из груди слабым хрипом, пал на колени и с перекошенным от боли лицом, стал медленно, запрокинув голову, изгибаться назад. Покуда у него дыхание сперло и он не мог заорать, взывая о помощи (менты на крик налетели б галопом), мы подхватили его под белы рученьки и уже через пару минут доставили в бугельную, в самую дальнюю кабину. Когда его жабры пришли в норму, орать не имело смысла. Он понимал, что сейчас его будут больно бить. Чувство обреченности вжало его в угол, он весь дрожал и еще что-то пытался бормотать в свое оправдание, надеясь, что будет услышан и быть может милован.
Перед тем как приступить к экзекуции я прочел ему наказ, некое подобие молитвы, чтобы он принял наказание смиренно, с чувством раскаяния в сотворенном им грехе.
– Не трясись, – сказал я ему. – Сумел нагадить, имей мужество отвечать. Ты не хуже меня знаешь, что в этой, прогнившей до недр жизни, за все надо платить. Я тебе, как землячку, на, Андрюша, пользуйся моей добротой. А ты? А ты решил, что меня можно кинуть! Овцу во мне надыбал! Ты хоть понимаешь куда и как втюхался?! Козлиное твое нутро, сучонок! Может тебе в попе бобу сделать, а? Что молчишь, ублюдок! – Во мне уже созрел палач. – Не бойся, е..ть тебя никто не собирается. Твоя вина, катала сраный, не подлежит никакому оправданию! Бабки, которые я тебе от сердца оторвал, мне послали мои родители. Ну, ты знаешь, как это делается. Так вот, слушай сюда, гнида! Мамка моя работает на железной дороге с путейским молотком – забивает в шпалы костыли. И батя, как ты понимаешь, не бухгалтер. Так что копеечка им дается нелегко! И лишь из-за того, что ты мой земляк, у меня нет желания опустить тебя, поставить в один ряд с чушками и педиками. А за такое «падло» – следовало бы! Бродяги меня б не осудили, скорее наоборот, сказали б «воздал по заслугам». Или может, все-таки, жахнуть тебя?! – Меня уже всего трясло, не знаю, как я еще умудрялся сдерживать себя. – Что ж ты за человек такой? Когда просил у меня бабки, ты смотрел мне в лицо. А как ты говорил? Ты не говорил, ты пел! Так наберись же мужества и посмотри на меня! Мужик ты или нет, в конце-то концов?!
Он еще только подумал, его руки, прикрывающие лицо, еще не успели опуститься до подбородка, как я нанес ему резкий удар в область переносицы. Он вновь закрыл лицо и чуть присел. Я схватил железную полосу, заготовку бугеля, и начал дубасить Андрюшу по рукам, голове, спине.
В себя я пришел когда мои кореша цепко держали меня за руки. Если б они не оттащили меня, я б убил Андрюшу. Убил бы наверняка, потому что в порыве мести, я не отдавал отчета своим действиям. Какое-то время я пребывал, словно под гипнозом.
Окровавленного, в бессознательном состоянии Андрюшу, кореша волоком утащили из бугельной, и протащив метров тридцать по цеху, в котором во всю грохотали многотонные прессы, бросили его в закут, за пескоструйкой. И конечно же, многие работяги цеха, и не только они, не могли этого не заметить.
Вскоре прибежали медбратья и утрелевали Андрюшу на больничку. А еще через полчаса, на съеме с работы утрелевали в ШИЗО меня и Радиона.
Отсидев пятнадцать суток я поднялся в зону, а Радион (мы сидели в разных камерах), схлопотал еще пятнадцать за то, что во время раздачи пищи, поймал Пони за руку, задернул ее в камеру по самое плечо и стал крутить, да так, что тот, топая ногами, блажил как недорезанный. За что его так Радион – не знаю. Может соли лишка насыпал? На два дня Пони выбыл из строя, его подменял другой из хозотряда.
Опера не дали Радиону подняться в зону, слишком много он имел приводов и даже два БУРа. По прошествии какого-то времени его судили и он до конца срока был этапирован в СТ – то бишь крытую.
Меж тем время отмеряло свой ход. Некоторые из моих корешей чалились в БУРе, другие, как Радион, были сбагрены в крытку; кто-то ушел на свободу. Я что называется, встал на крыло. Теперь уже я учил уму-разуму молодых, пришедших на зону. Наставлял, так сказать, передавая опыт что-ли. Но опера тоже не дремали, кто, кто, а уж они то знали свое дело. Я нутром чуял, что на меня повсюду расставлены сети, в которые, как карася, загоняли меня щуки-опера. Такой финал уже был неизбежен. Пришел и мой черед. Надо было держать ответ за свою непокорность. Поднадоел я видать порядком. Что ж, этого следовало ожидать.
Я как можно меньше старался светиться, попадать на глаза офицерам любого калибра. Но все тщетно. Меня подловили, изобличили и закрыли.
А произошло это следующим образом. Режим, у которого в свое время не пролезло объединить зеков в один общий «гурт», придумал такую козню: запретил зекам уносить хлеб в отряд. То есть зек, хочет он того или нет, должен был съедать пайку в столовой. А пайку нам делили на три части: утром двести грамм, в обед – двести пятьдесят грамм и ужин, соответственно, двести грамм, и никто никогда не запрещал заключенному распоряжаться его кровняком. Какая разница где он съест пайку – в секции, в промзоне ли? Ведь это его пайка и никто не в праве разевать на нее хлебало. За такое можно и под х… угодить, очень даже запросто. Ан нет, нашлась мразь, с погонами майора, с партбилетом в кармане, которая, творя беззаконие, ни за что не отвечала. Его, режима, забавляло если зеки противились, брыкались.
И дернул же черт меня пойти вечером в столовую. Я уж и забыл, когда последний раз бывал там (это не возбранялось, пайку мог принести кореш, или любой, проживающий с тобой в одной секции). На обратном пути я шел крайним в пятерке и нес, обернутые газетой «весло» и пайку в руке, ни о чем не подозревая, как делал это и всегда раньше. Когда отряд входил в открытые ворота локалки у меня из рук кто-то резко выхватил газету с пайкой. Я тут же обернулся, чуть сзади стоял «красноперый», что дергает штыри калиток в локалке.
– Ты, козел! Ох… л что ли?! – я буром попер на него.
– Не положено хлеб…
Я с правой ноги засадил ему в пах. Он согнулся, бросил сверток. Хлеб отскочил под ноги идущим отряда. Я озверел. Второй удар я нанес ему в поганую морду. Он повалился на бок и рухнул на землю. Строй отряда нарушился, потому что те, кому под ноги угодила моя пайка, остановились, не дав, таким образом, растоптать ее. Я взял хлеб, подошел к козлу, который еще не оправился от неожиданно постигшей его участи, размазывая красные сопли по морде, и глядя ему в глаза, полные ужаса, сказал:
– Кушать хочешь, красноперый? – я не знаю с какой силой ударил хлебом о его рожу и стал вдавливать хлеб ему в ненасытное, поганое хлебало. – На, жри, кочет! Жри, сука!
Он крутился подо мной, пытаясь высвободиться, вертел мордой, выплевывая кровавые хлебные крошки.
– Давись, кумовской выкормыш!
Тут на меня навалились солдаты, невесть откудава взявшиеся, заломили руки и поволокли на вахту. Я еще долго не мог прийти в себя. И после того как уже находился в камере, среди мне подобных, продолжал часа два исходить гневом, поливая последними словами режима с его тупорылой, как и он сам, затеей.
Как, как я должен был поступить? Сказать козлу: извини, я не знал, и подарить ему свой кровняк? Хрен на рыло! Да каждый, маломальски уважающий себя зек, поступил бы точно также. Эти мрази все человеческое продали кумовьям за сладкую жизнь и обещанное им УДО (условно-досрочное освобождение). Сегодня они вырывают из рук пайку, завтра им занадобятся мои «прохоря», а потом, глядишь, и подпрашивать начнут. Это ж голимый беспредел получается.
Как бы отреагировал режим, если б у него, при выходе из хлебного магазина, из авоськи выхватили батон и сказали: не положено уносить домой, батон нужно съедать в магазине? Ведь это, по сути, одно и тоже. Шакал он, а не режим. Негодный человек. И даже совсем не человек, а упырь, как еще скажешь.
От дежурных прапоров я знал, что на меня готово постановление о переводе в БУР. Так оно и случилось.
Поднимать меня в БУР из изолятора пришел сам Пекин. Эта процедура много времени не занимала. Ни мыть, ни переодевать зека не было необходимости. Просто тебя из кичевской камеры переводили в другую, в которой сидеть куда комфортнее. Тут тебе и трехразовое питание, пусть и пониженное, на ночь постельные принадлежности, газеты, журналы – пожалуйста, махорочки завались и отоварка к тому же на три рубля в месяц, пол деревянный, оттого и теплее, чем в ШИЗО. Терпимо одним словом. Только что на полгода под замком. И на прогулку у нас не водили, прогулочных двориков не предусмотрели. А обязаны были предусмотреть буровик, по закону, ежедневно должен тридцать минут пребывать на свежем воздухе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































