Текст книги "На шаткой плахе"
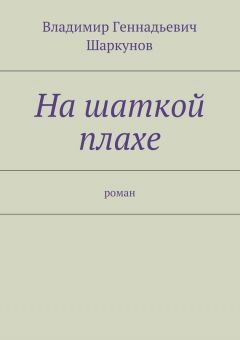
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
– Оба! – выкрикнул Тувинец, таривший чай в подушку. – Что за на х…?
– По ходу провода перехлестнулись, – сказал я.
Но как бы там ни было второй чулок, невредимый, приехал в камеру. Я цинканул подергом Валере, что груз дома и почти сразу услышал три его прощальных свиста. Дело было сделано.
Я быстро выбрал шнур в камеру. Такая вещь сгодится всегда. Хорошо что все прошло как по маслу. И конечно, спасибо Клопу. Нитки и пара швейных иголок в камере имелись всегда. При свете спичек минут за двадцать мы распихали чай по матрасам и подушкам, и наскоряк, как сумели, зашили.
Слышно было, что к нашей камере вот-вот подойдут, двери бухали совсем рядом.
– Неужели, бляди, узрели? – замандражировал Радион. – Если так, то кичи нам всем не миновать.
– Да с хуя! – возразил Пиля. – Если бы спалили, что б они по всему продолу бегали? Вышкарь бы им точняком наколку дал. Так – не похоже.
Когда у нас открылись двери, мы лежали на шконках. По нашим лицам забегали лучи фонарей. ДПНТ, из уже вновь принятых, довольно спокойно спросил:
– У вас все нормально?
– Да нормально вроде, – сказал Пиля голосом, будто бы спросонья. – А что со светом, гражданин капитан?
– Сейчас устранят.
И все ж лучи фонарей дольше чем где бы то ни было, задерживались на окне. Знал бы капитан, как у всех нас клокотало нутро. Когда закрылись двери, все разом, облегченно выдохнули. Мы смогли, мы сделали это.
Менты даже и не предполагали, как они жидко обделались. Нет, они конечно, своими куриными мозгами что-то заподозрили, только кругозор их подозрений оказался недостаточен. Их больше занимала внутритюремная обстановка, а не то, что может произойти за ее пределами. Казалось бы, комбинация, задуманная нами, была проста, как три копейки. И тем не менее, сделав два хода, мы выиграли. Не зря кто-то изрек «все великое просто». Сегодня фортуна была на нашей стороне.
Вскоре дали свет. Наверняка проводам ничего не доспелось, скорее всего на подстанции выбило вставки, замена которых не требовала много времени.
До отбоя еще оставалось часа полтора, когда на продоле воцарилась тишина. Тувинец бесшумно просунул в глазок прутик от веника, на конце которого был приспособлен малюсенький осколок зеркала и, просмотрев коридор в обе стороны, сказал:
– Все нештякулы, можно варганить.
Впервые за много много дней мы отвели душу. Чифирнули, что называется, по-богатому. Вкус листового чая приятно кружил голову. Время уже было далеко за полночь, а мы, разогнавши кровь чифирем, вполголоса, все еще не могли нарадоваться постигшей нас удаче.
С чаем жизнь обрела совершенно иной смысл, день за днем пролетали незаметно, нам даже их не хватало. Мы будто заново родились.
Вот ведь что может сделать с зеком обыкновенный чай.
Тем временем «Бизон» продолжал бесчинствовать, круша тюремные устои, внося свои, «истинные» правила распорядка, согласно которым, узникам ни что не оставалось, как принимать их через «страдания», или без таковых. Ежедневно десять-пятнадцать камер подвергались тщательному шмону. На время шмона зеков выводили из камер и тоже подвергали досмотру, заставляя раздеваться до гола и приседать. Тех, кто пытался выказать недовольство, тут же волокли в карцер. Хозяин рубил под корень. Он формировал новую офицерскую команду, под стать себе. Старую гвардию (за исключением единиц) с треском выперли с работы, а на иных даже уголовные дела завели. У Бизона не доставало начальника режимной части. Однако, среди нашей братии шел базар, что новый «режим» должен прибыть из Тобольской крытки. А это говорило о том, что кислород нам окончательно перекроют. Из лагерной почты мы знали, что тамошний «режим» снискал себе славу гестаповца, чиня неслыханный беспредел.
Одно вселяло надежду, рядовой состав остался прежним. Как раз они-то и были главными поставщиками чая, денег и прочего.
14
Шли восьмые сутки, как я держал голодовку. Нара с тех самых пор оставалась открытой, так что теперь я больше лежал, нежели ходил. Конечно я бы мог ходить больше, но когда двое суток назад во время хотьбы меня вдруг мотнуло в сторону, да так, что если б не стена, падения, повлекшего за собой неотвратимые для здоровья последствия, было бы не избежать, приходилось с опаской относиться к передвижениям по камере. Получилось, что я на ходу, на какие-то секунды, потерял сознание и рухнул, отделавшись лишь незначительными ссадинами на левом боку и голове о «шубу» на стене. Голод брал свое, незаметно силы покидали меня. Но я еще ерепенился, думая, что случившееся со мной это всего-навсего результат долговременного, без отдыха, хождения.
О конфетах, которые мне подогнали БУРовики, остались сладкие воспоминания. Махорочка правда имелась. Конечно же курево несколько притупляло чувство голода, но с другой стороны оно способствовало быстрейшему истощению организма. Я прекрасно понимал это, но о том, чтобы бросить курить, даже и не помышлял. В моем положении махорка была как запретный плод, который, известно, сладок.
Итак, восьмые сутки на исходе, а про меня будто забыли. Ни Пекин, ни другой ему подобный шкуродер, не проявляли к моей персоне никакого внимания. Признаться, я и сам не горел желанием их лицезреть, но однако ж, в морду прокурора по надзору за ИТУ глянуть хотелось, о чем я ежедневно справлялся у дежурного прапорщика по нескольку раз за смену. Прапора меня заверяли, что, дескать, Пекин обещал – прокурор приедет. Но до сего дня их обещания оставались только обещаниями. Уж не заморить ли Пекин, сука, меня задумал. Складывалось впечатление, вроде как меня и не существует и при чем, ни для кого. «А может, меня уже и вправду нет? Опять же, кто тогда сидит на нарах? Да нет, я еще живой. Или это лишь тень меня? Какая к черту тень, если я чувствую боль без ущипывания».
Не знаю, на сколько меня еще хватит, но я бесповоротно решил держаться до какого бы то ни было конца; или бесчувственно утрелюют на больничку, или я увижу прокурорское рыло. Что-то одно из двух должно произойти непременно, и надо полагать (если предчувствия меня не обманывали), очень, очень скоро. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и третье обстоятельство, по возникновению которого мне уже ничего не понадобится – ни пайки, ни майки, ни фуфайки, – акромя деревянного бушлата. Но об этом меньше всего хотелось думать. Не у фрицев же в лагере нахожусь, в конце-то концов. А впрочем, хрен его знает, на что способны советские офицеры служа в советских лагерях. На лбах у них никакой надписи нет.
На девятые сутки, после утренней проверки, а вместе с ней и пересменки, я присев на корточки у дверей начал донимать прапорщика: когда будет прокурор? Заступивший на смену прапорщик отмалчивался, лишь изредка из дежурки доносились его негромкие маты в мой адрес. Что ж это за такая категория людей? Ведь я его спрашиваю нормальным русским языком! Неужели так трудно оторвать сраку, подойти и объяснить. Нет же, сидит пидрило, и втихую кроет меня последними словами. Ну не мразь ли? Только после того, как я не сдержался и заорал на языке лагерного обихода, не брезгуя при этом матерками, прапорщик живо отреагировал. И покуда он шел до моей камеры рот у него не закрывался. Уж он-то владел жаргонным языком во сто крат хлеще, нежели я. Со слов старожил-уркачей мне было известно, что прапорщик «тянет лямку» на этой зоне лет двадцать, а то и больше. Так что в этом направлении мне до него как до «Парижу».
– Что ты хайло разеваешь? – открыв кормушку, рявкнул прапор. – Добавка тебе на пятнадцать суток уже нарисована. – Он мотнул головой в сторону дежурки. – Лежит на столе. Тебе что, мало? Так мне не «в падло», я еще одну ксиву (постановление) на тебя состряпаю!
– Слушай, прапорщик! – у меня не было ни сил, ни желания понапрасну драть глотку, впрягаясь в перепалку с этим дерьмом. – Вам не надоело меня завтраками кормить? Может объяснишь мне туполобому, когда я наконец облобызаю его величество гражданина прокурора? И пожалуйста, не надо пурги о его отпуске на крымском побережье. Ты же в курсе, я не дотяну, крякну. И тогда часть вины ляжет тяжким бременем на его и без того, натруженные плечи. Как же он после этого с таким грузом жить-то будет? Ведь совесть загложет. Грех-то какой!
– У-у. Да ты никак верующий? – подивился, несколько успокоившийся прапорщик. – Добро. Сегодня исповедуешься. К обеду священник прибудет.., ну тот, которого ты заказывал..
– Не надо мне лапшу на уши накидывать, – сказал я, все еще сидя на корточках и снизу вверх, глядя на самодовольную рожу прапора. – Я ж просил, – толком разъясни. Ты же стопроцентно владеешь информацией на мой счет. Колись, хули ты писаешь?
– Сказано тебе, сегодня прокурор будет. Только зря ты все это затеял. Таких массовиков-затейников до тебя тоже хватало. Многие из них цингой потом болели. Вот и у тебя, я так думаю, после голодовки что-нибудь с зубами приключиться может, или ты думаешь, прокурор тебе диету пропишет? – прапорщик нагло усмехался. – Как ты не сообразишь, прокурор здесь появится на пять минут. Да, да. Именно на пять. Лясы точить он с тобой не станет…
– Угости папироской? – перебил я прапора. – Авось поможет от цинги?
– Какой.., – он на секунду замешкался, даже опешил. – Прокурор придет, у него стрельнешь. Вместе и покурите… Ну, все. Больше не ори, а то голосовые связки порвешь.
– Так мне верить тебе или как?
– Или как! – Прапор закрыл кормушку и уже из-за двери крикнул. – Сказано тебе, будет прокурор, значит будет!
Через минуту после того, как ушел прапорщик, я встал, опершись спиной о «шубу». И вдруг в камере разом стало темно. Полнейший мрак. Мне показалось, что погас свет, но когда я повернул голову в сторону окна, которое пусть не ахти как, но все ж дневной свет пропускало, то тоже ничего не увидел. Будто весь белый свет померк. Я понял – у меня что-то с глазами. Не на шутку испугавшись, я замотал головой. Словно на фотобумаге, опущенной в проявитель, медленно начали проявляться стены камеры, и, наконец, я отчетливо увидел лампочку, которая горела в зарешеченной нише над дверью. «Такое со мной впервые. Я и предположить не мог, что так бывает».
Перед самым обедом воздух в изоляторе наполнился запахом, который бывает в столовой. Я судорожно потянул ноздрями вкусный аромат супа. В желудке заныло, он просил пищи. Я конечно, догадался, что это не праздничный обед для страдальцев. Скорее всего, прокурор действительно в зоне, а обед – обычная, в таких случаях, показуха.
И я не ошибся. Вскоре открылась дверь моей камеры и пред моими глазами, в окружении зоновских офицеров, кроме Пекина, предстал тот, которого я дожидался девять суток. Нет, не дожидался, а требовал, именно требовал, изо дня в день, портя нервы дежурным и заодно себе.
Хвала всевышнему – я, услышан! Я докричался, мои требования удовлетворены! Почти.
С момента ареста я видел четвертого прокурора: первый, со словами «сидеть тебе парень», выписал санкцию на мой арест; второй, во время судебного процесса надо мной, отказался от обвинения, мотивируя свой отказ тем, что в материалах дела рассматриваемого судом по факту совершенного мной преступления не усматривает доказательств вины подсудимого, и покинул зал заседания. Не беда. Судью ничуть не смутил такой выпад прокурора, он объявил перерыв до завтра, и конвой доставил меня обратно в СИЗО, в родную следственную камеру. И точно, завтра меня вновь дернули на суд. А когда я увидел в лице обвинителя, то бишь прокурора, татарку, мне едва не сделалось плохо, потому что та, за которую мне предстояло мотать срок была тоже татарка. Эта «прокурорка» думал тогда я, доказательства найдет. Я нисколько не сомневался, что карты подтасованы, и стало быть, проигрыш мне гарантирован как дважды-два.
Но об этом занятном и довольно-таки, затяжном эпизоде моей жизни, я поведаю в другой раз, если соберусь с силами. На что надеюсь.
Прокурор был какой-то заморенный. Одно из двух: или живет один, или у жены золотые руки только в постели. Прокурор представился. После обычной, в таких случаях, процедуры: фамилия, имя, статья, срок, начало срока, конец срока, он, сделав вид несведующего человека, поинтересовался:
– Какие будут вопросы, или может быть жалоба по поводу содержания?
– Какие жалобы!? – у меня ажно челюсть отвисла. – Не-е, жалоб никаких, если не считать, что я девять суток ничего не ел.
– Вам что, отказывают в питании? – он изобразил удивление.
– Да нет, – сказал я, поразившись тупости заданного вопроса. – Я сам отказываюсь принимать такую пищу. Потому что то, чем здесь кормят, к съедобному не относится.
– Ну, как же так, такого быть не может.
Прокурор попросил, чтобы ему дали попробовать из ШИЗОвского котла. Пони, козлина, налил в миску супа и на «цирлах» подойдя к прокурору, протянул ему, чтобы тот отведал. Обеденный котел у Пони был заправлен отменной похлебкой, какую и в зоне не всегда варили. Но сегодня, в честь посетителя, расстарались. Понятно, что не без приказа начальства, которое перед гостем такого ранга разбилось бы в доску, лишь бы во всем блеснуть образцовостью.
Прокурор намахнул пару ложек супа и облизнул губы. Мне показалось, что будь он один, мисочку-другую опорожнил бы за милую душу.
– И это, заключенный, вы называете не пригодным для употребления? – обратился он ко мне, отдавая Пони миску с ложкой. – Да так и на свободе не в каждом общепите накормят. Этак потчевать нарушителей режима содержания, значит ущемлять тех заключенных, которые честным трудом хотят искупить свою вину перед государством. В других колониях, мною курируемых, подобного я не наблюдал.
– Гражданин прокурор, – мне ничего не оставалось, как говорить об истинном положении. – Этот бачок с супом появился здесь незадолго до вашего прихода. Вот вы сейчас уйдете, и как только окажетесь за пределами зоны, тут же воз вернется на круги своя. Вам ли не понять, что это всего-навсего показуха. Пускать пыль в глаза, так кажется это называется.
– А вот офицеры говорят об обратном, – прокурор рукой повел на присутствующих. – Балуют вас тут, балуют.
Я нашел в себе силы скривить губы в улыбке. Мне больше нечего было сказать этому «сухарю», представляющему надзор за исполнением наказания. До таких как я, такому как он, никогда не будет дела. Что он, что вокруг его стоявшие офицеры – одного поля ягоды. Нет, явно эту «братву» выпекают в одной пекарне, разве что в разных формах. Спрашивается, на кой я голодовку объявлял? За ради того, чтобы на сегодня изолятор от души похавал? Вот себе-то, однозначно, праздник устроил, и надолго. Едва на ногах держусь, не досидев «пятнашку», а предстоит еще одну чалиться. Да и как оно дальше пойдет – сплошной туман.
– Вот что заключенный.., Медведев, кажется?. – Вспомнил сволочь.
– Да, да, – подтвердил ДПНК.
– …Медведев, прекращай дурачиться и приступай к приему пищи. А если уж тебе не нравятся условия содержания в штрафном изоляторе, впредь не нарушай режим в колонии, и тогда тебя никто не станет сюда водворять. Понятно?
– Мне одно понятно, что вам, гражданин прокурор, ничего не понятно.
– А ну прекрати базлать! – встрял молодой опер, лейтенант Зотов. – Смотри, куда разговариваешь! – из-за спины прокурора он погрозил мне кулаком, как бы подкрепляя свое замечание.
Этот Зотов был здоров как бык. Однажды я уже имел честь на собственной морде испробовать могущество его кулака. За один удар он стряс мне «кукушку». Но бог его все равно наказал, начисто лишив мозгов. Самый тупой сибирский валенок, в сравнении с ним, был остр, как бритва.
– С такой психологией, Медведев, – прокурор продолжал гнуть свою линию, – тебе предстоит исправляться и исправляться. Но у тебя еще есть время поразмыслить над своими поступками, и сделать правильные выводы. Чтобы загладить свою вину перед государством и вновь стать полноправным его членом, тебе Медведев, необходимо о многом крепко задуматься. Слышишь, о многом. Вот давай досиживай определенное тебе наказание, выходи из ШИЗО и берись за ум. Обоими руками берись.
Покуда я соображал, как получше сформулировать, что ему ответить, чтобы не получилось слишком гадко, двери камеры закрылись. Я было хотел закричать, что мол еще не сказал главного, но вовремя одумался. Я понимал, что не было никакого резона плакаться в жилетку прокурора. Кому я нужен со своей бедой-проблемой? Щегольнул бычара сраный! Чем и перед кем? Как же, теперь в почете у братвы. Скажут, добился-таки своего, молодчина! А чего добился то? Да ровным счетом ничего. Только здоровье себе наджабил. Чтобы еще раз я на такое подписался, да не в жизнь, не за какие пряники! Пускай другие дерзают – с меня хватит. Хорошо что хоть вены себе не вскрыл, придурок, а то хрен его знает как бы оно все обернулось. Нет, хорош. Бог даст, выйду в зону, буду осмотрительней, что, конечно, вряд ли возможно. Если где-то сам поостережешься, так ведь козлы выпасут и впрудонят. Их на зоне развелось, как клюквы на болоте, красным-красно.
После того как прокурор удостоил своим вниманием еще пару камер и затем вместе со свитой покинул изолятор, в моей двери открылась кормушка, и в ее проеме появилась довольная морда прапорщика:
– Жрать будешь?
– Конечно буду. А что мне оставалось? Не голодать же.
– Что, папироску у прокурора не попросил?
– Отвянь, подкольщик.
– Ты поди думал, что он перед тобой станет стелиться? Как бы не так. Срать он на тебя хотел. Так что зря ты эту кашу заварил, еще неизвестно, как расхлебывать будешь?
– Тебе-то не все равно?
Пони подкатил к двери тележку.
– Налей ему полную миску, – велел прапор.
– Спасибочки, гражданин прапорщик, за заботу, – сказал я, принимая из рук Пони вкуснющий супец и сразу аж две пайки хлеба. – Век помнить буду.
– Давай мечи, каторжник, – сказал прапор и закрыл кормушку.
Время, казалось, застопорило свой ход. Потянулись долгие, по-изоляторски, дни и ночи. И прежде чем я поднялся на зону, утекло немало воды. К той добавочной пятнашке мне втюхали еще одну, тоже за межкамерный базар, так что, помыкать пришлось сполна.
На зоне тоже продыху не давали. За то время пока я чалился в ШИЗО, в зону пришел новый режим. Этакий краснощекий снегирь, среднего роста, и с первых дней занялся педагогической работой. Он решил сломать барьер моральных и этических отношений меж заключенными, независимо к какому сословию они себя относят. Похоже, этот снегирь мог Макаренко наизусть шпарить.
Как-то, отрядно, придя в столовую на обед, мы увидели там множество солдат и офицеров. Снегирь так же присутствовал. По какому поводу сбор кровососов, особо никого не затрагивало. Мало ли, может оголодали и решили подкрепиться за счет зеков. Однако, когда наш отряд в обычном, в таких случаях, порядке расселся за столами и приступил к приему пищи, к нашему столу подошел Снегирь и сказал, чтобы половина людей нашего стола встала и перешла за другой. Мы в недоумении выкатили на него «болты».
– А че за дела-то гражданин майор? – полюбопытствовал кто-то из наших, дабы понять в чем соль.
– Не твоего ума дело, – отрезал Снегирь. – Сиди, жуй молча!
В это время к нашему столу подошла кучка «петухов» с мисками в руках, в сопровождении ДПНК и двоих солдат. Тут уж всем стало ясно, какую подляну удумал режим. До такого еще никто не опускался. На тебе, выискался доброжелатель.
Тут такое началось. Крики, матерки в адрес режима. Миски летали по столовой словно НЛО. Через пять минут в столовой остались петухи и обиженные. Голодной оставил Снегирь зону. Одного, двух он бы, конечно, устроил в ШИЗО, но тут не тот случай. Он был вынужден отказаться от своей затеи. Ужинала зона, сидя за столами так, как это было всегда.
15
Волна шмонов, катившаяся по тюрьме, не обошла стороной и нас. Дубакам самим, видимо, уже осточертела, изо дня в день, процедура обысков и теперь они не очень-то усердствовали, отметая лишь попавшееся на глаза, близко лежащее. Поэтому нам повезло. Мы, можно сказать, не пострадали, за исключением мелочевки, которая относилась к категории наживной. Конечно, если б у дубаков не потух костер первоначального рвения, кто знает, как бы оно обернулось. Надыбай они в матрасах чай, всех бы утрелевали в карцер. Пока удача нам сопутствовала.
А вскоре произошло пренеприятнейшее событие, в тюрьму прибыл тот самый режим из Тобольской крытки. Слухи, о его здесь появлении, оказались не напрасны и, что самое поскудное, они сбылись.
Режим один в один повторил хозяина, совершая покамерный обход тюрьмы в сопровождении той же свиты прихвостней, правда без САМОГО.
В отличие от Бизона, который в камеру входил последний и дальше порога не проходил, этот, как только открылась камера влетел будто на пожар. Ровно собака обнюхал все углы и только после этого предстал пред нами, стоявшими в шеренгу. Мало того, что он был худой, так еще и имел наполеоновский рост, вместе с фуражкой метр шестьдесят пять, не выше. Типичный татарин с маской зверя на лице. Поскольку мы знали с каких он краев, особого удивления не испытывали. Тыча каждого пальцем в грудь, интересовался фамилией и местом жительства до срока. Когда он ткнул меня и я сказал, что из Тобольска, его сжатые веки разомкнулись, а глаза, серые глаза округлились.
– О-о-о, семляк! – он продолжал стукать меня по груди. – Это хорошо. Нарушаешь? – Я молчал. – Значит нарушаешь. Со мной не будешь. На свободу отсюда, или возврат в зону?
– Отсюда.
– Это хорошо. Как семляку обещаю – освободишься с чистой совестью! – и он вдруг как-то неестественно рассмеялся. А возможно, это был его неподдельный, натуральный смех. Но если так, то он не вполне здоровый человек, – Освободишься, если я захочу. Я поставлен сюда, чтобы решать все. Теперь будете сидеть у меня по струнке! Вот так!
Он так же выскочил из камеры, как и влетел. Произвел на нас, разве что, впечатление придурковатого, «со смещенными фазами», типа. Впрочем, будущее покажет.
…С тех пор как откинулся Валера, одно место в камере оставалось свободным. Пока никого к нам не садили. К этому времени к Вове Колганову вернулась речь, частично. Он уже сносно мог изъясняться, правда, с частыми и долгими заиканиями. Но «полоскался» он по-прежнему отдельно. А вот возникший вскоре на голом месте конфликт между Радионом и Тувинцем, пришлось решать общаком. Они около года сидели вместе, были закадычными друзьями и вдруг партия в шахматы, сделала их непримиримыми врагами. Изо дня в день, цепляясь за слова друг друга, они выясняли отношения, нередко, давая волю рукам. Нам не единожды приходилось вмешиваться. Мы пытались примирить их, но тщетно. Когда дело дошло до того, что они стали кидаться друг на друга с «мойками», сообща, было принято единственно верное для всех решение, кто-то один должен был «съехать» с камеры. Изъявил желание Тувинец. Нашлась камера, где сидел его земляк и корпусной, получивший в качестве презента наборный браслет к часам, устроил обмен. Почти как на фронте. Теперь у нас поселился Коля, двадцатилетний крепкий парень. Веселый, жизнерадостный, вот только с ветерком в голове. Мы уже попривыкли к новому пассажиру, как вдруг по прошествии недели Коля почувствовал себя неважно, затемпературил. После ухода к «лепиле», Коля в камеру не вернулся, его этапировали в Иркутск на ЦБ. И где-то, через месяц мы узнали, что Коля, выплюнув легкие, отошел в мир иной. Кто бы мог подумать. Молодой, энергичный и вдруг бац, нету. Мне даже сделалось страшновато, подыхать в двадцать с небольшим не хотелось. Но с другой стороны, кто тебя будет спрашивать, хочешь ты того или не хочешь? Лишь черная с косой знает по каким критериям кого и в каком возрасте ей выдергивать.
Мой «семляк» не замедлил преподать мне первый урок, буквально вскоре после своего вступления в должность главного тюремного идеолога. Урок, конечно же, можно было отложить на какой-то срок, но я сам спровоцировал его на такой шаг. А все из-за баландера, который во время обеда накладывал каши вполовину меньше нормы. Через кормушку я попытался по-человечески убедить его, что он не прав. На что тот, попутав рамсы (кто он, а кто я) стал мне грубить, доказывая, что ложит норму. Естественно, я выплеснул на него добрый ушат гадости, а так как он не менее гадко огрызался, пообещал, при случае, выцепить его на продоле и головой воткнуть в бачок с кашей. Такой случай мог очень даже запросто подвернуться, поскольку нас выводили на прогулку сразу после обеда. Обычно, в это время баландеры еще шарошились в коридоре: «кучковали» бачки, миски, кастрюли.
И такой случай представился. Повели нас как-то на прогулку. Двое баландеров копошились рядом, а третий, который мне хамил, маячил в конце коридора, укладывал миски на «луноход». Бежать до него, означало проявить невиданную наглость, и потом, у того был шанс свинтить на следственный корпус. Мы поступили несколько мудрее, надеясь правда на авось. Как только мы оказались в дворике, сразу начали громко подкрикивать соседям. Дубаки ничего не подозревая клюнули на нашу наживку. Гена, приведя на прогулку следующую камеру, в обратный путь прихватил нас своими криками, нарушавших правила прогулки. Нам повезло. «Объект» находился в десяти метрах от нашей камеры. «Эта гнида и не предполагала, что счастье может кончиться. К нам он стоял жирным задом, и когда мы проходили мимо, эта мразь нагнулась за очередной кучкой мисок. Меня за весь срок никто не оскорбил (имею в виду зеков), и я не собирался сглотить обиду, делая вид, будто ничего не произошло. Я сделал рывок в сторону и как в футболе взъемом ноги нанес ему удар в голову, в область уха. Он рухнул, на рядом стоявший луноход, груженый мисками и бачками. И все ж мы с Пилей воткнули его мордой в бак, жалко, что каши там было на донышке. Успели раз пяток, по-хозяйски хлопнуть ему разводягой по булкам. Верещал сучонок, как кабан недорезанный. Управились мы на скоряк, дубаки даже не успели и глазом моргнуть.
– А ну прекратили! – запоздало крикнул Гена. – Марш в камеру!
День заканчивался так, словно и ничего не случилось. Однако, после вечерней проверки, уже ближе к отбою, загремели засовы и мы шустро повскакивали со шконок. Открылась дверь и в камеру, как сорвавшись с цепи, влетел мой «семляк». Подскочил ко мне, ехидно скривил губы, рявкнул:
– Собирайся! Немножко тебя по-земляцки надо проучить! Или сразу заставить разносчика пищи написать на тебя заявление, а? А что? Его на экспертизу, снимут побои… Я полагаю, больше пяти лет тебе не добавят, режим поменяют на строгий, и как у вас русских говорят, с богом…
– Гражданин майор, – я плохо слышал свой голос, сдавило грудь. – Да я готов любое наказание… Тот козлина сам…
– Заткнись! – оборвал он, не желая слушать мои оправдания, – пшел!
С карцером подфартило. По нумерации меня посадили в двадцать пятую камеру. Она была коридорно-угловой, поэтому имела весомое превосходство в сравнении с другими камерами карцера, через нее проходило аж четыре трубы отопления, которые создавали избыточное тепло в камере. Трубы уходили вверх и в обратку, а остальной карцер имел отопление какое пожелает дежурный, поскольку краны подачи горячей воды были предусмотрительно установлены в дежурке. И, конечно же, понятно какую температуру поддерживали в карцере.
Впервые мне так повезло. До того было жарко, что я частенько, расстелив на бетонном полу лепень, ложился и дремал. Когда настывал один бок, я переворачивался на другой и продолжал дремать. Одно слово – блаженство. И что интересно, дежурные не единожды пялившиеся в глазок, не пресекали мой отдых. Это уже потом, много позже, когда у меня начало разламывать голову и из ушей потек гной и сукровица, я дотумкал, что «семляк» устроил меня в теплую камеру карцера целенаправленно. Купился я на его подляну, как последний мудак. Разве ж лег бы я на бетон в обычной камере? Да не в жизнь, там такая холодряга, что даже ночью приходится по-нескольку раз вскакивать с нар, и чтобы хоть как-то согреться, отжиматься от пола.
…Хозяин тюрьмы все реже и реже появлялся на корпусе крытников. Теперь он, убедившись в способностях, доверил крытников заму по режимной части, моему «семляку», который, не скрывая, ликовал от творимого им террора. Видимо то, что аллах обделил его здоровьем он, пользуясь своим служебным положением и безграничной властью, бесчинствовал, надеясь таким образом, убедить всех, что силен и могуч.
Кормить стали отвратительно и к тому ж урезали паек на столько, чтобы мы не умирали сразу. Попытки возмущаться сообща, всей тюрьмой, как это делалось прежде, потеряли всякий смысл. Режим нашел способ борьбы с массовой вспышкой негодования после первого же ее проявления. И способ, надо сказать, довольно простой, но действенный. Внезапно открывалась камера и в нее влетали одна или две здоровенные овчарки на поводках. Крытники пулей взмывали на верхние шконки (на первом этаже нары), а если кто замешкался, того травили, то отпуская, то натягивая поводки. Такой прием режима хорошо себя зарекомендовал и даже уже тогда, когда крытники отвыкли бузить скопом, его нет да нет применяли, в целях, так сказать, профилактических. Иногда, после травли собаками, в камеру заходили три-четыре дубака с деревянными дрючками (киянками) и довершали собачью работу. При этом режим никого в карцер не водворял – необходимости не было. И без того крытники лежали по нескольку дней, зализывая раны.
О медицинском вмешательстве и речи не могло быть. Несмотря, на синяки, шишки, ссадины, рваные раны и даже сломанные ребра, крытники считались вполне здоровыми заключенными. Мы и сами, в общем-то, так считали, поскольку знали, что обратясь за помощью, могли получить «ее» в полном объеме. Валя, медик нашего корпуса, на работу приходила, но с вступлением в должность нового режима, работа ее превратилась в отпуск, она филонила, много ела, пила чай и днями спала на кушетке. Редко, когда по просьбе самого режима она появлялась в карцере, где оказывала помощь самым отчаянным и непокорным, которых уделывали так, что они с кровью выхаркивали нутро.
Режиму не нужны были ни стукачи, ни суки – он всех стриг под одну гребенку. Вор в законе, что сидел в шестидесятой хате, не единожды предпринимал попытки отговорить режима от бесчеловечного отношения к крытникам, за что был неоднократно бит и перевоспитывался в карцере.
Как бы то ни было, крытая сдалась. Вынужденно ее обитателям пришлось жить по законам, которые установила новая администрация. И все мы, конечно, понимали, что к добрым временам возврата уже не будет. Смирились крытники, успокоились. Случались, правда, отдельные вспышки недовольства, но они мгновенно пресекались с еще большей жестокостью, чем прежде. Вора в законе, которого режим не сумел таки «обломать», который не отказался от своих убеждений, оставшись приверженцем прежних тюремных устоев, этапировали в другую крытку. Куда? Пока никто толком не знал. Да и что он, в принципе, мог противопоставить геноциду распоясавшейся администрации? Если рассудить здраво, ни хрена. Он такой же зек, как и мы, и хозяину ничего не стоило сломать ему хребет. Конечно, надо отдать должное вору, он предпочел до конца остаться преданным идеалам истиной жизни уголовного мира. Он оказался крепок духом и не отказался от своих убеждений в тяжелую для себя и тюрьмы годину. Естественно, хозяину было выгодней этапировать вора куда подальше и, таким образом, избавить себя от лишней головной боли. Теперь у бизоновской своры руки были развязаны в конец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































