Текст книги "На шаткой плахе"
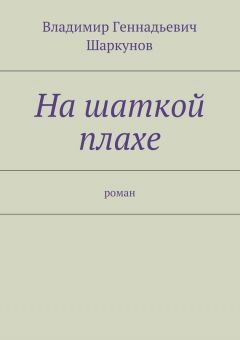
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
20
Мне подфартило. Я украл у хозяина три месяца из трех тюремных лет. С декабря 1975 года я скрывал от кановалов (и не только) образовавшуюся опухоль, которая первые два года, нет да нет, давала о себе знать. Боль была терпима, однако, при обострении я на два – три дня полностью терял обоняние. Жутко боялся, что так может остаться навсегда. Но когда приступы боли прекращались я, не заметно для себя, переставал волноваться и, даже, стал забывать об опухоли. И все ж опухоль хоть и не тревожила меня долгое время, а оставалась на прежнем месте и, слава богу, не увеличивалась в размере. Вот какой я ее впервые обнаружил, такой она и осталась.
…Время в тюрьме, для всякого рода деятельности, навалом. Тем более, что ни к какой работе нас не привлекали. Не понятно в чем заключалось наше, зэков, духовное оздоровление.
Как-то организовал мой «семляк» показ фильмов. Ленты, понятно, какой направленности. Герой совешил преступление, суд вынес справедливый приговор, преступник за годы в колонии осознает свою ошибку, стает на путь исправления, освобождается и становится человеком полезным обществу.
Смотреть кино выводили по четыре камеры. Казалось бы, радуйся крытник, какое никакое, а разнообразие. Так нет ведь. В кои – то веки администрация протянула нам руку и мы, тут же, в нее насрали. В середине сеанса устроили такую бойню меж собой, что успокаивать пришлось при помощи овчарок. Кино прикрыли, режим ужесточили. Нормально. Крытник без этого не может.
…Надумал я подремонтировать зубы. Впрочем, глотать кашу да воду, можно было и без ремонта. Но я подумывал о будущем. Не собирался я посвящать всю свою жизнь этому миру. Мне, край, надо было к реке, тайге. Ихний я, тамошний. А здесь – это не для меня, это не мое.
Зубной врач в тюрьме была женщина, лет сорока, сорока пяти. Водили к ней в кабинет в наручниках. Раньше, говорят, водили без, пока, опять же, один из крытников не лапнул ее за коленку. Ну что тут скажешь? Мудило – и только.
Рука у докторши оказалась легкой. Коренной зуб она удалила мне, практически, без боли. Но прежде расспросила об опухоли. Я выложил все, как есть, да и приврал немножко, для пущей убедительности. Выслушав меня, она сказала:
– Будем направлять вас в центральную больницу, – сказала она на человеческом языке, как равному. – Вам срочно необходимо обследоваться. Диагноз могут поставить только специалисты. Поэтому, готовьтесь, в ближайшее время к отправке в Иркутск.
Было это перед обедом. Вернулся я в камеру, отведал баланды, а вот кашу не успел. Збряцал засов, открылись двери камеры, и корпусной приказно крикнул:
– Медведев! На выход с вещами!
Через полтора часа я уже сидел в столыпине, который увозил меня в город Иркутск. Такой оперативности я не ожидал. « Неужто ей, зубнику, показалась серъезной моя болячка?»
Больница находилась на территории колонии строгого режима №2, в непосредственной близости от города. Меня и мне подобных содержали в изоляторе на десять палат-камер. Палата огромная, с окном в человеческий рост. Никаких жалюзей, только решетка, в которую запросто пролезет голова. Обзор, просто, чудненький. Полы деревянные, койки панцирные, обыкновенные. А какая кормежка? С утра, полкружки белого молока; белый хлеб; белая рисовая каша, с желтым кружочком сливочного масла. На обед давали котлету из мяса. У меня первые дни, от запаха кружилась голова. И гуляш давали, тоже.
Здешний дантист был молодой, здоровенный мужик, с длинными волосатыми ручищами. Однако, характера доброго. Голос не повышал. Дело свое знал, как отче наш. Да и как не знать – пациентов к нему, хоть отбавляй. Не мудрено насабачиться ежели, конечно, любовь к профессии имеешь.
Посмотрел доктор мою болячку, так и сяк понажимал на нее какой– то блестящей штуковиной, а в следующий раз завел меня в операционную, сказал, чтобы я лег на один из столов и, безо всяких медсестер и церемоний, поставив замораживающий укол, довольно ловко скальпелем отрезал два маленьких кусочка от опухоли. Бросил их в разные целлофановые пакеты. Мне объяснил, что они будут отправлены в какой– то НИИ, для проведения точного анализа.
В ожидании результата-приговора, я отдыхал полтора месяца. Сплошная лафа. Не думал, что в этом мире есть рай. По другому не скажешь. Но, всему приходит конец. Вскоре меня вызвал дантист. Он сказал, что опухоль не злокачественная (папелома), но посоветовал все ж удалить ее. Я не согласился на операцию, попросив время подумать, а заодно пожаловался на боль в ушах. И это еще продлило мой срок пребывания в больнице.
За пятнадцать дней, женщина доктор (не помню к сожалению ее имени), заслуженный врач РСФСР, исцелила меня от боли в ушах.
В последний день перед отправкой в родные пенаты дантист сказал мне:
– Если вдруг появятся боли в области опухоли, немедленно обращайся к врачу и тебя, в срочном порядке, направят сюда. Имей ввиду. – Спасибо, доктор.
….Прошло три месяца и я вновь был этапирован в Иркутск, к тому-же дантисту. Операцию делать так и не стал. Что– то я побоялся. Но зато отдохнул перед свободой, малость силенок поднабрался. Не каждому крытнику так подфартит.
Когда я вернулся в крытую мой «семляк», то бишь, режим, одним махом выбил из меня запах больничных котлет.
Моя болезнь его ничуть не смущала. Зэк, по его мнению, здоров как конь, а обращение к врачу есть не что иное, как желание косонуть, выдать себя за больного и тем самым заполучить диету или же, на худой конец, витаминные уколы. Раз зэк в тюрьме не работает, говорил майор, то и здоровью его ничего не угрожает.
Подсидел меня режим со своей сворой за занятием, можно сказать, обыкновенным. При помощи коня я перегонял махорку в камеру напротив. Туго
было у бродяг с куревом, а контролер в этот день дежурил скотский и, понятное дело, передавать не стал, как это обычно делается. Молниеносно открылась дверь и, не успев раскрыть рта, меня выхватили из камеры. Обычно в карцер уводили с вещами – никто не сулил гарантии, что после отсидки ты вновь вернешься в эту же камеру. В коридоре я получил несколько ударов в разные части тела и очутился на полу. Очухался я, когда на запястьях, со стороны спины, склацали наручники. « Вот так поделился куревом». Окромя майора и его лощеного адъютанта, который грамотно выполнил черную работу (знал, куда и как бить), в коридре находилось еще несколько человек разных званий и мастей.
– Гражданин майор, – пробубнил я. – Бить то на х. я?
Вместо ответа я получил в пах зеркальным сапогом адъютанта. На несколько секунд побывал в другом измерении. «Да сколько ж можно»? Я начал гвоздить всю эту свору словами достойными их поведения. За что, до самого карцера, они долбили меня, как боксерскую грушу. А перед закидом в камеру, отутюжили до бессознательного состояния. Крепенько я их достал. Они уже не выбирали куда бить. Хлестали, покуда я изрядно не умылся кровью.
Не знаю, сколько я пролежал на бетонном полу. Как сняли наручники – не чуял. С трудом, превозмогая боль, дополз до дверного приступка. Прислушался. Тишина на продоле, говорила о том, что тюрьма пребывала в состоянии сна. Стало быть, ночь. Опять же, если судить по засохшей на морде крови и разбухших, как дрожжевые оладьи губах, времени прошло порядком. Возможно, до подъема оставалось не так долго. Плохо, что в камере нет окна. Либо свет, либо тьму – что-то бы да видел. А так, остается только догадываться. Лишь в шести камерах, во внутренний двор тюрьмы, имелись маленькие оконца. Воды в карцере не было, вместо толчка – параша, которую надо выносить каждое утро.
Я, как мог, слюнявя рукав, вытер с лица кровь. Одежёнка на мне была своя, все ж лучше, чем карцерские обноски. Не до переодеваний было господам дубакам. Плохо, что без тапочек. Я вылетел из них, когда меня любезно сюда препроводили. Лежак, суки, не открыли. Сиди теперь, согревайся на бетоне. Уроды. Возбухать что то не хотелось. Дозалупался по самое не хочу. Кашлянул – все нутро содрогается. Попробовал сплюнуть – рот толком не раззявить. Сколько раз давал себе зарок не перечить этим блядям. Нет, неймется, опять встрял. Свобода не за горами. По ходу, еще одна упертость с моей стороны, и на свободу выйду инвалидом. И если только инвалидом, и если только на свободу.
Я ажно вздрогнул, когда взревел зуммер. Вот и подъем. Получается – я всю ночь тут провалялся. Странно, а вроде и не замерз.
Сегодня пролетный день. Давали хлеб и кипяток. И не кипяток вовсе, а теплую воду. Сидя у двери я, превозмогая боль, дотянулся до кружки и, пока опускал ее на пол, половину разлил.
– Ты чё, шакал, поживее не можешь! – заорал на меня дубак и счигнул с кормушки пайку.
Кормушка захлопнулась. Хотел высказать дубаку все. Где там. Не то, что говорить, мычать то плохо получалось.
Я сидел под дверью, обняв ладонями теплую кружку, и смотрел на свою пайку, валявшуюся посреди камеры. От злости и безысходности из глаз моих выкатились слезы. Они были куда горячее воды в кружке. Мне казалось, что у меня от них горят щеки.
Трое суток я не мог есть. Но хлеб получал и бережно хранил его, складывая на бетонную тумбу, похожую на большую дровяную чурку, а на ночь перекладывал его на лежак и, можно сказать, спал рядом с ним. Если оставить хлеб на трехреберном радиаторе отопления, к утру выйдет недочет. Мыши не прочь набить кишку на халяву. Одна, две твари, имели постоянную прописку в каждой камере и могли брать хлеб с руки. От первой пайки у меня осталась половина, другую я скормил маленькой мышке. Она даже нисколечко не поправилась. Может, болела чем.
Помаленьку я начал употреблять хлеб. Отщипну чуток, разомну меж большим и указательным пальцами, и в рот. Рот малость раскрывался, но жевать еще было больно и я, просто, сосал скатанный комочком хлеб, от чего он казался вкуснющим, как булочка. Таким способом я одолел за все это время пол пайки.
Утром, на четвертые сутки меня ждал «сюрприз». Обычно проверку в карцере проводят на скоряк, не открывая дверей, а только с заглядом в глазок. Мою камеру открыли. Другие не открывали – я хорошо слышал. Помимо корпусного, двоих дубаков (один сдавал смену, другой принимал), в коридоре, заложив руки за спину, стоял мой «семляк». При виде его мне сделалось худо. Он подошел к проему (двери в карцере одинарные, но зато толстенные, обитые железом), почти улыбаясь, глянул на меня, затем окинул взглядом камеру. Хлеб на тумбе он, естественно, заметил.
– Что, голодать устроился?
– Нет, – едва выдавил я, и добавил мотанием головы.
Не хватало еще, чтоб меня подмолодили. Я знал по опыту других крытников, каким боком вылазят голодовки. До татарина они катировались, но теперь лучше о них не заикаться.
Еще с минуту он постоял, угукнул и исчез. Дверь закрылась. Но легшее мне не стало, за каким он приперся? Глянуть на результат работы своих пристебаев?
Где то через час после проверки тетя Таня открыла двери. Она сегодня приняла смену. Никто не знал её тюремный стаж контролера. Лицом она больше походила на мужика. Оно было у нее худое, темное и угреватое. Она баловалась чифирком, курила, строго, беломор, от чего её большие, редкие зубы навсегда утратили белизну).
– Пошли? – приказала она.
– Куда?
– Портки менять.
Я вышел из камеры и мой нос тут же поймал вкусный запах папиросного дыма. Тетя Таня пыхтела постоянно. Без папироски она не обходилась и пяти минут.
В кичевской дежурке сидел татарин и те самые пристебаи. По спине у меня пробежали мурашки. « Гиены опять оголодали».
– Перековывайся! – при начальстве, тетя Таня повысила голос.
Я знал, что мне делать. Снял с себя все, остался в чем мать родила. Нисколько не стесняясь тети Тани, я выбрал в шкафу подходящую одежонку, облачился в нее, а свою, туго смотав, положил на место взятой.
Закрыв шкаф, я уже намеревался пойти назад, в камеру. Не успел повернуться, как меня с боков сграбастали, подтащили к столу, усадили на туборь и завернули голову. Все произошло настолько быстро, я и пикнуть не успел. Сопротивляться не имело смысла. Держали надежно, будто в тисках. Сразу несообразил, чего от меня хотят, а когда не только увидел резиновый шланг, но и ощутил страшную боль от того, как мне запихивали его в горло, возрожать было поздно. Да и разве мог я возрозить. Туманно видел, как в шланг вставили воронку и стали лить из банки что то жидкое. Меня, оказывается, кормили.
От ударов по щекам я пришел в себя.
– Дойдешь? – спросил кто– то из «поваров».
– Я кивнул головой.
– Ну, давай, трогай помаленьку.
В камере я опять уселся под двери, и опять у меня навернулись слезы. Режим издевался надо мной, как хотел. Он уж всей тюрьме доказал, на что способен. И крытники это хороше знали. Еще-то, что надо? С каких щедрот, такие почести мне? Да когда ж, наконец, он насытится? Поди, гены далеких предков дают о себе знать. Хочет, в одной, отдельно взятой тюрьме, устроить татарское иго. Я ж русским языком сказал ему – не голодаю. Нет, проявил таки заботу. Гондон.
Тетя Таня находилась сегодня в хорошем расположении духа, и когда татарская рожа со своими прихвостнями удалилась, она угостила меня папироской. Покурил и, будто б, полегшало. Ничего, переживу и это. Надо пережить.
….. До звонка мне оставалось два месяца. Я в последний раз, до блеска, выбрил голову, надеялся, что стричься больше не заставят.
Сахар я уже не ел месяц, и обеденную кашу – тоже. Так заведено. И, наверное, правильно. Выйдешь на свободу ешь, сколько влезет. Возможно, не все так поступают и не везде, но я сознательно шел на это. Не то что по-басяцки поступал, а просто по человечески. Им, моим сокамерникам, еще страдать и страдать. А мне светил счастливый жребий. И в этом случае, не поделиться с ближним, грех.
С известных пор тюрьма жила тихо, осторожно. Жути татарин нагнал с лихвой. Опрометчивый поступок любого из крытников карался жестоко. Однако, тишина в тюрьме, не устраивала режима. Он додумался внедрить, как в лагере, бирки с фамилией заключенного. К чему в камерной системе такое надобно? Но режиму виднее. Он знал, что крытники воспротивятся. Тянуть жилы из подопечных – его хлеб, вот он и пахал на совесть. И, как всегда, татарин оказался на высоте. Его ожидания оправдались.
Через это нововведение пострадала уйма нашего брата. Хорошая встряска, чтобы не залеживались.
Мне оставалось совсем немного, и в мои планы стыковка с татарином не входила. Думы мои были о другом – никак не связанные с настоящим. Но, оказывается, сидя в тюрьме, строить планы на будущее, по меньшей мере, глупо. Всегда найдется препятствие, о которое они разрушатся.
Мой «семляк», похоже, во мне души не чаял. Как же это я покину тюрьму без его напутствия. Такого он допустить не мог.
Утром, перед завтраком, в первую очередь баландеры разносили пайки и сахар. И только спустя некоторое время, давали уху, которую порядком поднадоела.
Мои сокамерники подремывали на уже заправленных шконках, а я после подъема не ложился, в одиночестве нарезал тусовки. Как они считали – катал перед свободой. Мол, у всех, кто вот– вот откинется, крыша едет.
Как обычно, открылась кормушка, я положил на нее чистый тетрадный листок. Баландер, черпачком, насыпал горку сахара.
– Все, забирай, – сказал он, бросив черпачок в кастрюлю.
– Еще парочку, нас ведь шестеро. – я подумал, что он ошибся.
– Все, норма. Это на шесть человек. – он повысил голос и стал подергивать кормушку, чтобы я по шустрее убирал листок с сахаром.
Это мне, который за свой срок знает все пищеблоковские нормы, он будет ездить по ушам, когда я явно вижу, происходит обувалово, причем, наглое.
Услышав базар, с крайней шконки, подскочил Женька Шапиро. Он так же, определил недосып сахара.
– Ты че, падла, пятишься? Давай, досыпай положняк!
Я нутром чуял, что– то не так.
– Ты, сука подмутная! – Женька хотел схватить его за грудки.
И тут, из-за спины баландера, как в плохой сказке, нарисовалась рожа татарина. Злющая рожа.
– Открывай!
Мы с Женькой отпрянули от двери, посмотрели друг на друга.
– Ну, все, п..дец нам.
Услышав лязг запоров, все повскакивали со своих мест,
Опять татарин чинил безпредел. Ну, не мразь ли? В наглую отнимал, и без того, крохотную глюкозу.
В камеру он влетел на крыльях радости.
– Ты, ты и ты, – ткнул он пальцем. – На выход!
– Гражданин майор, – Женька надеялся восстановить справедливость.
– Жива! – взвизгнул татарин.
Мы с Женькой, понятно, «за дело», а вот Серегу за кой хрен? Видимо надо толковать так – попал под раздачу.
Нас быстренько закоцали в наручники и, против ожидания, что нам светит карцер, погнали в противоположную сторону, к галерее. Подгоняемые пинками и зуботычинами мы не спускались, а скорее скатывались в низ. Наконец нас заперли в каком то отстойнике без жалюзей.
– Это ж административный корпус, – вслух размышлял Женька. – На х.. нас сюда утрелевали?
– Глядишь, на свободу нагонят, – потирая разбитое колено, Серега еще умудрялся юморить.
Серега мой однозонник. Месяца четыре назад я перетянул его с фунта к себе. С зоны Серега притаранил худую весть. За время моего здесь пребывания, с тех краев никто не приходил, и я не обладал никакой информацией о своей, бывшей, зоне. И вот прикатил Серега.
Он рассказал мне, что за тот кипишь, за который я угодил в крытую, пострадали еще четверо корешей. И пострадали конкретно. Оказалось, солдаты, которых пальцем никто не тронул, написали заявление. Он рассказал мне, что за тот кипишь, за который я угодил в крытую, пострадали еще четверо корешей. И пострадали конкретно. Оказалось, солдаты, которых пальцем никто не тронул, написали заявление. Надо думать, к такому шагу их подтолкнули опера.
Суд состоялся в зоне. Двоим накрутили по восьмерке, и двоим по шесть лет строгого режима. Такой вот печальный расклад получился.
….Первым выдернули Женьку. Отсутствовал он минут двадцать. Когда его вновь втолкнули в камеру, наручников на нем не было, зато лицо в кровищи. Он тяжело дышал и держался за правый бог.
От тычков я рывками передвигался по незнакомым коридорам административного корпуса. На втором этаже меня втолкнули в какую то дверь. Ума не требовалось, чтобы понять, что это кабинет татарина. Хозяин вальяжно восседал в кресле за большим деревянным столом. Его «адъютант» сидел на стуле у окна, закинув ногу на ногу. Сапоги, как всегда, доведены до зеркального блеска, хоть причесывайся. Покачивает носком сапога – жути нагоняет. Женьку, гад, наверняка пинал, а сапоги уже опять готовы, настроены.
Перед татарином, на столе, лежали перчатки из коричневой кожи. Он встал и начал демонстративно натягивать их на руки. Кожа похрустывала. Картина не для слабонервных.
– Гаваришь, сахарку маловато?! – он обошел стол и вплотную приблизился ко мне.
Стоял я неудачно. За моей спиной возвышался, весьма габаритный, железный сейф. Татарин обхватил мою голову руками и несколько раз ударил меня затылком о сейф. За тем, несколько ударов нанес под дых. Я думал только об одном – не встал бы адъютант. Но тот, видимо, без команды «фас» не работал. Я не брыкался, лишь охал после каждого удара «семляка».
Охал я не от боли, а для понта ради. Толком татарин бить не умел. В драке я бы устряпал его легко. Сейчас майора забовляло мое оханье. Тешился, сука. Когда мне надоело получать удары я, издавая стон, начал сползать вниз по сейфу….
Так, за несколько дней до свободы, я получил по гриве, и ни где ни будь, а в кабинете самого режима. Не каждому узнику выпадает такая честь.
Как мне хотелось удавить этого татарина! Но напрасно он меня провоцировал. Мне уже снился воздух свободы, и я не собирался отказываться, чтобы не вдохнуть его полной грудью.
И что самое неожиданное. После экзекуции нас увели родную камеру. Мы весь оставшийся день провели в ожидании водворения в карцер. Но ничего не произошло. Татарин, видимо, решил, что с нас достаточно физического воздействия. Даже как-то не верилось, что он снизошел до такого.
….И вот пробил мой час. Бряцнули засовы, лязгнул замок, двери открылись.
– Медведев! На свободу идешь? – Дежурный помошник начальника тюрьмы лыбился, буд то это он освобождается, а не я. – Выходи.
Я попрощался с сокамерниками. Видел, что печальны и грустны были их глаза…
Встречали меня мать и Юрка, Юрий Куприянович, мой зять. Мать уговорила Юрку ехать в качестве провожатого. Одна она никогда в такую даль не ездила – боялась заблудиться в железнодорожных сообщениях.
Мать долго плакала, ей с трудом верилось, что ее сын жив живехонек.
– Все позади, мама.
Стоял тихий мартовский день. Пуховые хлопья снега не падали, а медленно опускались на землю. Я не думал, что от этого можно захмелеть.
На некоторое время мы с Юрой оставили мать в гостинице, а сами обегали несколько магазинов в поисках чая. И только после того, как мы скупили все необходимое и снесли по адресу, который мне назвал Гена (тюремный банщик), вернулись в гостиницу. Я не мог уехать, не подогрев своих, теперь уже бывших, сокамерников. Не хотелось, чтобы обо мне помнили плохо.
Тюрьма с неохотой отпустила меня в огромный суетный мир. Мир, который меня пугал, который мне был пока не понятен и чужд. Однако, первый шаг сделан, надо идти дальше, только б не споткнуться…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































