Текст книги "На шаткой плахе"
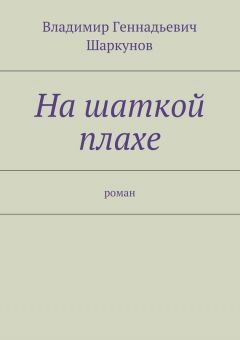
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Ну мам, а мам, – опустив голову, упрашивал я.
– И не хнычь мне, – она только пуще сердилась. – Сказала не пушу, и все тут!
Отец разводил руками и обещал в следующий раз меня взять. Да разве могли отцовы обещания успокоить меня? Осерчав, я забирался под рыбацкий склад, в самое темное место и, сидя у какой-нибудь опоры, давал волю слезам. Так до самых потемок и сидел, покуда мать за мной не приходила. Ходит около склада с вицей: «Пошли домой, Вовка. Кому говорю, пошли счас-же». А я боюсь, знаю, что всыплет. Потом уж, как вицу выбросит, вылажу и впереди ее домой семеню.
Но это было, когда мне пятый год шел, а уж в семь лет отец и слушать мать не желал, хоть она и пыталась его отговорить.
– Утопите парнишку, акаянные, – сердилась она, когда отец, раскатав бродни, нес меня на руках до середины мотолодки и отпускал в отсек, где находились мотор и руль управления.
– Не ворчи, не дурней тебя, – отвечал ей отец, помаргивая мне, и улыбаясь в усы. – Соображаем, что делаем! Верно говорю, а Вовка?
В знак согласия я кивал головой. Мужики те тоже были на моей стороне.
– Да ты не переживай, Нинка, – говорил кто-то из них. – Пущай парень привыкает. Хужей от этого не станет.
Конечно, мне было жалко мамку, но отказаться от плавания я не мог. Не мог, и все тут. Сколько душонки-то у меня было? А вот подишь ты, тянуло. Тянуло в эту шлепающую о борта мотолодки, необъятную обскую даль.
– Раз уж родился мужик, – поучительно говорил отец, – значит и расти должен мужиком. А то какой же из него вырастет мужик, ежели у бабской юбки веретеном крутиться будет? Годы наши молодые, обзаведемся девкой, тогда и командуй, а парня портить не дам! И баста!
– Так ить мал он совсем, Гена, – уже спокойно говорила мать, надеясь, что все-таки отец поймет ее. Хитрила мамка, явно хитрила. – Комары заедят, мошка. Не дай бог, заболеет чем? Всяко может случиться, разешь углядишь за им? Он ить как юла, на месте не сидит. Оставил бы ты его дома, Гена?!
– Запричитала!
– Как же, дите ведь, а шторм вдруг налетит? – не унималась мать. – Пущай дома будет?!
– А силком его никто не тащит. – Отец подошел ко мне и спросил: – Может, и правда останешься? А то гляди, захошь домой, да поздно будет.
– Неа, – пробубнил я, опуская глаза.
– На-а-а лешак, – пропела мать, и хлопнула себя при этом руками по бедрам. – Что за парнишка растет? И в ково такой?
– Знамо дело, в кого, – поддержал меня отец.
У мамки навернулись слезы.
– Ну все, мать, – сказал отец. – Перестань слезами о песок звенеть. Ничего за три дня с ним не случиться.
– Други-то дома вон играются. – Мать еще на что-то надеялась. – Ребятишки на берег и носа не кажут, а этот один за семерых, везде поспет…
– Перестань говорю, хватит уже, – отца начинала раздражать бесперебойная речь матери. – Мелешь, мелешь. Одно да потому, иди домой, делом каким займись, чем попусту языком молоть! Ни одна баба глаз на берег не кажет! Иди…
Мамка, по-видимому, устала спорить с отцом, отошла в сторонку и присела, на опрокинутую вверх дном калданку. Опустила голову на ладони, опертых о колени рук, и похоже, заплакала, так как голова и спина ее изредка вздрагивали. Черные длинные волосы спускались, закрывая лицо, и касаясь песка. Видно было, как в волосах путалось полуденное солнце, отчего волосы поблескивали и переливались.
Тем временем мужики закончили заниматься погрузкой, положили в нос якорь и оттолкнули мотолодку от берега. Течение подхватило ее, и она, легонько покачиваясь с боку на бок, поплыла вдоль берега. Отец быстро запустил мотор и дал газ. Мотолодка взяла курс на противоположный берег, который едва-едва угадывался вдалеке. А я глядел на свою мамку. Слезы из глаз моих катились не переставая. Я уже ощущал во рту их солоноватый вкус, и все плакал и плакал, кратче от отца.
Мамка, по-прежнему не поднимая головы, сидела на калданке. Похоже, она осерчала на последние, сказанные отцом слова, произнесенные им, как приказ, как слова вышестоящего, как хозяина.
Да так оно и было. Решающее слово в доме – отцово. И уж если что скажет он – по иному не бывать. Зная его характер, мать старалась ему не перечить. А характер у него и вправду был не сахар. Нет, трезвый он куда с добром, а вот ежели выпьет (редко, но случалось), добра не жди. Напьется и, ни с того ни с сего, давай на мать с кулаками кидаться. Здоровьем-то бог не обидел, кулачищи по ковшику, зацепит, хворать долго будешь.
Как-то пришел отец домой навеселе и говорит матери:
– Сходи, возьми поллитра.
Куда деваться, мать сходила в дом-лавку, но вернулась ни с чем.
– Нету, Гена. Разобрали все, – сказала она. – Да и поди-ка хватит тебе, и так хороший.
Но отца заусило крепко. Он взял с кадки ковшик и пошел в комнату. Отодвинул этажерку, за которой в углу стояла фляга, и зачерпнул из нее браги.
– Не даст до праздника достоять, окаянный! – рассердилась мать. – Приспичило его. Когда хоть образумишься? На кой ляд стоко пить?
– Теленок не пил, да пропал, – тут же нашелся отец. – Вот и я … это… не пропасть чтобы. Для продления жизни значит.
Он сходил в кладовку, принес «хрушкую», соленую стерлядку, нарезал ее звенышками, сел за стол и, со словами «дай бог не последнюю», осушил первую кружку. Указательным пальцем смахнул в обе стороны с усов сырость, налил вторую. После чего смачно съел звенышко стерляди. Короче, черпал отец из фляги, пока его ноги носили. А когда подниматься стало невмочь, он заплетающимся языком заорал:
– Слышь, мать! – и ковшик к краю стола двигает. – Слышь, что ли? Принеси-ка мне…
– Не ково я тебе не понесу, – мать разбирала постели. Пора было ложиться спать. – Едва языком ворочат, а ему все мало. Куда только в тебя лезет, бестыжий? Иди ложись, разбей тя паралич!
Как же, ляжет он, жди. С трудом встав на ноги, опираясь одной рукой о заборку, шатаясь и матерясь, отец вошел в комнату. Нагибаясь из стороны в сторону, он коршуном смотрел на мать. Голова его то и дело падала на грудь. С усов свисала закуска, тоненький стерляжий хрящик, колыхаясь при дыхании.
– Я кто здесь?! – заорал он, выпучив остекленевшие глаза. – Мать честная!…
Ну и началось тут. Мать успела шепнуть мне «Беги!», и я щукой, скользнув мимо отца, очутился в кухне. А ему как-то удалось ухватить мать за волосы. Она в крик, я в рев. Тут вдруг стук в дверь. Заходит Харламыч, отцов дружок. Видать, по делу мужик пришел, а увидел такое дело, разнимать кинулся. И как уж там получилось, не углядел я. Только Харламыч, будто мячик, попавший в перекладину ворот, отлетел назад и упал в проеме заборки на спину. И лежит не шевелится. Одна сторона лица его на глазах начала опухать. Я еще пуще давай реветь.
Отец малось замешкался, пьяный-пьяный, а в голове видать, что-то на секунду прояснилось. Мать и воспользовалась моментом, перескочила через Харламыча, меня в охапку – и дай бог ноги.
Целую неделю тетка Варя, жена Харламыча, отхаживала мужа своего, не за шиш пострадавшего.
Вот и бегала мать, по отцовой милости, клянчила, чтобы дело до милиции не дошло. Сам-то он не ходил, не умел за себя извиняться, не то снеснялся, не то стыдился, – как дитя малое, убрать за собой не мог.
И все же, несмотря на то, что по-пьяни иногда учинял отец, я тянулся к нему. Трезвый это был человек, поступки которого я всегда хотел повторить. Ведь это он привил мне любовь ко всему окружающему, реке, тайге, со всем их завораживающим миром. Больше всего манила Обь. И уж если отец не брал меня на промысел по каким-либо причинам, то я чувствовал себя брошенным, чем-то обделенным.
….До места стоянки добирались обычно часа два с половиной, три. По– прибытии первым делом один из мужиков вытаскивал из кустов калданку, легонькую, долбленую лодчонку, припрятанную там с прошлого раза и, взяв один сетевой провяз с тычками, уплывал в какой-нибудь близ образовавшейся заводи, где и ставил сеть, чтобы до сумерек добыть на уху свежей рыбы. Часть людей ставила палатки, внутри их натягивали марлевые полога (иначе от гнуса не спастись). Другие разводили костер, настраивали таганок, кто-то подтаскивал сушняк. Я старался быть на виду и пытался подражать мужикам в обустройстве бивака. Хотя, наверное, больше путался под ногами. Какой из меня был помощник?
Вскоре, проверялась поставленная сетка. И спустя некоторое время, специалист поварского дела, дядя Володя Уткин, варил из нельмушек уху. Один запах чего стоил! Сваренную рыбу дядя Володя выкладывал на большую чистую доску, а уху черпали кружками, наверное, так было вкуснее. Уху-то я не хуже мужиков обожал, а вот рыбу ел без аппетита. Зато любую икру за обе щеки уплетал. Мужики смеялись надо мной: «Икряной ты парень, Вовка». На что я не обращал никакого внимания, а лишь пуще нажимал на икру.
– Давай, давай, Вовка, – отцу нравилось, что я уминаю не хуже мужиков. – Тебе скоро по девкам бегать, сил набираться надо.
И я набирался. Набирался до того, что кое-как с раздутым животом докатывался до палатки, залезал под полог, уваливался, на пахнущий потом матрац, и «терял сознание».
Отвечеряв, мужики принимались за дело. На корму бударки набирался невод, доливался в фонари керосин, проверялась амуниция. Каждый, в нагрудный карман клал пузырек с мазью от комаров. Им предстояла тяжелая мужская работа. Днем рыба кормилась, играла по всей воде, а ночью затихала, пристаивалась. Чаще всего выбирали место с небольшим затоном – знали по опыту, рыбы тут больше. Давали тонь и, как правило, рыбой кишило. Мотня приходила битком, и на берег ее не вытаскивали, а оставляли в воде, так было удобней черпать рыбу саками и тут же вываливать в подведенный неводник. За короткую северную ночь, рыбаки должны были как можно больше дать тоней, а утром, добытую рыбу в неводниках, зачаленных за мотолодку, уводили до плашкоута, который стоял на якоре в устье Серьгинской протоки, где рыбу взвешивали и сдавали под запись приемщику. Ухайдакавшись за ночь, днем мужики отдыхали, да так, что от храпа вздрагивали палатки. Вскоре просыпался я. Вылазил из палатки, когда солнце вовсю уже жарило. На это время я был предоставлен сам себе. Завтракал остывшим чаем и глызой сахара. После, взяв удочку, вместе с Каштанкой, уплывал на калданке рыбачить. С калданкой я управлялся как заправский рыбак, но держался все одно ближе к берегу. Отец не разрешал заплывать далеко. Каштанка, сидя на самом носу, вытянув шею и слегка прижав короткие уши, водила мордой по сторонам, ловя какие-то, только ей, понятные запахи. Стоило мне заплыть в камыши, то тут, то там начинали взлетать утки. Выбрав среди камыша местечко с чистой водой, я принимался рыбачить. А Каштанка, плюхнувшись в воду, доплывала до мелкоты и начинала давать шороху уткам. Те в свою очередь надоедали мне, проносясь надо мной целыми стаями с шумом, похожим на сильный поток ветра. Правда, клеву это не мешало. Окуньки и сорожки клевали так, будто их с голоду заморили. Часа за три, все дно калданки серебрилось. Время от времени, из камышей появлялась Каштанка, а убедившись, что я на месте, вновь убегала. Возвращались мы обои радешеньки: я от того, что будет чем перед отцом похвастать, а Каштанка от того, видимо, что хоть как-то удовлетворила свою охотничью потребность. Весь мой улов шел на варево собакам (кроме Каштанки, было еще две собаки), так что животины не голодали.
Здесь, на этом острове, я забывал о доме, о мамке. Если не уплывал на рыбалку, то находил себе еще какое-нибудь занятие. Частенько ходил на гусиные гнездовья. Их тут было великое множество. Правда, одного меня гуси с шипеньем прогоняли, и я их побаивался. Но когда со мной были собаки, гуси взмывали в небо и белым гогочущим облаком кружили над гнездами. А я в это время успевал воровать их яйца, складывал в загодя припасенное ведро и убегал в чащебу.
…. Сколько помню, всякий раз, когда я отправлялся с отцом на промысел, мамка приходила на берег и провожала нас. При этом она не упускала случая отговорить меня. Так было и сегодня. И мамка опять осталась одна. Долго я еще смотрел в сторону берега, пока мать и калданка, на которой она осталась сидеть, не слились в одну маленькую точку и вскоре совсем исчезли. Откуда мне было знать тогда, о чем думала она, оставшись одна на берегу? Может, о нелегкой бабьей доле? Или о том, что пришлось ей пережить в свои двадцать пять лет? Как я узнал, уже будучи взрослым, судьбинушка-то не жаловала ее, не ласкала. Напротив, отбросила на такие жизненные задворки, где не всякий и выжить-то сумел бы. Но мать выжила, выкарабкалась, и в люди вышла, умом своим, где те же люди помогли, пособили. Однако, горюшка при этом перемыкала, не приведи господь кому….
13
Что ж, трупы трупами, но жизнь продолжается, двух дней нам с Радионом хватило, чтобы мы помозолили языки воспоминаниями. Я, что называется, начал впитывать азы тюремной жизни. Предстояло еще одно испытание на прочность. А может не одно? Может статься, что вся оставшаяся жизнь будет сплошным испытанием.
В системе ИТУ, крытая-тюрьма не воспитательный, а карательный орган МВД. А карательный режим подразумевает не внушение через физический труд, как встать на путь исправления, а физическое вдалбливание, и нередко, до безвозвратной потери здоровья, и карателям глубоко плевать на какой путь ты встанешь, на путь исправления или на скорый путь к погосту. Словом, куда «закажешь», туда и направят. Могут и сразу на толковище к Господу. Все зависит от характера зека. Получалось, что я имел все шансы на такую перспективу. Тем более, что грядущие перемены, ничего хорошего не сулили. После всякого рода заварух, зэки, как правило, ставили себя в еще худшее положение. Ради «торжества справедливости», «сыпали соль себе на рану». Естественно, что признаться в этом, желающих не найти. Каково бытие, таковы и нравы. Если вообще, о нравах уместно. Мораль одна – соблюсти кодекс правильных понятий, который являлся мерилом и ориентиром в жизни, таких как я и хлеще. Вот мы и соблюдали…
Я почти полностью адаптировался в новых для себя условиях проживания и неизбежно обрел друзей-товарищей, в лице сокамерников, с которыми мне предстояло «ломать хлеб» долгие месяцы, а то и годы. Ребята «подобрались» как будто неплохие. «Пиля»-Саня Пилипенко из Томска, крепкий, рослый парень, двадцати трех лет. В крытую угодил незадолго до меня. Здесь ему предстояло «отбухать» три года, затем возврат на зону с двухлетним хвостом до звонка. «Тувинец» – Яшка Орзо из Кызыла, темнокожий, невысокого роста крепыш, страдающий психологическими срывами, которые пока не перерастали в междуусобный мордобой. У него через полгода закнчивался трехлетний тюремный срок и он, как и Пиля, уходил возвратом на зону. До воли ему было еще трубить и трубить. «Клоп» – Валера Клопко из Конотопа. Этот был старше нас всех, намного. Чуть выше среднего роста, сухощавый, лицо выражало саму доброту. Обладал характером, что называется, на все случаи. Для него не существовало неразрешимых ситуаций. Владел словом, как птица крыльями. В общении с контролерами, культура из него так и перла. Любил выдавать что-нибудь юморное. Словом, как гнедко, был подкован на все четыре. Пятнадцать лет заключения, срок, за который немудрено стать эрудитом словесности. Было бы желание. И вот совсем скоро, каких-то там два месяца, Валера выйдет на свободу. Говорит, что встречать приедут два брата.
Вова Колганов, побывавший у врат в мир иной, оставался пока только Вовой. Единственное, что я о нем знал, так это то, что родом он, из этого самого города, тюрьма которого едва не стала для него последним приютом.
До сей поры, тюрьма жила в привычной, установившейся с годами атмосфере, так, будто и ничто не предвещало перемен. Вот и сегодня, на нашем продоле случилась отоварка, тому подтверждение. Когда открылась кормушка нашей камеры, и Пиля стал принимать и передавать буханки хлеба, еще теплого и запашистого, я ненароком подумал, уж не хлебовозка ли подъехала? Сюрпризов в этой жизни, конечно не счесть. Но так или иначе их можно предугадать, предвидеть, предчувствовать наконец.
«Сидя на фунту», я полагал, что крытники, подогревая нас, «желторотых», отрывали от себя последнее. Однако сейчас понял, что это не так. Тридцать булок хлеба на шестерых – разом. А если еще посчитать маргарин, повидло, конфеты и беломор… Я, признаться, пребывал в некотором замешательстве. И это при том, что лично моей доли участия тут никакой. К этому времени на лицевом счету у меня не было ни копейки. Зоновская бухгалтерия задерживала отправку моих сбережений.
Такая тюрьма для кого хошь, мать родна. Вот уж, воистину, карательный режим. Лежи полеживай, пузо почесывай.
Сокамерники разжевали мне, каким образом, они так не хило отовариваются. Ларечницей здесь работала тетя Варя, женщина лет пятидесяти. Ходили слухи, что у нее и самой, сидит сын. Но кто он, и на какой командировке чалится, толком никто не знал. И потом, как можно объяснить тот факт: если у нее сын, действительно, сидит, то с какой стати она работник тюрьмы? Согласно советским законам ее должны были отсюда турнуть. Похоже, что история ее сына, всего лишь легенда. Уголовники и на такое способны.
Так вот, часа за четыре до того, как продуктам оказаться в камере, тети Варин помогало, а им был зек из хозобслуги, раздавал в кормушки листки с перечнем товара, имеющегося в ларьке на данный момент, и бланки, заполняя которые, крытник вписывал наименование того или иного продукта, товара первой необходимости, указывал цену, не превышающую трех рублей, положенных ему по закону. Когда помогало, минут через двадцать, забирал заполненные бланки, Клоп, в тихушу, сунул ему червонец и тетрадный листок, в котором были перечислены продукты. То есть, тетя Варя спокойно отоваривала за наличку, если таковая имелась в камере. И делала она это не выборочно, а любой камере, нисколько не опасаясь за последствия. За что крытники почитали ее, и относились к ней по-сыновьи.
Выходило, что и я внес посильную лепту в отоварку, поскольку «мани» в камере появились с моим появлением.
Вскоре по тюрьме прокатился слух о том, что должность хозяина перестала быть вакантной. Но в глаза нового начальника пока никто не видел. И все ж, как говорится, дыма без огня не бывает. Спустя пару дней после толков, мы были воочию убеждены, каков он, новоявленный хозяин. Сразу после утренней проверки, в сопровождении свиты пресмыкающихся работников всех рангов, покамерно делал обход вверенной ему тюрьмы. Началось это мероприятие с первого этажа. Мы, привыкшие в эти часы, обычно нежиться на нарах, сегодня бодровствовали, ожидая появления «папы». Даже малость нервничали. Кто знает, что последует за приходом нового хозяина. И все понимали, последует то, что и должно последовать. Наверняка, курортной жизни придет амба.
Лязгнули дверные запоры. Почему-то первой в камеру впорхнула медичка, и тут же, показывая руками по сторонам, затараторила:
– Вот, и туалет у них чистенький, бачок питьевой, на полу ни мусоринки…
Следом вошел корпусной, за ним ДПНТ, еще пятеро офицеров и только потом в дверном проеме появился Он.
«И откуда таких мордоворотов берут. Такому б на лесосеке кубатурить. Внатуре, машина»!
– Построились! – рявкнул корпусной, и рукой указал, где мы должны построиться.
Мы, нехотя, как могли, построились, поскольку никогда этого не делали. Не все вставали с нар даже во время проверок. Куда деваться, пришлось воспринять это действо, как должное. Как ни как – хозяин. С габаритами снежного человека, подполковник шагнул в камеру. Лицо его выражало добродушие, а большие серые глаза, явно говорили об обратном. Нехорошие глаза.
глаза. С минуту он разглядывал камеру, наши невозмутимые морды.
– Угу, – он покачал головой. – Та-ак. Ну, вот что, господа уголовники.
Я смотрю, вы тут не наказание отбывайте, а откармливайтесь, жирок нагуливайте. И на этой почве, как следствие, разум подталкивает вас на поступки, недостойные поведения советского заключенного. Так вот. Начиная с этого дня, дом отдыха для вас кончился. И так как теперь я являюсь начальником этого учреждения, вы будете сидеть в самой что ни на есть спецтюрьме. Он ехидно ухмыльнулся и продолжил, – Перевоспитывать вас уже не будут. Любая ваша выходка, даже самая незначительная, будет пресекаться водворением в карцер, вплоть до карательных мер. О законе можете забыть. С этой минуты закон здесь я. А так как сейчас, не годится… Так плохо.. Вопросов ко мне, надеюсь, не имеете.
Он уже повернулся, собираясь уходить, но в этот момент, дернул черт за язык Валеру:
– Гражданин подполковник, – заговорил он. Валера проявлял инициативу без боязни за последствия, так как ему до свободы оставались считанные дни. – Извините, конечно. У нас тут и так все строго… ну..я имею в виду, в тюрьме, как в тюрьме, послаблений никаких…
– Фамилия? – обернувшись, спросил хозяин.
– Клопко, – Валера понял, что напрасно шлепнул помелом.
– Нет, заключенный Клопко, такая тюрьма, разве что в сказке бывает. Настоящей тюрьмы ты еще не нюхивал. Однако, я смотрю, у тебя есть все шансы стать одним из первых кандидатов в карцер на длительный срок, чтобы ты шкурой своей понял кто ты и где находишься! А те отморозки, которые не поймут, до конца срока из карцера не выйдут, если вообще выйдут. Может еще у кого вопросы назрели? Нет. В таком случае, готовьтесь к необратимым переменам. И переменам, скажу я вам, жестким. Я вас заставлю, чтобы вы думали только о том, как выжить, чтобы у вас больше никогда не возникало желания мутить воду. Блатные, мать вашу!
С этими словами напутствия новоявленный хозяин, а за ним и вся свора, покинули камеру. Как только закрылись двери, Пиля подковырнул Валеру.
– Надо было дальше залупаться. Что ты тормознулся-то?
– Да-а, – протянул Валера. – К нашему составу прицепили не паровоз, а паровозище. Такой попрет куда захочет, только не туда, куда надо пассажирам. И остановок, по ходу, не будет… Не завидую я вам, бродяги. Горя с этим «Бизоном» хапанете, нутром чую.
Бизон с первых дней своего появления нагонял жути на крытников, демонстрируя сталинскую хватку. В тюрьме начались повальные капитальные шмоны, в присутствии самого. Отметали все, что по мнению хозяина не должно находиться в камере. Даже лекарства отмели, до последней таблетки. Тут мол, больных нет, с такими рожами второй Беломор-канал строить надо. Шмоны производились при помощи молотков и монтажек. Все что можно было, простучали и вывернули.
Старожилы говорили, что таких шмонов отродясь не было. Враз крытники потеряли все, ну или почти все. За отметенные заточки и штыри хозяин предупреждал, что в следующий шмон, у кого найдут – раскрутки не избежать. Убедившись, что зачистка прошла на должном уровне, крытники обезоружены, хозяин приступил ко второму, еще более гадкому и хитрому этапу своего замысла. Началась перетасовка контингента, как в карточной колоде. Часто людей из одних камер переводили в другие и наоборот. Нашу камеру эта участь каким-то чудом, миновала. Нас просто, всех вместе перевели в девяносто восьмую камеру, на втором этаже, что было не так уж и плохо. Воздух здесь был чище, запах сырости отсутствовал напрочь, тогда как на первом этаже, в камерах, расположенных во внутренний двор тюрьмы, а бывшая наша хата принадлежала к их числу, влажность никогда не исчезала, потому что камеры по самые окна находились в земле.
Будто бы все стихло. Бизон за время устроенной им «продразверстки» не оставил пустовать не одной одиночки карцера, посадив самых спесивых крытников и вроде как, успокоился. Надолго ли? Наверняка, пока не придумает очередную каверзу. И он ее придумал. Он решил нанести урон нашим желудкам. Вскоре рацион питания был урезан, и урезан довольно таки намного, что вновь привело к возмущению нашего брата, и как правило, водворению шибко недовольных в карцер. Кормить стали и правда, отвратительно. Но наша камера не возмущалась, нам было не с руки.
Со дня на день, у нас уходил на свободу Валера, и мы задумали комбинацию по доставке «грева» в камеру. При условии, конечно, если Валера сдержит обещание. Но и от нас после того, как он покинет камеру, в полной мере будет зависеть подогреемся мы или нет.
Окна камер в нашем крыле выходили в сторону центральной улицы города, до которой было рукой подать. Каких-нибудь метров двадцать, максимум двадцать пять. И сразу за забором проходила обыкновенная линия электропередач. Наша задача заключалась в следующем. Распустить как можно больше носков (новые носки, трусы и майки получали в бандеролях от родственников), полученные нитки, для крепости скрутить втрое. Изготовить из щепы от тумбочки стрелу, а из всех резинок от трусов приготовить одну, чтобы была потуже. Раздвинуть жалюзи до нужного размера, и отодрать мелкую металлическую сетку, закрывающую зонт, труда не составило, но чтобы не спалиться, мы решили не рисковать и сделать это после вечерней проверки, в день освобождения Валеры. Пахали с утра до вечера. Крутить нитки оказалось делом долгим и нудным. Стахановский труд увенчался семидесятиметровой нитью. Сделали с запасом, чтобы уже «на верочку».
«Провожать» Валеру пришлось на сухую – даже «крополя» чая у нас не было. Был червонец, но контролеры шугались носить чай, хозяин и на них «жути» нагнал. До этого носили все что хочешь, только монету подавай. Отойдут, конечно, обыгаются. Очень они денежки любят. Без денежек им никак, заболеть могут.
Попрощались, пожелали Валере, чтобы постарался больше никогда в лапы мусорам не попадать, дабы вновь не оказаться в этой «обители».
Все, Валера ушел. Ушел туда, куда каждый из нас, когда-нибудь тоже должен будет уйти. А может и не каждый. И скорее всего не каждой. Увы, но такова советская исправительная система. Зек – это не человек, его дозволено бить, бить и даже насмерть забить. Ничего страшного, ни с кого погоны не слетят,.. спишут на несчастный случай или на язву желудка. Да мало ли на что. Конечно не везде, но на глухих, далеких командировках – легко.
Наконец прошла вечерняя проверка. Мы «шомером» сделали все необходимое для запуска стрелы. На накрытый газетами стол в виде большой спирали аккуратно уложили нитку, загодя натертую мылом, чтобы не цеплялась ворсинками при трении о металл. Ближайший конец нитки привязали к пятке стрелы. С жалюзи и зонтом Пиля управился быстро и мастерски, здоровья у него было на порядок больше, чем у любого из нас. Резинку к жалюзи я привязал сам, потому как стрелять доверено было мне. Я еще днем присмотрел, и не раз, под каким приблизительно углом следует запускать стрелу, чтобы траектория ее полета, по моим прикидкам, произошла так, как нам это надо. То есть она должна была перелететь провода линии электропередач. А дальше, дальше как говорится, дело техники. Короче, все было на стреме, и теперь оставалось ждать – или Валера окажется балаболом, или же человеком.
Вова Колганов к этому времени мало-помалу начал говорить и сейчас он стоял у двери, прислушиваясь к движению на продоле. Я сидел на решке и внимательно вслушивался в темноту за окном. В камере стояла гнетущая тишина. Время шло, давя нам на нервную систему. Минуло минут пятнадцать. Тишина. У меня уже начали затекать руки и ноги, долго сидеть на корточках на круто уклонном уступе окна не представлялось возможным. Но я пока терпел. Еще прошло минут пять. Есть! Из уличной темноты до моих ушей донесся четкий, обрывистый свист. Второй.., третий.
– Пришел!! – радостно сообщил я и спрыгнул с решки. – Ну молоток!!
Все аж подпрыгнули. Уговор был таков: после свиста Валера должен был сменить позицию и со стороны понаблюдать на реакцию ментов, а минут через пятнадцать, убедившись, что все в ажуре, вернуться на прежнее место.
И вот наступил кульминационный момент. Теперь все зависело от меня и моих, так называемых, стратегических расчетов. Когда я вновь устроился на оконном уступе и взял в руки стрелу вдруг понял, что шансов на успешный выстрел у меня нет. Меня обуял мандраж, рука со стрелой тряслась.
– Да ты не вибрируй, – сказал мне Радион, заметив мое волнение. – А то в запретку замандрячишь.
– Время, время, – подгонял Пиля. – Давай, делай красиво, как Яшка-артиллерист: «Бац, бац и в точку». А не получится, ну и в рот ее ебать! Не жили богато…
Я взял себя в руки и безо всякой подготовки, растянув на сколько можно резину, запустил стрелу, совершенно не уверенный, что она уйдет в заданное место. Повернув голову, я увидел, что на столе осталось с десяток витков.
– Ну что там? – спросил Радион, держа в руках конец нитки. – В десятку или в молоко?
– Сейчас разберемся.
Я потянул нитку на себя. Метров через пять слабина кончилась. Еще немного потянув, я стал стравливать ее обратно, как вдруг почувствовал три резких подерга.
– В яблочко!! – почти крикнул я.
– Да не ори ты.
В камере чуть не начали обниматься. Тут же я снова почувствовал три подерга и быстро, но аккуратно начал выбирать нитку. Как только в камеру опустилось метра три капронового шнура, который Валера привязал за нашего «коня», я незамедлительно дернул его три раза, давая понять, что шнур дома. Минуты через три Валера вновь цинканул. Я начал выбирать шнур и явно почувствовал тяжесть привязанного к нему груза. Еще немного и шнур, как бы застопорило. Я сообразил, что груз уперся в провода.
– Это, – сказал я братве. – Провода стопорят. Берите «коня» и попробуйте с раскачкой.
Все схватились за шнур. Но Пиля «нежно» попросил всех отойти, заверив, что управится один. По моей команде он, намотав шнур на руку, травил его подходя к столу и затем резко возвращал, отбегая к двери. Попытки с пятой ему удалось-таки перетянуть груз через провода. Валера, тот-то видел, что происходит, и как только груз перевалился, он стал придерживать шнур, чтобы провис был как можно меньше. Поэтому нам казалось, что трелюем мы килограмм пятьдесят, не меньше. Когда я с горем пополам протащил груз между полос жалюзи, все аж охренели, и подивились Валериной находчивости и предусмотрительности. Грузом оказался простой женский чулок, плотно набитый «индюшкой». Покуда я травил шнур обратно, братва распотрошила груз и вскрывала по швам матрасы – чай надлежало немедля закурковать. Если на зонах чай уже был разрешен (сто грамм в отоварку), то здесь, в крытой табу на него никто не отменял. Правда до Бизона на это смотрели сквозь пальцы, но теперь за чай могли даже на кичман упечь.
С доставкой второго чулка приключился благодатный для нас казус, предвидеть который, вряд ли кто мог. Как и в первый раз чулок застопорило на проводах. После нескольких неудачных попыток, Пиля разозлился и, сколько есть мочи, с отскоком дерганул шнур.
Я услышал треск и заметил за окном, сквозь маленькие дыры в зонте, служащие как отдушины, сноп искр. И сию же секунду в тюрьме погас свет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































