Текст книги "На шаткой плахе"
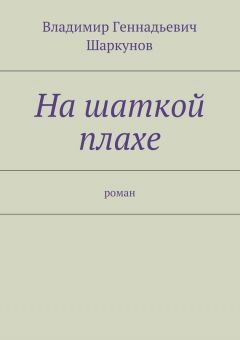
Автор книги: Владимир Шаркунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Никак без этого не можешь, – попрекнула его мать.
– Молчи, женщина! – сказал он. – Сказано же, за здоровье собаки. Больше не буду… Сегодня…
И ведь выходил отец собаку. Нет да нет, потихоньку, помаленьку, Каштанка начала принимать пищу, вставать и даже выходить на двор. А месяца через три, я уже «закладывал» ее в свои санки, и она катала меня по деревне. Былая сноровка и сила вернулись к ней. Я был радешенек не меньше ее.
– Не знаю, – как-то вечером сказал отец. – Пойдет ли она после этого в тайгу? Боюсь, что нет. Напугал ее зверь. А может и… надо будет в этот раз щенка оставить.
По прошествии какого-то времени, Каштанка забрюхатела, живот у нее раздался, отяжелел. Вскорости она ощенилась. Отца в это время дома не было, он тремя днями раньше, с бригадой, отправился на промысел стерляди в малые Алешкины. Мы же с матерью, щенков достать не могли, потому что, те находились под домом, куда Каштанка прорыла нору и вылазила оттуда лишь для того, чтобы опорожнить свою миску. Ела она помногу, но все одно была худющей – кутята не давали ей поправиться. Ко мне она ластиться перестала. Умнет свое хлебово, справит какую нужду и, опять в норку, к своим дитяткам. Мать не переставала ругаться, от того, что щенки ночами скулили и визжали, не давая ей спать.
Вернулся отец спустя неделю. Первым делом он разобрал одну сторону крыльца и, с помощью лома и лопаты, под нижним венцом дома, прорыл лаз, в который заставил лезть меня, чтобы я вытаскивал щенков, потому что ему самому туда было не пролезть, не позволяли его габариты, поскольку расстояние между полом и землей было невелико. Я, хоть и трусил, но все же залез в лаз, сразу оказавшись в полной темноте. Правда, отец тут же начал подсвечивать мне «жучком», фонариком, который он привез летом из Москвы, куда ездил в отпуск, к своим родителям. В свете луча фонарика я увидел где лежала Каштанка со своим приплодом, который поскуливая, копошился у ее живота.
– Вижу! – закричал я отцу.
– Давай, вытаскивай их по одному! – в свою очередь крикнул мне отец.
Щенки были уже здоровущие. Когда я протянул руку и схватил одного за загривок, Каштанка ухватила меня за руку и не отпускала.
– Папка! – заверещал я. – Она меня за руку кусает!
– Каштанка!! – грозно прикрикнул на нее отец. – Я тебе покажу!
Каштанка послушалась хозяина и отпустила мою руку. Я взял одного щенка и пополз к лазу. Каштанка ползла со мной рядом, сопела мне в лицо и все пыталась отнять у меня щенка, норовя уцепить его зубами.
Долго я еще промучился, пока вытаскал всех щенков наружу. Их оказалось аж восемь. Глаза у них были открыты, но имели какой-то матовый оттенок. Они уже мало-мало могли ходить, хоть и шатались и падали.
Щенков отец занес в избу и запустил Каштанку. Мы с матерью настаивали, чтобы остался щенок черного окраса. Уж не знаю, чем он нам поглянулся. Разве тем, что походил на Каштанку, которая была такого же окраса, имея лишь белые точки на бровях, да еще и кончик хвоста у нее был белым. Отец так и сяк, рассматривая, крутил щенка, который оказался кобельком. Для чего-то заглянул в его маленькую пасть, после взял за загривок, подержал недолго в вытянутой руке и опустил, неиздавший ни звука, комочек на пол.
– Будь по-вашему, – сказал он. – Оставляем этого трубочиста. Мне он тоже по душе. Авось на зверя ходить станет.
Остальных отец сложил в мешок, и уходя из дому, строго предупредил нас:
– Запритесь на крючок, и ни в коем случае не вздумайте выпустить собаку! Я скоро вернусь.
Каштанка, пока отец стоял у дверей, обнюхивала мешок, в котором барахтались и визжали щенки, и даже трогала его лапой, то в одну, то в другую сторону крутя головой. Небось понимала, что больше никогда не увидит своих дитят. Она всем своим видом как бы просила хозяина, чтобы тот отказался от принятого им душегубного решения и выпустил щенков из мешка, воротив их законной родительнице. И даже, когда хозяин строго отогнал ее и вышел с мешком в сени, она до самого его прихода жалобно скулила и кидалась на двери, пытаясь открыть их, скребя лапами.
…Шарик, так мы назвали щенка, мало по малу подрастал. Только рос он каким-то, в себя замкнутым, вроде как не от мира сего. Самостоятельность так из него и перла. Если Каштанка была рядом, Шарик придерживался ее, но стоило ей куда-нибудь убежать, он, забаве со мной, предпочитал гордое одиночество, бродя вокруг дома и, с опаской и любопытством, исследуя окрестности часто задирая вверх свою мордашку и водя носом ловил новые, незнакомые для себя запахи, витающие в весеннем воздухе. Докучать его, вынуждая поиграть со мной, не имело смысла. Шарик убегал от меня, забирался под крыльцо, а когда я пытался его оттуда выудить, он злился и начинал грозно тявкать.
В отношении Каштанки, ханты, прямо говорили отцу.
– Сапака твоя узе не нузен. Стрелять его ната.
Но отец был сам себе на уме и не торопил события. Он боялся поступить опрометчиво, и к тому же, какой-то внутренний голос удерживал его. Он еще верил в свою любимицу, надеялся на нее.
В конце мая вскрылась Обь. Дня четыре продолжался ледоход, с нескончаемым шумом трущихся друг о друга ледяных глыб. Прилетели первые утиные косяки. Какой мужик в эту пору усидит дома? Разве что самый последний лентяй. Но в деревне таковых, вроде, и не водилось.
Каково же было изумление, радость отца, когда он с ружьем вышел на крыльцо. Каштанка юлой закрутилась вокруг него и восторженно заскулила. Наконец-то хозяин поставил крест на ее долгожданном томлении, и ей предстояла, так долго ожидаемая, настоящая работа. Такое неожиданное поведение собаки, переполнило отца чувством приятного волнения.
– Молодчина! – радостно воскликнул отец и, присев на ступеньки крыльца, стал ласкать и гладить Каштанку, а та довольнешенькая, лизала его лицо, щеки, глаза и бесперестанно крутила хвостом. – Ай да, молодчина! А я-то дурак, думал… Хорошая ты моя… Ну, пойдем же, пойдем скорее…
И Каштанка пошла. И не просто пошла, она всем своим видом выказывала, как ей хочется поскорее окунуться в стихию погони, страсти азарта. Ей не терпелось на деле доказать хозяину, что хлеб его, она ест недаром.
Минул год. За это время Шарик подрос, раздался в груди, заматерел, окрас его ничуть не изменился. И при всем при этом, он стал еще более гордым и независимым. Он как-то свысока посматривал на своих собратьев, за что те, порой, задавали ему трепку, а может быть и за то, что тот вел одинокий образ жизни и никогда не ходил ни с одной сворой. Но стоял он за свою независимость злобно и, даже, вызывающе. Бывало, и старые кобели получали от него достойный отпор и с визгом ретировались. И все же чаще доставалось ему. Злости у него было – хоть отбавляй, а вот силенок пока не хватало. Чуть больше года, это не есть полный рассвет сил для собаки.
С приходом лета, Шарик у дома не появлялся. Днями бродил по берегу Оби, бегал с Каштанкой или один в тайгу, а ночами спал на носу отцовской бударки. Отцу приходилось носить ему еду на берег. – Я тоже носил. Теперь Шарик со мной вообще не игрался. Слопает, что я принесу, покрутит хвостом, дескать, спасибо и на бударку. Вытянется, положит морду на лапы, уставится вдаль и какую-то свою, собачью думу думает. И погладить то себя не дозволял, все норовил увернуться. Я обиженно бурча, какие-то слова недовольства, телепал домой. А вот отца, отца Шарик не только признавал, но и любил. На задних лапах перед ним вытанцовывал. Да и отец в нем души не чаял, надеялся, когда тот вырастет, обязательно пойдет на зверя.
Зато Каштанка была мне настоящим другом. Уж она то времени, другой раз, на меня не жалела. Порой до того выматывала, что я еле-еле заползал домой, где и получал взбучку от матери, за разорванные Каштанкой штаны или рубаху.
Однажды утром, как обычно, отец отправился на берег покормить Шарика. Через полчаса он вернулся сам не свой. В глазах его стоял ужас, лицо было бледным.
– Шарика.. – он перевел дыхание и договорил. – Шарика на берегу нет.
– Да ему че, бегат, дека, поди, – высказала мать свое предположение.
– Не бегает, – отец тяжело опустился на лавку. – Похоже, украли его. На прибое, рядом с моей мотолодкой остался след от носа чужой лодки. Какие-то сволочи ночью приставали. Наши лодки все на месте, и ни одна с якоря не снималась, я проверил. – Он, вдруг, сильно ударил кулаком о стол. – Узнаю кто, убью! Чужаки не могли знать о собаке, это кто-то из нашенских указал! Ох, узнаю!…
Я шмыгнул на улицу и мы с Каштанкой помчались на берег. Каштанка, намного опередив меня, сходу прыгнула на отцову мотолодку (видать, почуяла неладное), все там обнюхала, спрыгнула на песок, обежала все лодки и, вернувшись, вновь запрыгнула на моторку, продолжая искать следы Шарика.
Отец не вынес такой утраты и решил залить свое горе вином. Запил он крепко. Пьяного его мы с мамкой побаивались, поэтому две ночи ночевали у соседей. Оклемался он от такой скорби на четвертый день. И больше о Шарике отец не говорил и не вспоминал.
….. Бывшие наши знакомые, год тому назад уехавшие на юг области, куда-то за Тюмень, прислали нам письмо, в котором писали, что попали они в хороший колхоз и что домишко с огородом им сразу дали и работой обеспечили. И что живут они теперь без горя, без заботы. Мол, разговаривали с председателем на счет вас, и тот де, сказал: «Если они люди работящие, пускай приезжают, нам до зарезу, как руки рабочие нужны».
Как только не противился, не отнекивался отец, матери все же удалось уговорить его поехать на жительство в тот колхоз.
Проводины устроили с вечера. Чуть ли не вся деревня пришла. До утра пили вино, пели песни, частушки, плясали. Многие бабы даже прослезились, говорили, может передумаете…
День погодился теплый, солнечный. Голубое небо без единого облака и полное безветрие. Стоял июль месяц. Лето еще держалось.
Я, как умел, простился с Каштанкой. Наревелся до икоты. Отец привязал ей за шею веревку и отвел к дяде Володе Уткину, своему другу, который сам изъявил желание, чтобы Каштанку оставили ему.
Поплыли мы в Октябрьское на отцовской мотолодке, которую он обязан был передать по акту начальству рыбозавода и только после этого нам надо было сесть на теплоход и следовать дальше.
Вещей у нас с собой почти не было – два чемодана, да сумки с провизией. Основной багаж, скарб, отец загодя отправил контейнером в адрес того самого колхоза, куда мы теперь уезжали. На берег попрощаться, пришли мужики, с которыми отец не один год вместе рыбачил. Уговаривали отца выпить на посошок, прощевальную. Но он наотрез отказался, объяснив это тем, что ему еще предстояло общаться с начальством. И наконец после того как отец обнял, прощаясь, каждого, мы сели в мотолодку. Мужики положили в нос якорь и, навалившись, оттолкнули лодку от берега.
– Счастливо вам добраться! – они замахали руками. – Удачной дороги!! Как обустроитесь, напишите!
– Оставайтесь и вы с миром, – говорила мать провожающим. – Храни вас Господь.
– Бывайте здоровы, мужики! – крикнул им отец. – Авось еще свидимся! Земля-то, говорят, круглая!
– Господи, благослови нас, – мать трижды перекрестилась.
Отец запустил мотор и дал газ. Держась на расстоянии, порядка ста метров от берега, наша бударка взяла курс на Октябрьское. Мать сидела на корме, а я стоял рядом с отцом, у руля и махал рукой мужикам, которые все еще стояли у прибоя и тоже махали нам. Отец обернулся, глянул в сторону отдаляющейся деревни и, громко обратился к матери:
– Ну что, Нина Ефимовна, – как-то официально заговорил он, – жалеть-то не будешь, а?
– Каво жалеть-то?! – крикнула мать. – Рули, знай себе.
– Ну гляди.
Прежде чем моторка начала огибать мыс, я в последний раз глянул в сторону Низям, и … не хотелось верить, но своим острым зрением я увидел, как с горы, во всю прыть неслась Каштанка. Кто-то из мужиков кинулся ей наперерез, но тщетно. Она стрелой, вдоль прибоя, мчалась за нами. Поровнявшись с бударкой, Каштанка не замедляя бега, сиганула в Обь и поплыла. Я заплакал и начал тормошить отца за брючный ремень.
– Папка, папка, – слезы не переставая, катились из моих глаз. – Каштанку, Каштанку возьмем…..
Не зная, как меня успокоить, (отец конечно же все видел) он, своей большой и шершавой ладонью, притянул мою голову к себе, чтобы я больше не оглядывался. Но и прижавшись к отцу, я еще долго скулил, как щенок, которого оторвали от сиськи.
Я плохо понимал тогда, что прощаюсь не только с Каштанкой, но и со своим северным детством, которое уходило от меня навсегда, вместе с кильватером за кормой мотолодки.
…….. От того, что кто-то тормошил меня за плечо, я проснулся и открыл глаза. Рядом стоял Ильдус, так звали моего соседа по койке, в руках он держал большую кружку с кипятком.
– Завязывай катать! – сказал он. – Давай вот нажимай на хаванину, а то в натуре ноги протянешь. А о том, что осталось там, за забором, у тебя еще будет время поразмыслить. Через год, другой поймешь, что многое из прошлого, для каждого из нас, уже анализы.
Я не стал ему возражать, очень хотелось есть. Силы мне теперь нужны были как никогда.
8
Минуло немногим более недели с того дня, как я находился в тюрьме, и все еще был одиноким узником камеры, в которую меня любезно поселил тот самый, в очках, лощеный корпусной. Но, тем не менее, за столь короткий период времени, камера стала для меня вполне уютным, пусть временным, прибежищем, в котором я чувствовал себя довольно таки сносно, даже, я бы сказал, комфортабельно, по сравнению с тем, что мне приходилось слышать о крытых. Я уже имел маломальское представление о внутреннем мире тюрьмы; каких канонов придерживаются ее обитатели и что они предпринимают для того, чтобы жизнь в камере, да и в целом в тюрьме не протекала бы так тоскливо и однообразно. Обстоятельства вынуждали меня вникать в окружающую атмосферу, понимать и анализировать происходящее. О многих правилах здешнего этикета мне поведали соседи, особенно, блистал эрудицией Костя, его хлебом не корми, дай на ушах повисеть. Спасибо Радиону, тот многое разжевал. Бывало, что мы с ним на дню раза по два писали друг другу – благо почта работала лучше всякого телеграфа.
Каждодневно меня выводили на прогулку, на тридцать минут – такова длительность пребывания крытника на свежем воздухе, предусмотренная распорядком. Выводными были двое дубаков – Петро и Иван. Они же водили нашего брата и в баню. И что интересно, всю эту работу они «проворачивали» вдвоем, без чьей бы то ни было помощи, абсолютно уверенные в своей безопасности, не смотря на то, что в недалеком прошлом их предшественники так лопухнулись, что сами оказались закрытыми в дворике и тем самым, как бы, изначально поспособствовали взбунтовавшимся крытникам осуществить свой замысел, последствия которого всем известны – пять трупов. Обычно, Иван находился у двориков в крытом дворе тюрьмы, а Петро, так же один, сопровождал по пять-шесть крытников (в зависимости сколько человек находилось в камере) до двориков, и уводил в камеру тех, у кого время отпущенное на прогулку истекло. В очередной раз, когда меня вывели на прогулку, я услышал как кто-то из наших, из крытников, в соседнем дворике, громко переговаривался с женщинами. (На прогулке были из СИЗО. Так бывало – позволяло количество двориков). «Беседовали» на довольно-таки наболевшую тему, которая в данном положении, видимо, не могла не волновать как одну, так и другую сторону. Ну, в самом деле, не говорить же с дамами о погоде или еще какой чепухе.
– Девчушки?! – подкрикивал кто-то из крытников – Как житуха?
– А по всякому. То пруха, то не пруха. – Голос у ответившей, что у вечной пьянчушки, звучал хрипло.
– Ты по жизни хрипатая, или простудилась?
– Ага, у решки сплю, продуло.
– Так ты на ночь, чеп вставляй. – подливал масла крытник.
В двориках смеялись.
– Самопальный надоел. Больше на него пашешь, а не он на тебя. Вот бы натуральный кто вставил, я б конореечкой пела.
Явно эта «жучка парилась» не впервой. Из нее, как черви после обильного дождя, лезли жаргонные оденки.
– Просись на время прогулки к нам. – напутствовал крытник – И твою хрипоту мы мигом излечим.
– А вас сколько там?
– Да полный комплект – шесть харь. И я, полагаю, каждый не откажется внести посильную лепту.
– Вы внесете, до конца срока хрипеть буду.
– Мы потихонечку, не больно, – заверял крытник.
– Да пошел ты! – рассерженно ответила хрипатая. – Лепила выискался. У тебя поди и шприц однокубовый?
– Подгребай, замеряешь.
– Прекратили базлать! – гаркнул дубак, надзирающий за порядком гулявших сверху, прохаживаясь по деревянному настилу, устроенному поверх мелкой сетки рабицы, которая была двойным слоем натянута над прогулочными двориками. И тут же крикнул вниз, выводным: – Пятый и шестой уводи, до… я балаболят.
Когда с прогулки я вошел в камеру, опешил, уж было подумал, не спутали часом выводные камеру. За столом сидели двое, приблизительно моего возраста. Мы познакомились. Один был смуглый, с угреватой мордой, другой напротив, светлый, с острыми чертами, одним словом, худой. Угреватого звали Валентином, а худого Матвей. Оба с одной зоны – Омской пятерки.
Наконец-то пришла хана моему одиночеству. Через час открылась кормушка и дежурный выдал нам шахматы и домино – неплохая разминка для ума и убийства времени. Вскоре подвернулась писательская работенка Матвею и Валентину. Они строчили малявы, у них здесь тоже чалились земляки – однозонники. После обеда корпусной обоих сводил в коптерку, а ближе к ужину, когда мои сокамерники более или менее освоились, мы заварили чифирку (благо чай у меня имелся), и затем долго долго друг другу «ездили по ушам» и много курили. Не успевал один из нас довести свое повествование до логического завершения, как другой со словами «аналогичный случай произошел у нас на зоне», начинал городить свой огород. Так продолжалось не один день. Запалу хватало. О самом сокровенном, личном что ли, я старался не распространяться. В этой жизни, да еще с малознакомыми тебе людьми, этим делиться не стоило. Здесь, как и на воле, существовало правило, «прежде чем узнать человека, с ним надо пуд соли съесть». И я следовал этому правилу, заведомо зная, что всякий душевный разговор может быть истолкован по разному, потому как зэк, попавший в крытую, это такой материал, на котором пробы ставить негде. И чтобы язык твой не оказался врагом твоим, лучше попридержать коней.
В один из дней, случилась в тюрьме отоварка. А так как денег у нас ни у кого из троих на лицевом счете пока не было, нам такая роскошь не грозила. Мы это знали и, что называется, губы не раскатывали. Но мы недооценили крытников, да и не то, чтобы недооценили, нам и в голову не могло такое прийти. Когда наступило время ужина, и мы услышав, что «луноход» подкатил к нашей хате, взяли миски и подошли к двери, в надежде получить свою порцию каши. Открылась, бряцнув, кормушка и в ту же секунду на ней появились две буханки белого хлеба. Мы с изумлением посмотрели друг на друга. Валентин присел у кормушки и спросил баландера:
– Это… Ты ниче не попутал?
– Берите, берите, – сказал баландер. – Фунтовиков всегда подогревают.
Обескураженные, мы сидели за столом, на котором лежало: десять мягоньких булок хлеба, пять пачек маргарина, три стеклянных банки яблочного повидла и два газетных кулька конфет подушечек. Миски с кашей нас уже не привлекали, но мы и не решались притронуться к подогреву.
– Сейчас, – очухался Валентин. – У соседей проясню это дело. – И нырнул под шконку, к кабуре.
Через пару минут, отряхивая себя, он выдал:
– Можно хавать, не отравимся. Костя сказал, что это нам для разминки. Говорит, после проверки еще будут подгонять.
Мы ниткой нарезали хлеба и кто как умел, варганили бутерброды. Первый кусок, намазанный маргарином и повидлом, я уминал вприкуску с подушечками, а вот второй, уже без конфет, еле одолел. Хорошо кипяток имелся. Живот, имевший выпуклость в сторону позвонка, отказывался менять своей формы, да и желудок от такого количества калорий начинал нехорошо и напоминающе урчать. Проверку мы ждали лежа на шконках, млели. А вскоре, после того, как прекратилось буханье дверями камер и затих лязг ключей, мы до полуночи, с некоторым интервалом, укладывали продукты питания на стол. В большинстве своем, это был хлеб, реже маргарин и подушечки. Бабы из камер следственного корпуса ежевечерне мыли пол у нас на продоле. Вот они (разумеется, с согласия контролера) и передавали нам хавчик, периодически открывая кормушку. А «грев» с первого этажа, мы принимали при помощи «коня». К одному концу шнура, скрученного из трех и более ниток, привязывался грузик (кусочек бетона), затем сквозь решетку и жалюзи конь опускался вниз. И как только шнур оказывался на жалюзи камеры, что находилась под нами, те маячком (прутик от веника или тонкая щепа от тумбочки) затягивали его к себе. Таким вот нехитрым способом крытники подогревали друг друга. В нашем случае, хлеб предварительно резался на «лондори» (ломти), а пачки с маргарином плющились – иначе сквозь жалюзи не втащить. Остаток ночи и первая половина наступившего дня обернулись для нас диким ужасом. Мы все трое, поочередно, как куры с насеста слетали со шконок на «толчок» (пародия на унитаз). Еще сутки отказывались от приема пищи – пайку, конечно, брали. Создавалось впечатление, что нашего брата в этой крытке содержат для поправки пошатнувшегося, от тяжелой работы на зоне, здоровья. Я пока плохо понимал, что это за тюрьма такая? Прижизненный рай в уголовном мире, да и только. Иначе не назовешь…. Однако шло время.
По своему расположению наша камера была внутриугловой и являлась ближайшим связующим звеном с карцером, который находился наискосок в подвале межкорпусного строения. Нам частенько приходилось висеть на решке и, при помощи голосовых связок, переправлять информацию то в одном, то в другом направлении, за что контролеры, открыв кормушку, неоднократно орали на нас, и обещали самих устроить в карцер. Но пока до этого не дошло.
Однажды из карцера нам подкричали, что у них отключили отопление. Как и должно, мы тут же передали информацию по дорожке. И вдруг, спустя какое то время, послышались крики. Тюрьма быстро начала наполняться громким разноголосьем недовольства. Понеслись хлесткие проклятья в адрес администрации. С решек кричали на следственный корпус, чтобы те не оставались в стороне, а поддержали крытников. Мы уже слышали, как в камерах долбили по дверям мисками и ногами. Гул нарастал неистово. И вскоре тюрьма уже напоминала рев огромного водопада, или даже рокот космодрома. Такой шум не мог не слышать город – тюрьма находилась в центре.
Когда, минут через пять, резко открылась дверь нашей камеры (из-за адского гула прозяпали), нас попросту застали врасплох. Мы так молотили мисками о дверь, что чуть не выпали в коридор. Запыханные мы с удивлением и ожиданием чего-то страшного смотрели на капитана ДПНТ (дежурный помощник начальника тюрьмы) и троих контролеров. Но капитан лишь выкрикнул нам:
– Все, прекращайте. Тепло в карцер дали! – и двери захлопнулись.
Мало по малу гул начинал, как бы, скатываться под гору, затихать. И, наконец, выдохнув последний ор, тюрьма обрела покой.
Так еще можно было. Пока сходило…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































